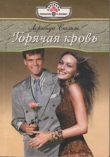Текст книги "Оптимисты"
Автор книги: Эндрю Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
– Весьма упорядоченная жизнь, – сказал отец. – И порядочная, если задуматься. Полагаю, сожалеть в ней ни о чем не приходится.
К концу первой недели декабря у Клема кончились деньги. Тактика банка, одолжившего ему к тому времени значительную сумму, изменилась – вместо вежливых настойчивых писем его стали одолевать постоянными звонками. Он продал «Лейку» («Замечательный аппарат, – сказали в магазине, – приятно такой держать в руках»), получил за нее полторы тысячи наличными, отнес пятьсот в банк, а остальные положил в ящик кухонного стола. Вслед за этим Клем начал подыскивать квартиру подешевле. Через три дня нашлось местечко на Харроу-роуд, в получасе ходьбы от его теперешнего жилья. Район напомнил ему городки, где приходилось бывать во время командировок. Дома рабочего класса, крошечные полупустые магазинчики, заброшенные, сожженные машины; уцелев во время бомбежек прошлой войны, это место впоследствии было целиком приспособлено для нужд городского транспорта, по рассекающей его магистрали часто проносились автомобили аварийных служб. В кафе, демонстрируя остатки латинского величия, сидели португальские мужчины и, прихлебывая из маленьких чашечек кофе, смотрели программы по спутниковому каналу. Новый домовладелец Клема тоже был португальцем, его звали Леонардо. На все обнаруженные в квартире неисправности он смотрел так, словно они появились секунду назад; потом вытащил из кармана отвертку и начал приводить в порядок все, что мог. Огрызком карандаша он набросал список.
– О голубях не беспокойтесь, – сказал он, – я их отравлю.
Рэю и Фрэнки Клем послал записку, извинившись, что не сможет прийти на новоселье. Через несколько дней он написал открытку Клэр (снегирь с веточкой омелы в клюве), в которой сообщал, что, скорее всего, на Рождество будет за границей. В ответной открытке («Византийская мадонна», работа неизвестного художника) она сожалела, что он не сможет приехать, но – что поделать, дела. Возможно, она тоже поедет за границу – в Ирландию или в один из итальянских городков на холмах, о которых он читал ей в Колкомбе.
Двадцать второго числа в Брюсселе арестовали бургомистра. Клем услышал об этом по радио, в ранних вечерних новостях. Представитель бельгийского правительства сказала, что решение будет принимать суд, но лично она не предвидит никаких проблем с экстрадицией. До начала слушания в новом году Рузиндану будут содержать под стражей. Бельгия строго следует принципам международного права, и лицам, обвиняемым в преступлениях против человечества, не удастся уйти от ответственности, спрятавшись на ее территории. Адвокат Рузинданы заявил, что Рузиндану, несомненно, перепутали с другим человеком. Его клиент оказался жертвой злобных наговоров. Он невиновен, и к тому же болен, и хочет лишь одного: чтобы его оставили спокойно жить в кругу семьи.
Канун Рождества выдался холодным и ясным. Клем сидел и пил в пабе напротив церкви. Старик священник забежал выпить виски с горячей водой, потом пошел через дорогу служить полунощную. Клем поплелся домой, поискал на кухне алкоголь, нашел бутылку с остатками темного рома и проснулся на рассвете рождественским утром на ковре; рядом стоял нетронутый стакан рома. За праздник он уложил вещи, а второго января нанял машину и за два раза перевез все на Харроу-роуд, втащил картонные коробки по лестнице и оставил их в новой гостиной. Нижнего соседа звали Мехмет. Он помог Клему внести книжные полки, разобранный стол, матрац. До трех утра Клем распаковывал ящики, потом, лежа на несобранной кровати, прислушивался к шуму ночных автобусов, полицейских машин и непрекращающемуся всю ночь воркованию голубей. Он слышал, как Мехмет ушел из дома еще затемно. Потом он заснул и проснулся около полудня; от резкого пробуждения показалось, что дом опрокидывается на бок, проваливается в уплывающую вниз черную полосу.
На кухне тоже громоздились ящики. Вытащив необходимое, он рассовал остальные коробки по углам. Под кухонным окном была заасфальтированная крыша гаража, на которой, как пассажиры на платформе, собирались голуби с взъерошенными от холода перьями. Иногда птицы устраивались на его подоконнике. Однажды утром он попробовал их нарисовать, но набросок получился чересчур детским, и он выбросил его.
В конце января сильно похолодало; выяснилось, что нагреть воздух в квартире невозможно. Пришел Леонардо и постучал по неисправному котлу ручкой отвертки. Он сообщил Клему, что его дочка только что сдала экзамены на зубного врача, и поинтересовался, знает ли Клем, сколько дантисты зарабатывают. Клем поздравил его. Леонардо сказал, что холодная погода не продержится. Клем согласился. Он начал ходить в квартире в пальто и спать не раздеваясь. Когда в комнатах становилось слишком холодно, он спускался в кафе и присоединялся к смотревшим телевизор мужчинам. Его отношения со временем сделались странными и противоречивыми: казалось, что он почти выпал из него, но при этом было чувство, что его время истекает с пугающей скоростью. Одно время он думал позвонить Кирсти Шнайдер и узнать, как проходит в Брюсселе экстрадиция, но вдруг понял, что судебная версия справедливости его не очень-то интересует. Делом суда было заявить, что такие люди, как Рузиндана, представляют собой отклонение от нормы, раковые клетки на теле общества, которые нужно вырезать скальпелем закона, и тогда пациент опять будет абсолютно здоров. Суд постановит, что рузинданы были случайными явлениями, выродками, аморальными уродцами.
Сидя на кухне на оставшемся от прежнего жильца стуле, Клем начал вести записи. Он писал в разлинованном блокноте, стопка страниц у левого локтя увеличивалась. Он писал о Норе и слепоте, о Клэр и душевном здоровье. Описал похороны Норы, погребальные машины, стекающиеся, как черная патока, к дому по узким улочкам. Описал Зару и молодую проститутку в беленьких тапочках, Фрэнка Сильвермена и Шелли-Анн, Лоренсию Карамеру и Эмиля. Он писал о своих фотографиях – утомленном взгляде президента, ведомой стражниками, изящной, как балерина, безутешной тамильской девочке, толпах людей в Карачи, разогнанных муссонным дождем. Писал про Одетту, маленькую Одетту Семугеши в голубом сарафанчике, которая, может, и излечит их всех. Его не покидала надежда, что, если он напишет достаточно, он найдет достаточно доводов против имеющегося в настоящее время бесспорного, логически обоснованного, неизбежного заключения. Целыми днями он продолжал писать, но слова ложились на бумагу криво. Мысли не укладывались в рамки языка, у него были свои законы, и чем больше Клем писал, тем больше они проявлялись, и его правда отклонялась от правды Клема на самый неожиданный угол.
Он купил новый блокнот и написал рассказ от имени человека, спасенного с плота Жерико. Рассказ начинался с момента, когда их отнесло волнами и поднялся крик, в то время как плот удалялся все дальше и дальше. Потом – страх, борьба, вспышка болезни, больные, сталкиваемые по ночам в море. Тирания мощи, тирания немощи. Головокружительное самопознание.
Клем выбрал в качестве рассказчика сидящего в задней части плота человека с покрытой головой, философа, держащего на коленях труп молодого человека. Пройдет немного времени – и голод пересилит в нем отвращение, он начнет обгладывать кости юноши, отгоняя тех, кто попытается отнять у него кусок. Он больше не разглядывает горизонт, наоборот, отгоняет мысль о возможном спасении. Если их найдут, они, с их жуткими привычками, окажутся заразой, духовной чумой, темным пятном на фоне светлых надежд. Он мечтает о новой буре, сильнее прежней. И, услышав крик впередсмотрящего, пронзающий, казалось, бездонную небесную пустоту, что подумал он? Засмеялся ли? Бросился ли в пучину набежавшей волны?
Рассказ занимал всего несколько страниц, и, хотя что-то с ним, очевидно, было не так, он был доволен им больше, чем предыдущим блокнотом. Аккуратно переписав его, он отложил блокнот в сторону. В кухонном окне виднелись неподвижные грязно-серые облака. Клем вышел на улицу. Он не знал, сколько сейчас времени, видимо, было около полудня. Проходя мимо кладбища, он сообразил, что забыл шарф и перчатки, и засунул руки в карманы. Лондон был нынче словно железным. Каблуки звенели по брусчатке. Даже его дыхание казалось искусно выкованным из сероватого металла. На перекрестке он повернул направо на Килберн-лейн, прошел вдоль канала, потом перешел через железнодорожный мост и вышел в Аллею. Оставшимся у него ключом открыл дверь старой квартиры. В прихожей у двери скопилась груда писем, в основном таких, за которыми адресаты ленятся заходить. Несколько конвертов предназначались ему, еще была фотооткрытка с изображением гавани. Все письма оказались счетами или информационными листками, кроме одного – маленького коричневого конверта из отдела здравоохранения, с назначением, решил он, на прием у врача в глазной больнице. Этот конверт и открытку Клем положил в карман пальто. Захлопнув входную дверь, он пошел дальше. Начал падать легкий, несмелый снежок. Около церкви кто-то положил у шеи и колен деревянного Христа живые цветы – розы на длинных стеблях, такие красные, что казалось, сожми их в кулак, и цвет закапает из них, как сок. Любуясь, Клем замедлил шаги, потом зашагал дальше, под западной эстакадой, и опять вверх, к старому полицейскому участку у бульвара Голландский Парк. Поднявшись на несколько ступенек, он попал в крошечную приемную. За столом никого не было. Он подождал. Через несколько минут появилась женщина в сержантской форме.
Клем сказал, что хочет поговорить с сотрудником из отдела уголовного розыска.
– По какому поводу? – спросила она.
Клем сказал, что у него есть кое-какие сведения. Посмотрев на него с секунду, она предложила сесть. Перед ним дожидались еще трое, которых, как казалось Клему, заносило сюда далеко не впервой. Расстегнув пальто, он достал из кармана открытку, она оказалась от Клэр. Гавань на обороте была в Корке. Неподалеку от нее, в деревне, жили родители Фионы Фиак, и Клэр у них гостила. Она писала про них: они абсолютно такие, какими ты их наверняка воображаешь. Тут его позвали, и он поднялся.
– Следователь Келли, – представился мужчина.
Он провел Клема к расположенным в глубине приемной дверям, набрал номер на кодовом замке и отошел в сторону, пропуская Клема вперед. Они уселись за столом напротив друг друга. Келли – бледный, темноглазый, с коротко остриженными волосами. Было в нем что-то от идущего на поправку пациента. Он смотрел на Клема с таким же, как у сержанта, вопрошающим выражением, потом спросил, какие сведения Клем хочет сообщить. Клем ответил, что это касается изнасилованной в июне испанской девушки. Следователь ждал продолжения.
– И что? – спросил он.
– Это сделал я, – ответил Клем.
– Что сделал?
– Изнасилование.
– Вы сознаетесь в изнасиловании?
– Да.
Следователь втянул щеки, потом открыл ящик стола и вытащил из него лист бумаги и ручку. Бросив взгляд на часы, он пометил на листе время, потом спросил полное имя Клема, его адрес и тоже записал.
– Так кто была эта испанская девушка?
– Я не знаю, как ее зовут, – сказал Клем.
– Нападение имело место в прошлом июне?
– Да.
– Где?
– На Портобелло-роуд.
– В доме?
– На улице.
– Понятно.
На стене висел телефон. Следователь кратко переговорил с кем-то и потом как-то очень буднично арестовал Клема. Он спросил, не хочет ли Клем позвонить юристу. Клем сказал, что не хочет. Вошел молодой констебль в форме. Келли поднялся и, захватив исписанный лист, вышел. Клем попросил разрешения курить. Молодой полицейский вытащил из ящика стола блюдечко и поставил его на стол. Клем закурил. Высоко на противоположной стене было окно, сквозь которое он видел кусочек неба. Похоже, уже смеркалось. Келли не было минут двадцать. «Интересно, найдет он запись о моем нападении на Паулюса?» – думал Клем. Келли вернулся с досье в руках. Присев к столу, он положил досье перед собой и раскрыл.
– Еще раз, для ясности, – произнес он, – вы говорите, что изнасиловали испанскую девушку?
– Да, – сказал Клем, – а разве вы не должны были это записать?
– Луису де Кастро.
– Так ее зовут?
Келли кивнул.
– Двадцать пятого июня в двадцать три пятьдесят с мобильного телефона был произведен аварийный звонок в полицию, девять-девять-девять. С ее мобильного телефона. Мужчина заявил о нападении на девушку. Он дал адрес – Портобелло-роуд, но не назвал своего имени. Вам известно, кто звонил?
– Нет.
– Вы уверены?
– Да.
С молодым полицейским по одну сторону и Келли – по другую Клем прошел через приемную, затем, через защитную дверь, – в дальний конец участка. Женщина-сержант, с которой Клем разговаривал раньше, взяла его под стражу. Он выложил на стол содержимое карманов, потом расписался на бланке, потом на другом – о том, что не нуждается в юристе. Келли ушел. Сержант и констебль провели Клема в камеру. В ней сильно пахло хлоркой. Он сел на кровать. Дверь со стуком захлопнулась. Он лег. В соседней камере другой заключенный невнятно тянул песню, его бормотание порой переходило в пронзительный речитатив, потом постепенно смолкло. Клем пожалел, что у него отобрали сигареты и зажигалку. Он закрыл глаза, потом опять открыл и, прищурившись, стал смотреть на вмонтированную в потолок защищенную металлической сеткой лампу.
Часа через три замок на двери щелкнул. В камеру с папкой под мышкой вошел Келли. Клем поднялся.
– Луиса де Кастро уехала обратно в Испанию, – сказал следователь, – Если точнее – в город Бургос.
Клем кивнул. Бургос. На секунду в его воображении появился этот городок – плод его воображения – со строгими церквями и залитыми ослепительным солнцем маленькими площадями.
– В июле, – продолжал Келли, – она училась на языковых курсах. В институте Чарльза Диккенса или какой-то подобной херовине. В общем, как-то ночью они перепили сангрии и она подралась со своим дружком Карлосом, а поскольку характеры у них поэкспрессивнее и пошумнее наших, страсти накалились. Улавливаете, к чему я?
– Да, – сказал Клем.
– Никакого изнасилования не было, – сказал Келли, – была ужасно смущенная испанская девчонка с раскалывающейся с похмелья головой. Но изнасилования не было. – Он помолчал, потом сказал: – Подите сюда.
Клем подошел. Прислонив его спиной к стене камеры, Келли оперся на локоть рядом с его лицом.
– Вы не изнасиловали Луису де Кастро, – сказал он тихо, – никто ее не насиловал. Вы меня ввели в заблуждение, Клемент. Морочили мне все это время мозги. А поэтому мне теперь нужно решить, предъявлять ли вам обвинение в том, что вы заставили полицию зря потратить время, хотя, предъяви я вам обвинение, я потеряю с вами еще больше времени, а его у меня, честно говоря, и так нет.
Отойдя от Клема, он секунд пятнадцать-двадцать нахмурившись стоял, уставившись в верхний угол.
– Слезы, – опять обернувшись к узнику, проговорил он. – О ком это, интересно? Вряд ли о Луисе де Кастро, она в них не нуждается. О себе? Обо мне? – Он покачал головой, – Я вас, Клемент, понимаю лучше, чем вам кажется. Вы – из породы спасителей человечества, из тех, что постоянно размышляют о бездне морального падения. Вина лежит на всех, потому что все связаны воедино. Печать Каина на каждом челе. Исповедавшись в преступлении, вы чувствуете облегчение, что – не так? Как чирей прорвало, верно? Может, вас это удивит, Клемент, но я тоже думал об этом. Я тут такого насмотрелся… Настоящие насильники, убийцы. Люди, совершающие над другими людьми ужасные, отвратительные злодеяния. Возвращаюсь вечером домой, бреюсь, гляжу на отражение в зеркале и думаю: что это за человек, такой же или все-таки другой? Но потом я провел черту. Сплю теперь, как младенец. Просыпаюсь, иду на работу. Приношу пользу. Вот вы, Клемент, чем занимаетесь?
– Фотографией.
– Фотограф, значит?
– Да.
– Хороший?
– Был хороший.
Следователь кивнул.
– Если я вас здесь еще раз увижу, обещаю неприятности. Если будете искать неприятностей, обязательно на них нарветесь. Поняли?
Он повернулся и вышел из камеры. Женщина-сержант провела Клема обратно вверх по лестнице. Она выдала ему пакет с вещами, объявила, что он освобождается, и сунула в руки открытку с телефонными номерами службы социальной помощи. Расписавшись в получении вещей, он прошел за сержантом через приемную к выходу из участка. Все еще шел снег. Он видел, как снежинки кружатся в дымчатых ореолах уличных фонарей. Клем застегнул пальто, поднял воротник. На улице в такую ночь почти никого не было. Он миновал станцию метро, эстакаду, церковь. Проходя рядом с запечатанным металлическими щитами домом, где некогда обитали наркоманы, он неожиданно почувствовал, что не в силах идти дальше, и остановился. Ухватившись за перила, он, шатаясь, добрался по дорожке до входа и уселся на ступеньки, опершись спиной о стальную дверь. С нескольких попыток удалось раскурить сигарету. Снег пошел гуще, но тише, крупные снежинки мягко касались щек. Клем судорожно вздохнул; опять полились слезы: теплые, липкие, соленые, они стекали по крыльям носа. Он и сейчас не смог бы ответить следователю, о ком он плачет. «О себе, – думал он, – наверное, только о себе». Вытерев глаза, он глубоко, всеми легкими вдохнул металлический холод ночного воздуха. Казалось, что-то изошло из него, осталось трезвое, ясное чувство. Он сидел, закинув голову, и снежинки падали на закрытые глаза, губы, в открытый рот. Измученный за последние месяцы бесплодными мыслями мозг напоминал обширный зал, в который наконец добрался луч света – чистого, снежно-белого света. Он – не преступник. Не святой. Невозможно найти прибежище в крайностях с их простотой объяснений. И хотя смысл резни в Н*** оставался неясным, как черное пятно на фоне ослепительного, заливающего все вокруг, невыносимого для глаз света, ему казалось, он достиг точки, из которой можно начать двигаться, опираясь на едва ощутимую веру в себя и едва уцелевшую, упрямо живучую веру в других.
Растерев окоченевшие пальцы, он вытащил из бумажника три слайда – с Одеттой, бургомистром и классной стеной – и легонько, словно вклеивая на белую альбомную страницу, вдавил их в снег между ботинок. Через минуту их едва было видно, еще через минуту они были полностью погребены под снегом. Он поднялся, отряхнул снег с пальто. Завтра в утренних газетах появятся статьи о снегопаде, занесенных дорогах; на рассвете Лондон предстанет необычно нарядным. Прищурив глаза от летящих навстречу снежинок, Клем вышел из ворот, пересек железнодорожный мост, пересек канал, повернул у кладбищенской стены и, склоняясь под порывами ветра, яростно швыряющего в лицо снег и заглушающего звук шагов, продолжал идти, оставляя за собой след, извилистый, как след подранка, как ускользающей от охотника дичи.