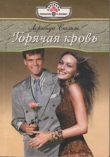Текст книги "Оптимисты"
Автор книги: Эндрю Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
– К нам пришли гости, – объявила она.
Клем последовал за ней на кухню. Посередине комнаты был стол, освещенный по центру лампой; у стола сидел Эмиль и, раскачивая ногой, читал комикс. Увидев Клема, он обрадовался и тут же потащил его в свою комнату похвастаться полученным на прошлый день рождения гоночным велосипедом ярко-вишневого цвета, стоявшим у стены под портретом непобедимого чемпиона Эдди Меркса [54]54
Эдди Меркс(р. 1945) – знаменитый шоссейный велогонщик из Бельгии, получивший прозвище Каннибал из-за того, что старался выиграть каждую гонку, в которой принимал участие.
[Закрыть]. Хоть Клем и не ездил на велосипедах много лет и плохо в них разбирался, ему было ясно, что велосипед – дорогой, особенно для ребенка, которому он станет мал через год. Он слушал объяснения Эмиля про скорости, специальные сплавы.
– Это один из самых лучших велосипедов, какие я видел, – сказал он.
Чей подарок, Клем не стал спрашивать. Хотелось думать, что это Лоренсия сэкономила сыну на подарок из своей зарплаты в ФИА.
На кухне, орудуя ножом с длинным лезвием и топориком, Лоренсия разделывала купленную ими в гастрономе курицу, потом обваляла кусочки в муке и смеси приправ. Пахло горячим маслом, к его запаху примешивался бумажный аромат варящегося на пару риса. Откупорив бутылку белого вина, Клем поставил стакан рядом с разделочной доской.
– Спасибо, – поблагодарила она.
– Вы за пальцы не боитесь? – спросил он.
Она помотала головой. Одна щека была испачкана мукой. Клем присел к столу рядом с Эмилем. Дверной проем за спиной мальчика был завешен красной или красно-коричневой шторой. Они разговаривали с Эмилем о музыке, велосипедах и комиксах. Лоренсия жарила курицу, масло на сковородке брызгалось и шипело. Без четверти восемь они сели ужинать. Клем подлил в стаканы вина. Ужин получился очень вкусный, и он сказал это три или четыре раза. Она спросила, готовит ли он дома, в Лондоне.
– Я редко бываю дома, – сказал Клем и признался, что готовить частенько лень и он обходится консервами.
– Как медведь, – сказала она.
– Почему медведь?
– Мы смотрели фильм про медведей, как они выискивают продукты в мусорных кучах, – сказала она, – А когда находят недоеденную консервную банку, то осторожно вылизывают ее длинным языком.
Эмиль хихикнул.
– Именно так, – подтвердил Клем.
Покончив с едой, они оставили посуду и перешли в гостиную. У стены напротив окна стояло пианино, и Эмиль сыграл на нем пьесу; Клем поаплодировал. Затем, устроившись на диване, они смотрели телевизор, пока Эмилю не пришло время спать. Вернувшись в гостиную в черно-синей пижаме с футбольным рисунком, он пожелал Клему спокойной ночи по-французски и по-английски. Лоренсия пошла его укладывать, а Клем отправился на кухню и начал мыть посуду. Тарелки, кастрюли, нож, топорик.
– Зачем вы, оставьте, – сказала она, вернувшись из спальни Эмиля и застав его у мойки.
– Уже почти все, – вытирая руки и поворачиваясь, ответил он.
Она стояла в проеме кухонной двери, и он опять, как и приближаясь к ней впервые у входа в «Марсианский пейзаж», отметил, как она одинока и с какой гордостью это скрывает.
– Еще немного вина осталось, – сказал он, – Хватит по стаканчику.
– Вам нужно скоро уходить, – сказала она.
– Я знаю.
Он разлил остатки вина; вернувшись в гостиную, они уселись на диван. Телевизор Лоренсия не выключила.
– Он лучше засыпает со звуком, – объяснила она.
– Он сильно скучает по отцу?
Она пожала плечами:
– Эмиль редко о нем говорит. Думает, что это меня расстраивает.
– Разве это не так?
– Я не хочу жить прошлым.
– А будущим?
– Будущего я не боюсь.
– Вам совсем немного было, когда вы сюда приехали.
– Семнадцать.
– Семнадцать – это очень мало.
– Угу.
– Наверное, было ужасно трудно.
– Думаете, можете представить?
– Думаю, немного могу.
– Нет, – сказала она. – Не можете.
Он не согласился, хотя опасался, что она права. Ну как он мог это представить? Но потом подумал, что попытаться представить – это уже важно, и сказал ей об этом.
Она спросила о его работе. Он начал рассказывать, в основном о первых годах работы, о смешных случаях поры ученичества; потом – о том, как ему повезло и он оказался в четыре часа утра в отеле в Луббоке, штат Техас, в одной комнате с измученным предвыборной кампанией Рональдом Рейганом. После этого шесть-семь месяцев в году он начал проводить в командировках.
– В зонах военных действий?
Ездил, куда посылало начальство, сказал он. Много всего разного фотографировал. Ярмарку лошадей в Камарге. Беспорядки в Карачи. Карнавал Рио. Слепого писателя Хорхе Луи Борхеса. Сфотографировал пятнадцатилетнюю тамильскую террористку-самоубийцу после того, как не сработала прикрепленная на ее поясе бомба. Эта фотография, на которой девчушка стояла между двух солдат, каждый из которых едва ли был старше ее, попала на обложку «Тайма».
– Ее провал сослужил вам хорошую службу, – сказала Лоренсия, но яда в ее голосе не было.
Он согласился с ней.
– А вы вспоминаете потом этих людей? – спросила она.
– Иногда.
Об апреле он не рассказал, избегал даже близко затронуть эту тему. По телевизору началась спортивная программа. Они посмотрели начало забега, потом Лоренсия выключила экран.
– Уже уснул, – сказала она.
– Я, пожалуй, пойду, – сказал Клем.
Лоренсия кивнула.
Он наклонился и поцеловал ее в губы. Будто собираясь оттолкнуть, ее рука оказалась между ними, но отпора не последовало. Он погладил ее и пододвинулся ближе, потом начал расстегивать пуговицы на ее рубашке.
Когда он добрался до третьей пуговицы, она сказала:
– Нет.
Они поднялись, и она оправила рубашку.
– Ты за этим пришел?
– Что?
– За этим ты сюда пришел?
– Я за тобой пришел, – сказал он. – Если хочешь, я уйду.
Выключив лампу в гостиной, она оставила гореть свет в коридоре и маленький ночник на кухне.
– Ступай тише, – сказала она.
Ее комната была рядом со входной дверью, ванная – по другую сторону коридора. Сидя на краю кровати, Клем ждал, пока она выйдет из ванной. Стены в комнате были лиловые, потолок – белый. Его начало лихорадить. Поднявшись, он принялся кружить по комнате, обхватив себя руками за плечи, глядя на фотографии Эмиля, вазочку с шелковыми цветами на трюмо, разбросанные у постели журналы. Она вошла – босоногая, без следов косметики, в бело-голубом японском халате.
– Ты еще не разделся, – сказала она.
Быстро, скинув одежду на пол, он разделся. Остановившись напротив, она дотронулась рукой до его лица, груди, пальцы у нее были прохладные. Потом подошла к туалетному столику, зажгла восковую свечу медового цвета, выключила верхний свет и сбросила халат. Бок о бок они легли на кровать.
– Только тихо, – сказала она, – Шуметь нельзя.
Взяв его руку, она сжала ее между бедер. Он склонился над ней, целуя лицо, грудь, чувствуя пальцами ее влагу. Она попросила его взять в рот сосок груди и, когда он, крепко охватив губами, начал сосать, издала приглушенный стон наслаждения. Они двигались в общем ритме; она оказалась сильным партнером. Когда Клем попытался оказаться наверху, она опрокинула его на спину и оседлала, охватив ногами, – покачивающиеся в промежутке между телами соски скользили по его коже. В желтом, медовом свете, охваченные желанием, они всматривались друг в друга, словно надеясь увидеть во взгляде партнера отражение внутренней жизни, следы, оставленные вырвавшейся на поверхность душой, как остается рябь на поверхности воды от ударов хвоста белобрюхого карпа. Когда их движения стали чересчур энергичными, чересчур шумными, она замедлила ритм, прижавшись к нему с жаркой улыбкой. Языком он слизывал с ее шеи пот. Бедра ее лоснились. Она крепко прижалась к нему, потом прогнулась назад, потом прижалась опять и, просунув между ними руку, длинными пальцами, отвернув в сторону лицо и издавая горловые звуки, словно рыдания о минувшем, начала торопить наступление экстаза.
Две-три минуты они лежали в обнимку, словно выброшенные на берег жертвы кораблекрушения, потом, оторвавшись от него, она подобрала с пола халат и вышла из комнаты.
– Не гаси свечку, – попросил он, когда Лоренсия вернулась; она забралась к нему под одеяло. – Ты знала, что мы будем этим заниматься?
– Нет, – ответила она. – Откуда бы я знала? А ты?
– Вообще-то, нет.
– Но надеялся?
– Конечно, – засмеялся он. – Конечно надеялся.
Спал он крепко, без снов. Когда проснулся, свеча почти догорела, пламя дрожало на фитиле, как рябь на воде, расплескивая по потолку отблески света. С соседней подушки Лоренсия смотрела на него широко открытыми глазами.
– Что это? – шепотом спросил он.
С лестничной площадки послышались шум и лязганье лифта. Через минуту в замке входной двери провернулся ключ, кто-то отворил и мягко закрыл дверь. Лоренсия поднесла палец к губам. Шаги, на секунду замерев напротив дверей спальни, удалились в сторону гостиной.
– Не обращай внимания, – прошептала она.
– Кто это?
– Постоялец, – ответила она («un locataire»). – Возвращается поздно и рано уходит.
Шаги опять приблизились. В ванной раздался звук падающей из-под крана воды, мужской кашель, шум сливаемого бачка. Потом незнакомец опять скрылся в глубине квартиры.
Интересно, почему она ничего не сказала о нем раньше? И где он ночует, этот постоялец? Может, за гостиной есть еще одна комната, входа в которую он не заметил? Он собирался расспросить ее, но заметил, что она уже закрыла глаза и, видимо, заснула. С легким чувством ревности вспомнился мускулистый молодой человек – как там его звали? Жан? Уж не он ли снимает здесь комнату? Но с чего бы? Почему это лезет ему в голову? Сдавать комнату – очень разумная идея, особенно если она работает в ФИА только на полставки и при этом приходится платить за уроки музыки и дорогие велосипеды. Он лежал и прислушивался, но слышал только, как по окну мягко бьет дождь, а за несколько улиц вдалеке разворачивается машина. Найдя под одеялом ее ладонь, он осторожно накрыл ее своей; не просыпаясь, она что-то пробормотала, возможно его имя, и он заснул.
Когда Клем проснулся в другой раз, свеча уже погасла, и, пока он не уловил ее ровное дыхание, ему на секунду показалось, что он опять лежит в комнате дачного домика в Колкомбе и что опять перегорели пробки. Сдвинувшись к своему краю кровати, он тихонько опустил ноги на пол, потом нагишом пересек, словно вплавь, черноту комнаты, достиг темной двери и очутился во мраке прохода. Когда он потянул за шнур выключателя в туалете, внезапно хлынувший свет заставил его зажмуриться. Электронный циферблат часов на полке над ванной показывал 4.47. Помочившись, он опустил сиденье и вышел, не слив воду. Клем не знал, где в коридоре выключатель, и добрался до кухни при слабом свете, просачивающемся из ванной. Кухонная дверь оказалась закрытой. Войдя, он наполнил стакан минеральной водой из холодильника, выпил и наполнил опять, собираясь взять его с собой в спальню. Он уже почти закрывал дверь, представляя уже, как он опять оказывается рядом с Лоренсией, прижимается к ней, но вдруг остановился, поднял голову и принюхался. Пахло пищей – курицей, маслом, чуть-чуть табаком. И чем-то еще – тот же запах, который он уловил в ванной, только сильнее.
Он вышел в коридор, заглянул в пустую гостиную, затем вернулся на кухню. Не обращай внимания, сказала она, тебе не стоит о нем думать, но он уже вспомнил этот запах, почуянный впервые три дня назад в кафе у церкви Святого Бонифация. Сладковатый ром – специи и сладковатый ром. Поставив стакан с водой на стол, он повернулся к портьере, у которой сидел Эмиль во время их беседы перед ужином. Померещилось ему или она действительно двинулась? Может, складки пошевелились от сквозняка? В три прыжка он оказался у мойки, рядом с полкой, на которую складывал вымытую после ужина посуду. Отыскал топорик и длинный нож, примерил оба в руке, потом отложил топорик и сжал в кулаке нож. Приблизившись к портьере, он застыл рядом с ней, прислушиваясь. Когда в висках перестала стучать кровь, он, ухватив край материи двумя пальцами, отдернул ее в сторону. Глазам предстала тускло освещенная крошечная комнатка – похожий на монашескую келью альков с узкой неразобранной кроватью, в которой никто не ночевал, и простой деревянный стул. Больше мебели в комнате не было. Ни искаженного яростью лица, ни перепуганного взгляда – только на стуле лежали наполовину съеденная плитка шоколада, книга и пара сложенных очков. Он поднял книгу и поднес ее к свету. Это был Новый Завет в помятом, погнутом картонном переплете – издание, распространяемое французской евангелистской организацией, базирующейся в Алжире. Ленточкой была заложена страница Евангелия от Иоанна. «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает» [55]55
Иоан. 15:2.
[Закрыть], – прочитал он, закрыл книгу и потянулся за очками, но, едва коснувшись их пальцами, опять услыхал мягкий звук открываемой и закрываемой входной двери и, через секунду, – звук ожившего лифта, ползущего вниз и приземляющегося с приглушенным стуком. Он поспешил к кухонному окну, но увидел из него лишь сверкающие на фоне беззвездного чернильного неба освещенные лестничные пролеты соседнего дома. Улицу отсюда разглядеть не удалось бы, как не получилось бы заметить и одинокую фигуру уходящего человека.
Он вернулся в комнатку, к кровати, так напоминающей постель отца на острове или сильверменовскую «мечту о послушничестве» в Торонто. Присев на одеяло, чувствуя бедром лезвие ножа, он крутил в руках очки, разглядывая тяжелую оправу, грязные линзы. Затем очень осторожно, словно боясь заразиться от прикосновения, поднял их на уровень глаз, надел и, моргая, стал рассматривать кухню, покосившийся стол, перепутанный узор теней на плитках пола. Конечно, он не знал, какая болезнь одолевала глаза бургомистра – он и про свои-то глаза мало что знал, – но через минуту-другую, напрягая и расслабляя глазные мускулы, ему удалось скорректировать зрение. Мир проступил яснее.
Часть четвертая
3.01. Совокупность всех истинных мыслей есть образ мира.
24
Последний гимн был «Иерусалим», потом пастор произнес свое пастырское слово, потом на маленьком органе заиграли марш. Двери распахнулись: под своды башни вступили Фрэнки и Рэй. Золотые стрелки на голубом циферблате часов над их головами показывали полчетвертого. Фотограф, упитанный ветеран с зубами цвета луковой шелухи, пронзительным голосом сообщил, стоя на стуле, что не может вместить всех в кадр.
– Вы все теперь – одна семья, – кричал он. – Потеснитесь же, ближе, ближе.
Он считал до трех, сверкала вспышка, потом еще одна. Все начали спускаться по церковным ступенькам. Вильям Гласс, в костюме, в котором работал еще в Филтоне, оскользнулся на куче жухлых листьев. Клем помог ему подняться, Лора почистила сзади пиджак. Разукрашенная лентами «альфа» была припаркована у дороги. День выдался такой теплый, что крышу решили опустить. Фрэнки включила двигатель. Весь прилизанный, Кеннет бросил первую пригоршню конфетти, а за ним и другие начали выхватывать горстями из карманов и сумок розовые и голубые кружочки. Машина унеслась прочь, оставив за собой кружащееся красно-синее облако, оседающее на грязную дорогу, траву и придорожные кусты.
Отомкнув дверцы старого «вольво», Клем пропустил внутрь Лору и отца. Позади них был припаркован фургон Фиак. Сквозь лобовое стекло Клэр помахала ему рукой, он махнул в ответ, забрался в машину и минут десять пытался завести двигатель. Они уехали последними и последними подъехали к дому. Пока он выбирал на дорожке место для парковки, пока Лора, раскачавшись, сползала с высокого кожаного сиденья, четверка нанятых музыкантов под натянутым шатром вдохновенно вдарила «Я ни о чем не жалею» [57]57
«Я ни о чем не жалею»(«Non, je ne regrette rien») – песня Шарля Дюмона и Мишеля Вокера, написанная в 1960 г. для Эдит Пиаф.
[Закрыть]. Под тентом уже танцевало несколько пар. В основном это были друзья Фрэнки – мужчины в джинсах и белых льняных пиджаках и женщины, кружащиеся в ярких цветных платьях. Чудаки, идеалисты, любители спиртного, яростные курильщики, поэты, надуватели фондов социальной помощи. Эта с виду несколько хрупкая толпа вплывала в пору зрелости, оказывая ей такое сопротивление, какое могли осилить ее тощие кошельки. Толпа Рэя не материализовалась. Была только его мать и еще две женщины одного с ней возраста, да девушка с пустым взглядом и насморком, да молодой человек с густой челкой и значком на лацкане, объявлявшим «Величие неизбежно (но куда торопиться?)». Дружкой был грек, о котором никому, кроме Рэя, относившегося к нему с большой почтительностью, казалось, не было ничего известно.
По одну сторону шатра стояли столы на козлах, уставленные зелеными бутылками, винными бокалами, жестянками с пивом. Две школьницы в белых рубашках – эти-то откуда взялись? – разносили тарелки с яйцами в колбасном фарше, копченым лососем на ломтиках черного хлеба, сосиски на палочках. Клем разыскал стулья для отца и Клэр. Фиак держалась в стороне, пристроившись со стаканом минеральной воды подальше от танцевавших.
Речи были краткими. Лора с нежностью говорила о Фрэнки. Про Рэя она сказала, что у нее сначала были сомнения, но они рассеялись. Рэй оказался хорошим человеком и, засмеялась она, неисправимым оптимистом! Потом Лора попросила выпить за отца Фрэнки, Ронни, и второй тост – за тетю Фрэнки, ее любимую покойную сестру Нору, и утерла глаза скомканной розовой салфеткой. Поднявшись, Фрэнки обняла ее, все завздыхали и захлопали. Дружка говорил так, словно прошел обучение в классической школе ораторского искусства. Поглаживая бороду, он призвал соответствующих богов, процитировал Эзопа – в общем, выражался обворожительно и малопонятно. Рэй поблагодарил всех присутствующих. Он заявил, что является живым подтверждением того, что прекрасные вещи могут происходить в жизни самых неподходящих для этого людей. Никто не должен терять надежду на любовь, сказал он, каждому сердцу – свое время. Возвращаясь к более практической стороне, он сообщил, что благодаря помощи госпожи Харвуд им наконец удалось получить ипотеку на квартиру в Попларе и до Рождества они планируют туда перебраться. Приглашаются все умеющие держать в руках малярную кисть. Взяв Фрэнки за руку, он неловко спрыгнул с импровизированной платформы на примятую траву. Музыканты заиграли «Летнюю пору» [58]58
«Летняя пора»(«Summertime») – ария из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» (1935).
[Закрыть]в ритме джаза, но Рэй кружил Фрэнки исключительно в собственном ритме.
У входа в палатку Клем заметил одиноко стоящую Джейн Кроули и подошел поздороваться.
– Вам принести что-нибудь выпить? – спросил он. Она покачала головой:
– К сожалению, мне некогда. Вы скажете Лоре, что я заходила?
– Разумеется.
– Спасибо.
– Вы видели Клэр? – спросил он, – Я имею в виду, на приеме.
– На прошлой неделе.
– Как она, на ваш взгляд, хорошо поправляется?
– На редкость хорошо.
– Когда мы приехали, она не смогла бы пойти на такое торжество.
– Не смогла бы.
– И вы думаете, это будет продолжаться?
– Что?
– Выздоровление.
– Если она будет вести себя правильно.
– Следить за собой?
– Да.
Она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Интересно, помнит она про мои глаза или не напоминает, потому что сейчас не на работе? Хотя официально я даже не зарегистрирован в числе ее пациентов.
– Я уезжал, – сказал он.
– Лора мне говорила. И как, успешно?
– Ничего не произошло, – сообщил он.
– Вы не нашли человека, которого искали?
– Как оказалось, не нашел.
– Жаль.
Он опять спросил, может, она все-таки выпьет.
– Нет-нет, нужно идти. Меня ждут.
Клем проводил ее из шатра и смотрел, как она пробирается между припаркованными машинами, поворачивает у ворот и скрывается из виду. Ее уход отозвался в нем на несколько секунд острой печалью, будто он потерял человека – последнего человека? – могущего ему помочь. Затем, вернувшись в палатку, он прихватил со стола бутылку красного вина и пошел туда, где, держась за руки, как влюбленные, сидели отец и Клэр.
Он разлил вино, и они выпили за здоровье друг друга. Извинившись, Клэр ушла разыскать Фиак. Музыканты заиграли канкан, и гости, выстроившись в линию, задрыгали ногами, пиная воздух.
– А она – не такое уж страшилище, – сказал отец.
– Кто? – спросил Клем.
– Финола Фиак. Не такая воинственная амазонка, как я ожидал.
– Нет, конечно, – сказал Клем. – И если она нравится Клэр…
– Они, похоже, очень близкие подруги?
Клем искоса глянул на отца, но не заметил никакого тайного умысла, ничего недоброго или двусмысленного. Секунду ему хотелось объявить ему напрямую: «Твоя дочь – лесбиянка, последовательница Сафо», но у него не было прямых доказательств, да он и не хотел их иметь. Клэр хотя и не до конца, но уже почти совсем оправилась, и Клем готов был приветствовать любые (помимо лекарств Босуэлла) средства, включая какие угодно интимные, если они помогали ей вернуть прежнее здоровье. Дождавшись более спокойной музыки, они пошли танцевать.
– Знаешь, – сказала она, – я с ужасом ожидала этой свадьбы, а сейчас мне даже нравится.
– Здорово.
– И папа, похоже, пережил все нормально.
– Да.
– И Лора.
– Угу.
– Похоже, ты не все рассказал мне о своей поездке, – сказала она.
– А ты хочешь знать все?
– Я хочу знать, чувствовать ли мне себя за нее виноватой.
– Нет, конечно.
– Финола хотела тебе помочь, но я отругала ее потом за излишний драматизм.
– Рано или поздно я все равно услышал бы об аресте, – улыбнулся он.
– Так у нас все в порядке?
– Да.
– Поклянись!
Он поклялся.
– Мне так хочется, чтобы ты был счастлив, Клем, – сказала она.
О наступлении полуночи музыканты объявили ударом тарелок. Фрэнки и Рэй удалились. Медового месяца не планировалось – деньги экономили на квартиру в Попларе, – но было решено, что первую ночь они проведут в уединении на даче. Клэр и Фиак перебрались к Лоре в проветренные, прибранные и вновь приготовленные для гостей старые комнаты. Все собрались вокруг «альфы». Лора крепко обняла дочку последний раз, и под поощрительные возгласы гостей машина вырулила мимо каменного мальчика (украшенного нынче венком из плюща) с проезда на дорогу; дребезжание привязанных к ней консервных банок не прекращалось минуты две, пока они не затормозили у дачи. Прозвучал еще один полунасмешливый одобрительный рев, и публика начала расходиться, кто – в дом, кто – в шатер, кто – в сад, к призывному мерцанию китайских фонариков.
В выходные после свадьбы Клем вернулся в Сомерсет, чтобы помочь заколотить дачу. Клэр и Фиак уезжали в Данди. Матрацы, кухонная утварь, стол, лампы опять водрузились на свои места в старых комнатах и шкафах, чтобы продолжить прерванный на короткое летнее время процесс медленного ухода в небытие. Картина с хлебом и вишнями снова пристроилась на гвозде на лестничной площадке; садовые инструменты вернулись в гараж; холодильник вымыт и выключен; электричество отключено под лестницей, рубильник повернут в положение «выкл.»; камин выметен, окна закрыты. Они проверили ящики тумбочек, вынесли чемоданы, чуть не забытую кружку, черный мешок для мусора. Лора пришла, чтобы запереть входную дверь и проверить, как расширяется трещина на боковой стене – в некоторых местах в нее уже можно было засунуть, сложив вместе, два пальца. «Чем раньше он провалится, тем лучше, – сказала она. – Это как ждать у моря погоды».
Через пару дней позвонил Фрэнк Сильвермен. Когда Клем вернулся домой из Бельгии, он нашел на автоответчике сообщение, на которое ему тогда легче было не отвечать.
– Почему у нас все разговоры идут как-то всмятку? – спросил Сильвермен.
От Шелли-Анн он слышал, что Клем был в Брюсселе, и с запозданием обнаружил причину поездки («Я, брат, нынче слушаю только местные новости, сплетни города о себе самом»). По его словам, он и сам хотел приехать, даже наверняка бы приехал, если бы нашел подмену – человека, который стал бы собирать по ресторанам еду, разворачивать кухню, раздавать продукты и вообще заниматься тысячей мелочей, без которых никак не обойтись. Он сказал, что, надеется, Клем его понимает. Клем ответил, что понимает.
– Ну, – сказал Сильвермен, – рассказывай с самого начала. Выкладывай все, не торопясь.
Легко сказать – с самого начала, а где оно? Не придумав ничего лучше, Клем начал с того, как из Данди приехала Фиак и привезла ему в кармане пальто вырезку из «Скотсмена». Потом – Кирсти Шнайдер, ФИА, Лоренсия Карамера, встреча в кафе. Несколько раз Сильвермен заставлял Клема вернуться назад, говорить яснее, подробнее, рассказывать не только впечатления, но факты. Ему хотелось знать, кто был этот молодой человек, как он был связан со всем этим. Он спрашивал, уверен ли Клем, уверен ли он на сто процентов, что старик в «Марсианском пейзаже» был действительно Рузинданой.
– А не могло случиться, что они тебя просто надули? Почему он спросил, подарил ли тебе Господь детей? Что это за херня?
– Говорят, что его сыновья умерли в одном из лагерей.
– Говорят?
– Лоренсия Карамера сказала мне.
– А она откуда знает?
– Я не знаю откуда.
– Не знаешь?
– Я не знаю точно, что она знает. Насколько она знает.
– А ты проверил, чем она занимается в ФИА? Кого она лоббирует? Какое правительство? Ты не знаешь, а может, она работает на бельгийскую секретную службу. И почему, ну почему ты не взял с собой в кафе кого-нибудь, кто мог бы независимо от тебя подтвердить личность Рузинданы? Вот тогда бы у тебя был репортаж.
– Меня просили прийти одного.
– Ты пошел туда вслепую!
– Вслепую?
– И может, испортил кому-нибудь игру.
– Кому-нибудь, кто знал, что он делает?
– Ну да! Боже мой! Не пойму, почему меня это так бесит. Видимо, воспоминания опять одолевают, вот я и злюсь. Извини, Клем.
– Не переживай, – сказал Клем.
Он упомянул поездку в Тервурен, но не рассказал о своем возвращении, и уж тем более – о ночной прогулке по квартире. Ему не хотелось выслушивать умные рассуждения о том, что Лоренсия Карамера как-то уж слишком скоро, слишком легко увлеклась им; о том, что, переспав с ней, он окончательно скомпрометировал свою объективность как свидетеля. Что же касается постояльца – да ему бы даже не удалось убедить Сильвермена, что там вообще кто-то был. Старик в кафе был Сильвестром Рузинданой: для подтверждения этого ему не нужны были другие свидетели. Но что касается человека в квартире… Тогда ему казалось, что он знал наверняка, был настолько уверен, что даже не остался расспрашивать Лоренсию (упущение, в котором ему меньше всего хотелось сознаваться).
Он боялся, что вынудит ее лгать, боялся увидеть на свежем со сна лице страх или стыд. Или триумф. Или презрение. К рассвету он сумел наконец встряхнуться: положил нож на полку, выудил из спальни свои вещи, оделся и пошел в гостиницу. Ступая по блестящим от воды, свежевымытым тротуарам, он пытался понять, зачем она пошла на такой риск; хотелось надеяться, что хотя бы немного причиной этому был он сам.
Переваривая новости, размышляя над услышанным, Сильвермен хмыкал неразборчиво. Раздражение его прошло. Обдумывая, он бормотал, и на голову Клема с кончика парящей в двадцати тысячах миль над ним спутниковой антенны падали, как капли с лесной ветки после дождя, слова – Надежда, Искренность, Сближение, Красота. Потом, со спазмой в горле, вырвалась фраза:
– Ну почему люди никак не могут принять друг друга!
– Как поживает Шелли-Анн? – спросил Клем.
– Шелли-Анн?
Сильвермен сообщил, что, по словам жены, во время звонка Клем был абсолютно не в себе. «Очень здорово на бровях», – сказала она. Пришлось признаться, что он действительно даже не помнит, о чем они разговаривали, однако помнит, что она ему понравилась.
– Мне тоже, – сказал Сильвермен. – Я не сдаюсь. Мне еще здесь нужно кое-что доделать, а потом…
– Ты – про людей на вокзале? Что с ними сталось?
– Они уже выбрались на поверхность. У всех дела будут рассматриваться через пару недель, и решение ожидается положительное. Мальчик получает медицинскую помощь, бесплатно. Я понемножку учу их английскому и знакомлю с достопримечательностями моей родины.
– Ниагарой?
– Да, мы уже ездили на водопад, они чуть с ума не сошли от удовольствия. А сейчас ты будешь смеяться – я решил открыть здесь офис, присмотрел уже домик в Капустном Городе [59]59
Капустный Город– район Торонто (крупнейший по площади сохранившейся викторианской застройки во всей Северной Америке); прозвание получил в середине XIX в., когда там селились ирландские эмигранты – настолько бедные, что будто бы выращивали в садиках перед домом капусту.
[Закрыть]. Собираюсь назвать его в честь Мэгги Петерсон, что ты об этом думаешь?
Клем сказал, что одобряет.
– Не очень я размахнулся?
– Думаю, в самый раз.
– Уже есть заинтересованные лица. Мы даже финансирование получим.
– Я очень рад.
– Давай теперь покончим с прошлым, ладно? Хорошо, что ты попытался что-то сделать в бельгийских джунглях, но давай оставим продолжение трибуналу.
– Я так и собираюсь.
– Все кончено, Клем.
– Я знаю.
– Тогда стряхни пыль с объектива!
– Стряхну.
– В мире еще столько дел. Я именно это понял.
– Точно.
– Для нас то – кончено.
– Я знаю.
– Кончено.
– Кончено.
– Кончено навсегда.
В октябре Клэр вернулась в университет. «Я буду работать только несколько часов, – объясняла она в присланном Клему в середине месяца письме, – Только чтобы держаться в курсе, не терять нить, чувствовать свою полезность». Она писала, что у нее все еще случаются тяжелые дни, ночи, а главное – еще не покидает опасение, что болезнь может опять накрыть ее с головой; но она справляется, а это самое главное – не поддаваться. «Большое спасибо тебе за помощь, – писала она, – ты – такой внимательный братишка, такой верный друг. Спасибо за твою доброту, я никогда этого не забуду. Что ты собираешься делать на Рождество? Есть какие-нибудь планы?» И, торопливо, в примечании: «Финола посылает привет».
Клем опять начал слоняться по улицам. Места, где в мае и июне он бродил в безрукавке, он посещал нынче, укутанный в пальто; порой ему казалось, что кварталы за спиной превращаются в груды бетона и пыли, будто он был индусским богом разрушения. Он начал больше пить и меньше есть. В конце месяца он провалялся неделю в кровати с каким-то вирусом, от которого его тошнило в три утра, который перебрался потом в легкие и вызывал глухой, похожий на лисье тявканье кашель; никак не удавалось от него избавиться.
Из агентства позвонила Пэтси Стелбох, спросила, не может ли он отправиться в командировку.
– Все еще не разделался с семейными делами, по-прежнему есть проблемы, – ответил он.
– Уже ноябрь, порядочно времени прошло, – сказала она.
Он извинился и предложил взамен Тоби Роуза.
– Нам бы хотелось послать вас, – сказала она.
Он еще раз извинился.
– Пожалуйста, когда вы будете готовы вернуться к фотографии, позвоните, – попросила она.
Рэй и Фрэнки переехали в Поплар. Они послали Клему ксерокопированную фотографию дома с карандашной обводкой своей квартиры, ничем не отличающейся от идентичных жилищ сверху и снизу. На обороте было приглашение на устраиваемое в декабре новоселье, оно заканчивалось жизнерадостным, написанным печатными буквами напоминанием для гостей прихватить продукты и спиртное.
Позвонил отец и сказал, что умер Саймон Трулав. Ему было девяносто четыре года. Ровесник века! В Первую мировую войну он сражался при Амьене, а во Вторую был добровольцем-пожарным. Также он выступал независимым кандидатом в нескольких национальных выборных кампаниях и, хотя ни разу не победил, принципам своим не изменил.