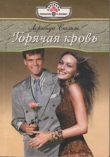Текст книги "Оптимисты"
Автор книги: Эндрю Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Эндрю Миллер
Оптимисты
Мемуне Мансарах
Часть первая
Это было не похоже ни на одно другое из описываемых мною событий, и разным образом оно изменило всех – больше всего выживших, но также врачей, добровольцев, священников, журналистов. Мы узнали кое-что о людских душах, и это кое-что долго еще вызывало ночные кошмары. Это была не та смерть, с которой я встречался в Южной Африке, Эритрее или Северной Ирландии. Ничто не могло подготовить меня к ошеломляющему размаху увиденного.
1
После резни в церкви в Н*** Клем Гласс прилетел домой в Лондон. Вытащив из чемодана одежду и ботинки, он затолкал их в черный мешок для мусора, вынес его к мусорным бакам у подвального выхода и потом, вернувшись, долго тер кожу на руках. На следующее утро он слушал крики двигающихся вдоль по улице мусорщиков. Позднее, выглянув в окно, Клем увидел у перил шеренгу пустых баков. Он лег на пол и, будто провалившись в пространство между двумя мыслями, следил, как по потолку пробирается светлый луч. Так прошел день. Затем ночь. Потом он не мог вспомнить, чем занимался всю эту неделю.
Был уже май, и погода перевалила из весны в лето. Листья на окаймлявших дорогу деревьях ярко блестели, почти светились. Допоздна не иссякал медленно ползущий поток машин с опущенными окнами, из которых вырывалась музыка. На улицах распущенные на каникулы дети ссорились, стучали о стену мячом, распевали считалки, доставшиеся им еще от бабушек и дедушек – «Я садовником родился…». В доме напротив жили наркоманы, оттуда постоянно доносился металлический скрежет радио. По ночам от этой музыки казалось – черти волокут грешников в ад. Время от времени они начинали швырять вещи из окон. Через пару недель после возвращения Клема они выбросили с верхнего этажа десятилитровую банку фиолетовой краски. Банка треснула, пара квадратных метров тротуара и канава украсились двухдюймовым фиолетовым поливом. Сохраняя влажность внутри, он покрылся под солнцем корочкой. Вскоре появились фиолетовые следы, каждый последующий призрачнее предыдущего. Там была даже цепочка собачьих следов, обвивающая фонарный столб и исчезающая в направлении Харроу-роуд.
Наркоманы были в восторге. Сгрудившись на ступеньках своего дома, они размахивали бутылками и хохотали, как одержавшие победу бойцы какой-то повстанческой армии. Через неделю они выбросили банку оранжевой краски – гигантский лопнувший яичный желток. Репортерская сумка Клема стояла у двери. Там лежали «Никон», «Лейка», провода, вспышки, линзы, два-три десятка фотопленок. Глядя на поджаривающийся на фиолетовой мостовой желток, он соображал, как лучше его заснять, но это был инстинктивный порыв, профессиональный рефлекс, не более. Камеры останутся в сумке, пока он не решит, что делать с ними дальше. Он смутно прикидывал, как принесет их обратно в магазин «Кинзли» и продаст. За «Лейку» можно выручить немало; да и старая рабочая лошадка «Никон» тоже кое-чего стоит, пожалуй, хватит на месячную квартплату.
В один прекрасный день, в конце месяца, наркоманов выселили. Приехали две полицейские машины, потом появились работники муниципалитета с металлическими решетками и начали опечатывать дом. Деревянную дверь закрыли стальной рубашкой, выступающие окна забрали металлическими коробами. У перил при входе кучей сложили личные вещи – спальный мешок, фен для волос, какие-то искусственные цветы, костыль. Наркоманы, особенно женщина, рычали и размахивали кулаками. Клем наблюдал за ними из окна второго этажа. Его восхищала их пылкость; осознают ли они бесплодность своего протеста, думал он, или именно бесплодность распаляет их еще больше? Покончив с работой, муниципальные работники ушли; рассевшись по машинам, укатили полицейские. По-прежнему яростно потрясая кулаками, выселенные наркоманы по двое, по трое разбрелись в ближайшие приюты и забегаловки. Показались, посмеиваясь, несколько местных жителей. В сумерки Клем вышел на улицу, в аллее стояла почти полная тишина. Он посмотрел на дом, потом, присев на корточки, провел пальцами по остаткам краски. Поверхность, местами бугристая, но в основном гладкая, была теперь твердой, как лак. На краю пятна, там, где под краской проступал серый цвет брусчатки, он заметил слабый, но удивительно четкий оттиск листа и в свете зажигалки разглядел неподалеку другие – тонкие, словно кружево, отпечатки мертвых листьев, наполовину скрытые, как рисунки под папиросной бумагой. Он попытался понять, как они могли возникнуть. Прошлогодние осенние дожди, прошлогоднее осеннее солнце; давление тысяч прошагавших подошв; высвобожденная энергия разложения; достаточная поглощающая способность камня. Он рассматривал их, пока зажигалка не начала обжигать руку. Вспомнился калотип листа работы Фокса Толбота [2]2
Уильям Генри Фокс Толбот, или Тальбот (1800–1877) – английский ученый, один из изобретателей фотографии, в 1852 г. провел следующий опыт: поместил кусок черного тюля между объектом, который хотел воспроизвести (лист дерева), и фоточувствительным веществом, нанесенным на металлическую пластинку. Изобрел негативно-позитивный метод («калотипия») с бумажными негативами, отпечатки с которых можно было размножать.
[Закрыть], поразившая мир картина, – название «калотип» происходит от греческого «красота». Он опустился на колени. Впереди, в свете уличного фонаря, металлически поблескивал дом. Он нагнул голову. Может, сейчас что-то произойдет? Чувство, похожее на ожидание неминуемой рвоты. Стиснув зубы, он прикоснулся к упрямо сухим глазам. Сзади донеслось хихиканье двух ребятишек, подглядывавших за ним из-за припаркованных машин. Сделав усилие, он поднялся на ноги, по лестнице добрался до своей квартиры и опять улегся в гостиной на ковре.
Уже за полночь зазвонил телефон на столе. После пяти звонков включился автоответчик. Его голос сообщил, что он находится в командировке за границей. Прозвучал гудок. После паузы, во время которой Клему казалось, что он слышит крики чаек, его отец сказал: «Это, ну, в общем, я. Позвони мне, когда вернешься, ладно?» И после еще одной паузы: «Спасибо».
2
В футболке, джинсах, старых башмаках он целыми днями слонялся по городу. Безразлично, в каком направлении. Повернув налево, он попадал в богатые кварталы; направо был железнодорожный мост, канал, муниципальные многоэтажки, супермаркет. Под зелеными фермами моста рельсы просекой разрезали нутро города. В отсутствие поездов сцена была до странности мирной. По обочине железнодорожного полотна росли деревца; на редкость живучие кусты с аляповатыми цветами пробивались сквозь стены набережной и усыпавшую полотно гальку. Часто над рельсами кружился, как обрывки бумаги, пяток-другой бабочек.
Канала он научился избегать. Вода в нем была слишком неподвижной, слишком черной: он боялся того, что может в ней показаться. Ему хватило бы самой малости – скомканный полиэтиленовый мешок, напоминающий лицо; корень, похожий на руку.
Он ел где придется, куда заносили его ноги. Португальское заведение рядом с аллеей, турецкое кафе в районе Ноттинг-Хилл, африканский ресторанчик на Холборн-роуд. Ел, платил, не разговаривая ни с кем, кроме официантов. Каждый день после обеда он заходил в киоск просмотреть передовицы газет. Раньше – именно так он думал о своей жизни до церкви в Н***, «раньше» – он ежедневно читал две, иногда три газеты, получая удовольствие от знания того, что происходит в мире, и от возможности быть в курсе. С тех пор как он вернулся, новости перестали убеждать его, как раньше; не из-за подозрения, что их выдумывают (хотя, достаточно долго работая с журналистами, он знал, что такое происходит нередко), а потому, что мир, о котором они сообщали, больше не соотносился с миром у него в голове – об этом месте вряд ли можно было сказать что-либо связное. Нынче он только просматривал, не появится ли сообщение из Африки, материал по следам убийств. Если что-то было, он выискивал упоминание о бургомистре, но отсутствие упоминания всегда приносило больше облегчения, чем досады. Он еще не был готов столкнуться с Сильвестром Рузинданой, совсем не готов.
С недавнего времени Клем стал частью публики, заполняющей дневные сеансы кинотеатров. Его абсолютно устраивали фильмы с парой-тройкой музыкальных номеров и бессмысленным финалом. В кинотеатре в Шепердз-Буш показывали «Завтрак у Тиффани»; окруженный пенсионерами и безработными, он умиротворенно смотрел картину до тех пор, пока, пощипывая струны маленькой гитары, Хепберн не запела неверным, прекрасным, хватающим за душу голосом «Лунную реку» [3]3
Одри Хепберн (1929–1993), певшая в этом фильме Блейка Эдвардса 1961 г. (экранизация одноименной повести Трумена Капоте) песню Генри Манчини на стихи Джонни Мерсера «Moon River», получила в следующем году «Оскара» за лучшую песню.
[Закрыть]. Шатаясь, он пробрался мимо дремлющей билетерши наружу и поспешил, поражаясь самому себе, домой. В «Коронет» на Ноттинг-Хилл ему повезло больше. Американская комедия для подростков, как продолжение «Счастливых дней» [4]4
«Счастливые дни»(«Happy Days», 1974–1984) – американский телесериал, семейная комедия, действие которой происходит в 1950-е – начале 1960-х гг.
[Закрыть]. За следующие три дня он смотрел ее три раза. Не нужно было следить за сюжетом, что-либо запоминать, чем-либо восхищаться. После каждого сеанса двустворчатые двери кинотеатра выметали содержание из головы, как кости с обеденного блюда, оставляя лишь память присутствия в зале да гарантированного на полтора часа чувства безопасности.
В погожие дни он иногда уходил в парк и спал на траве или сидел на скамейке, бесстрастно наблюдая, как девушки мажут ноги маслом для загара, а молодые няни – шведки, филиппинки – играют с детьми своих богатых хозяев. Отсутствие желания – а он не испытывал его уже много недель – вызывало у него недоумение. Он смотрел на женщин, как, возможно, будет смотреть на них, став престарелым маразматиком, когда от страстей остается кучка теплого пепла (если это и вправду так со стариками. А может и не так?). Но в его возрасте – в январе ему стукнуло сорок – жизнь без желаний напоминала ему постоянно снившийся в юношеские годы сон, в котором он, не будучи совсем живым или окончательно умершим, медленно таял, будто тонул в воздухе, с каждой секундой становясь все более невидимым, все менее заметным среди жизненной суеты. Это, конечно, тоже был симптом, хотя и довольно неожиданный. Может, пора обратиться за помощью? Поговорить с кем-нибудь? Он еще не звонил даже Фрэнку Сильвермену в Нью-Йорк, хотя, трясясь на заднем сиденье такси по дороге на авиабазу, они обменялись домашними номерами. Сильвермен был старше, опытнее. Другой. Покрепче? Бывалый ветеран с застрявшим в спине – ливанский сувенир – полудюймовым осколком гранаты. Такой, казалось, – казалось до того, как они пошли той ночью в церковь, – не растеряется среди хаоса, человеческой жестокости, защищенный от них прожженным, необычным даже для журналиста цинизмом.
У него была жена, писательница по имени Шелли-Анн, которая, по его словам, писала продававшиеся на вес романы об одиноких женщинах. Выпивая в баре отеля «Бельвиль» с Клемом, майором Нимо и двумя египтянами из комиссии ООН по делам беженцев, Сильвермен уверял их, что своей карьерой она попросту мстит мужу за его шатанье по свету, за распутство. Поможет ли она ему в трудную минуту? Захочет ли? Несмотря на россказни Фрэнка, их отношения казались прочными, они хорошо притерлись друг к другу; именно таким спасительным прибежищем он, Клем Гласс, легкомысленно не потрудился себя обеспечить. Теперь, чувствуя в нем нужду, он испытывал легкое отвращение. Жажда нежности, потребность ощутить прикосновение руки, которая закроет открывшееся (вид из окна или рану). Становилось все труднее узнавать себя, и каждый вечер, когда зажигались уличные фонари и между грязными домами повисал синевато-рыжий воздух, он силился вернуть себе бывшее уютное понимание жизни, покинувшее его, как он в глубине души знал, навсегда.
3
– Привет! Шелли-Анн и Сильвермена сейчас нет. Оставьте свой номер и имя, и мы перезвоним вам, как только сможем, – Затем следовал четырехсекундный хоральный обрывок – Канада, о Канада! – фиглярство Сильвермена, затем гудок.
Клем опустил трубку. Голос у жены был молодой, а все сообщение звучало так, будто она записала его в промежутке между какими-то интересными занятиями. Вовсе она не звучит одинокой или рассерженной, подумалось ему.
Он попробовал еще раз, через час.
– Привет! Шелли-Анн и Сильвермена сейчас нет…
4
Происшествие:
Шагая в воскресенье вечером, часов в одиннадцать-полдвенадцатого, по Портобелло-роуд, в одном из темных дверных проемов на другой стороне улицы он услышал сдавленные женские рыдания, усилившиеся, когда он проходил мимо; они резко оборвались, затем прорвались вновь, толчками ударяя его теперь между лопаток. Стоило ему их услышать, как во рту пересохло и стало трудно дышать из-за бешено заколотившегося сердца. Но чего он испугался? Практически на любой лондонской улице шатаются печальные, потерянные тени, однако звук был для него невыносимым; он ускорил шаг. Девушка шла за ним, пытаясь догнать и жалобно взывая, пока он не остановился. Они стояли напротив шашлычной. Продавец протирал прилавок, готовясь закрывать на ночь. В свете неоновой рекламы – петуха – он рассмотрел, что ей было около двадцати. С протянутыми руками, с размазанной под глазами тушью, она стояла перед ним, дрожа, и старалась объяснить что-то, что с ней случилось. Он не сразу понял из обрывков ее речи, на каком языке она говорит, потом разобрал – испанский. Она несколько раз повторила «violar» или «violada». Протянула ему телефон. Он взял его, позвонил в полицию, сообщил оператору о нападении на молодую девушку и дал адрес шашлычной. Оператор спросила его имя, но он оборвал звонок и вернул телефон девушке. Она словно обмякла и стояла теперь, как стоят дети, когда им нестерпимо нужно в туалет, или как человек, получивший сильный удар в живот. На них уже смотрели люди из бакалейной лавки, двое – в длинных серых фартуках. Клем пытался сообразить, как сказать по-испански «они сейчас приедут», но через несколько мгновений вспомнил глагол «идти». «Я идти», – сказал он и зашагал от нее прочь. Он думал, что, возможно, она опять последует за ним, но ошибся. А может, у нее не было сил.
На Фарадей-роуд он остановился и обернулся назад, глядя вдоль линии фонарей. Место, откуда он ушел, скрылось за поворотом дороги. Он посмотрел на часы, оглядел окружавшие его пустые дома. Как скоро приедет полиция? Ближайший участок был в нескольких минутах езды, он уже должен был услышать сирену. А вдруг они не приедут? Вдруг он перепутал адрес или они решат, что это была шутка? Волнение к этому времени слегка улеглось, и он впервые с ясностью осознал, что бросил обиженную девушку на произвол судьбы. Он, всегда считавший себя готовым храбро вступиться за справедливость, – что с ним сталось теперь? Какой долг может быть более непреложным, чем долг помочь подвергшемуся нападению на улице незнакомцу? Он побежал обратно, но, вернувшись к магазину, увидел, что огни уже погашены и на улице никого нет. Он двинулся в направлении Вестборн-Гров, всматриваясь на перекрестках в поперечные улицы. Несколько раз слышались звуки шагов, кто-то быстро удалялся, но не было видно никого, напоминавшего ту девушку. Может, те люди впустили ее в магазин? Сделали то, что должен был сделать он? Вернувшись, он прижался лицом к витрине. По полу к нему двинулся силуэт – отделившийся от остального мрака клочок тьмы. Он замер, вскрикнул: «Черт!» – но тут же понял, что это собака: через стеклянную дверную панель на него уставился коротконогий черный пес; глаза его мерцали сине-желтым огнем, будто сквозь пустые глазницы проблескивала скрытая электросхема.
Он повернул домой. Проглянул серп луны, свет ее отразился на металлическом фасаде пустого жилища напротив. Стоя на ступеньках своего дома, он выкурил сигарету. Мимо прошел ночной автобус. Скорая помощь. Он вспомнил оставшуюся в живых после резни маленькую Одетту Семугеши, которую он фотографировал в больнице Красного Креста, пока Сильвермен брал у нее интервью. Голову ее закрывала широкая повязка, под которой размытой розовой, идущей ото лба к темени полосой прорисовывалась рана. Медленным, монотонным голосом она говорила по-французски. « Et puis… et puis…» [5]5
«А потом… а потом…» (фр.)
[Закрыть]Опасаясь, что девочка все еще находится в шоковом состоянии, врач не хотел разрешать им разговаривать с ней, и сейчас он стоял рядом, готовый прервать интервью при первом проявлении настойчивости со стороны Сильвермена. Утро было чудесное. Через открытую дверь офиса виднелось еще с десяток детей, смирно сидевших в пыли под олеандровым деревом. Когда интервью закончилось, Одетта направилась к ним.
– Она что, никогда не плачет? – спросил Сильвермен.
– Еще рано, – сказал доктор; он был швейцарец и находился в стране десять дней. – От слишком страшной беды сердце каменеет.
– Это для него – единственный шанс уцелеть, – добавил Сильвермен.
Доктор согласился и пристально посмотрел на Клема и Сильвермена; он знал – Сильвермен сказал ему по дороге из офиса, – что они попали туда первыми из журналистов. Какое-то мгновение казалось, что он заинтересовался ими, что, возможно, он попросит их заполнить анкету для шоковых пациентов, осмотрит их; но было заметно, как он устал, уже, по-видимому, целиком поглощенный вереницей дел, на которые не хватало ни времени, ни сил. Пожав им руки, он приподнял свою в прощальном салюте и повернул прочь, предоставив им самостоятельно искать выход.
5
Два дня спустя (в местных газетах об испанской девушке не упоминалось; желтых полицейских знаков, ограждающих место преступления, на улицах также не появлялось) Клем провел полчаса в поисках телефонного номера Зары Джонс, частной издательницы, с которой он переспал в марте. Помнилось, она записала его на обратной стороне квитанции, которую он сунул в кошелек, а потом, видимо, переложил еще куда-то. Роясь на кухонном столе, в нагромождении множества случайно брошенных, забытых вещей, он обнаружил, вперемешку с хламом старых газет и журналов, любопытные фрагменты предшествовавших Африке недель и месяцев. Письма, вырезки, приглашения. Списки того, что надо не забыть сделать и что купить. Пометка на углу конверта: «Желтая лихорадка, столбняк, малярия. Холера?» Контактные адреса с февральской работы в Дерри. Рождественская открытка от Клэр – охотники Брейгеля – с сообщением: «В Данди лежит снег, дюймов шесть!»
Квитанция обнаружилась в запертом металлическом ящике рядом со столом, где хранились разные имеющие отношение к деловой стороне его жизни бумаги. Это была квитанция таксомоторной компании, услугами которой он иногда пользовался для поездок в аэропорт Хитроу. На оборотной стороне она написала лиловыми чернилами номер своего мобильного телефона, сопроводив его вопросительным и восклицательным знаками.
Сидя за столом, Клем набрал номер. Он не был уверен, что сумеет дозвониться, и не представлял, что скажет, если сумеет, но, когда после шести или семи звонков она ответила, его поразило, как все оказалось легко и как быстро между ними установился нужный тон.
– Как у тебя дела? – спросила она.
– В порядке. А ты как?
– Все хорошо, – сказала она. – Ты в Лондоне?
– Да.
– Когда вернулся?
Он соврал, потом спросил, свободна ли она вечером. Она сказала, что ей нужно быть на какой-то наградной церемонии в Уэст-Энде – скучно, но не открутиться.
– Если хочешь, можем встретиться пораньше, – предложила она. – Знаешь бар в театре Сохо?
– На Дин-стрит?
– Я буду там в шесть.
Они познакомились на вечеринке по случаю выхода новой книги фотографий Дэвида Сингера. Того самого Сингера, сделавшего имя фотографиями Лондона, на которых город выглядел, как Калькутта в дождь, – запущенные районы, бездомные, пенсионеры в многоэтажных трущобах. Снимки в полстраницы, выполненные с формализмом стереотипных викторианских отпечатков, появились на страницах «Миррор» и «Гардиан», а также тех зарубежных газет, которые хотели напомнить своим читателям, как умирают империи. Затем – многолетнее молчание. А потом – новая книга, «Надземелье» (нарочитая игра слов?), изящно раскрашенные абстрактные работы, переливающиеся один в другой цвета; весь альбом отснят в стенах студии, в Маленькой Венеции. Это – искусство; по крайней мере продаваться это будет как искусство. На вечеринке Сингер, неожиданно ставший популярным в свои шестьдесят с лишним лет, в итальянском костюме шоколадного цвета, под руку с молодой женой на сносях, был окружен толпой стремящихся протиснуться ближе почитателей. Стены комнаты украшали двухметровые оттиски его фотографий, напоминающих картины Ротко [6]6
Ротко,Марк (Маркус Яковлевич Роткович, 1903–1970) – американский художник родом из Латвии, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля.
[Закрыть]. Прежних работ, прежней жены, прежних идеалов не было видно. Говорили о его самопреображении: теперь он сам стал фотосюжетом для других. Он пожимал руки, целовал щеки, прихлебывал из узкого бокала шампанское. Клему он показался человеком, который начинает ненавидеть себя.
Профессионализм Зары Джонс не вызывал сомнений. Подходя к Клему, она многое знала о нем. Похвалила его фотографии «Бури в пустыне» [7]7
«Буря в пустыне»– кодовое название военной операции антииракской коалиции (36 государств), проведенной в 1991 г. после захвата Ираком Кувейта.
[Закрыть](отснятые в тылу). Видела фотоэссе о жизни рыбаков с острова Шри-Ланка, сделанное им для шведского журнала. «Очень красиво», – сказала она, не уточняя, что нашла красивым – людей, снимки или и то и другое. Поблагодарив ее, он, однако, отклонил предложение познакомиться с Сингером. Он попросил ее остаться поговорить с ним. Улыбнувшись, она обещала постараться вернуться позднее и пошла осведомляться у других присутствующих, не хотели бы они немного поговорить с Дэвидом.
Он продолжал наблюдать, следил за ней до конца вечеринки, затем потащился на продолжение, где Сингер напился, а его жена начала жаловаться Клему, что у нее постоянно протекают соски. Когда ресторан закрылся, началось сложное распределение такси – кому ехать на южную сторону реки, кому – на север. Зара жила в одном из кварталов неподалеку от Оксфорд-стрит, и Клем поехал с ней, начав целовать ее в такси, чувствуя на ее языке вкус водки, даров моря и сигарет. Квартира была в несколько раз больше его собственной – ее отец оказался Крезом недвижимости. На туалетном столике она отделила краем «золотой» карты «Американ экспресс» четыре полоски кокаина. Когда он ее раздевал, она предупредила, что еще немного кровоточит. Не важно, сказал он; потом, стоя в ослепительном белом пространстве ванной, вытирал кровь с бедер влажными салфетками и довольно ухмылялся собственному отражению в зеркале.
В следующий раз они встретились у него. Отопление забастовало, ей не понравилась приготовленная им еда, и они поспорили о политике – ее правые убеждения (по отцу) столкнулась с его левыми (по матери). Потом они механически занимались любовью. А потом долго лежали без сна, вздрагивая от малейшего движения другого.
Последняя встреча была в гостинице на набережной в Брайтоне: ясный вечер, синие звезды над морем, на пляже повсюду огоньки – фонарики и костры ночных рыбаков. Несмотря на разницу в возрасте и воспитании – Клем был на одиннадцать лет старше, – они сверяли свои жизни, пока не вылепили определенное сходство. Оба рано лишились матерей: Клем – в двенадцать лет, Зара – в семнадцать. У обоих были старшие сестры, оба говорили по-французски, оба верили, что в собеседнике есть что-то необычное, пусть даже только цвет и ясность глаз. От выпитого в гостиничном баре все явственнее просыпалось желание, и в номере во время секса (спинка кровати стучала о цветочные обои) Клему казалось, что эта безудержная страсть может послужить началом чего-то хорошего. Но на следующий день после обеда, сонные и похмельные, они расстались на вокзале в Лондоне, не условившись твердо о новой встрече. Через три дня Зара уехала в командировку по стране с написавшим мемуары бильярдистом. А когда она вернулась, Клем уже собирался в Африку. Их связь, если ее можно было так назвать, уже, казалось, обернулась своего рода интерлюдией, каких у него было немало: почти ничего не было, едва ли что последует. Видимо, именно тогда, не потрудившись сначала переписать ее номер, он положил бумажку в металлический ящик.
Он подошел к театру в семь с четвертью. Зара уже сидела на табурете у изогнутой стойки. Он смотрел на нее сквозь стеклянную панель дверей, ее силуэт (спина прямая, как у танцовщицы) – неподвижное пятно посреди отражений уличного потока. Она пила из высокого стакана что-то прозрачное. Вытряхнула из пачки сигарету; бармен поднес зажигалку, она ему улыбнулась. Ее волосы были туго стянуты в пучок; эту ее прическу Клем раньше не видел, она делала ее тоньше, и старше – элегантность зрелой женщины. Обернувшись, она бегло оглядела улицу и, не заметив его, повернулась обратно. Как долго она будет ждать, думал он? Еще десять минут? Двадцать? В баре было не больше пяти человек, завсегдатаи появятся позже. Из профессиональной любезности или, может, пытаясь завести знакомство, с ней еще раз заговорил бармен. Чья-то рука потянула Клема за рукав пиджака. Сзади стоял бородатый человек в лоснящейся от грязи одежде. Извинившись, он объяснил Клему, что собирает деньги на автобус в Фаррингтон, где у него живут друзья, которые ему помогут. Надеюсь, мол, вы войдете в мое положение? Клем отдал ему рассыпанную по карманам мелочь и, повернувшись, зашагал по Дин-стрит. Повернув на Уордур-стрит, он зашел в первый попавшийся паб. Внутри, в темно-коричневом, бутылочного цвета воздухе, посетители – в основном работники местных офисов – продолжали вести свою служебную жизнь в другом помещении. Заняв отдельный столик, Клем начал пить. Когда он вышел на улицу, две трети ее уже погрузились в тень, но верхушки домов на восточной стороне все еще были ярко освещены, каждая деталь – закопченные кирпичи, пустые окна, неровные полоски мха – прочерчена прекрасно и четко. На Виндмилл-стрит он зашел еще в один паб. Музыка здесь играла громче и посетители не были похожи на людей, коротающих дни за рабочим столом. Надпись в туалете предупреждала: в нашем заведении иногда орудуют воришки. После долгого внимательного просмотра музыкальных видеороликов на экране в баре он направился в телефонную будку на Шефтсбери-авеню. Он намеревался позвонить Заре на мобильный, но вместо этого набрал номер, напечатанный на одной из приклеенных в будке карточек. Ответившая женщина вызвала в памяти комическую актрису (он не мог припомнить ее имя), игравшую сладкоголосых простушек кокни. Обращаясь к нему «душка», она описала предлагаемую девушку и назвала адрес дома на Эджвер-роуд. Когда она спросила его имя, он решил, что нужно выдумать, но в голове было пусто, и в конце концов, после подозрительного, будто он пытается что-то сочинить, молчания, он сказал свое настоящее имя, повторив его дважды.
В банкомате на Риджент-стрит он получил необходимую сумму, а потом медленно побрел по Оксфорд-стрит, надеясь развеяться от перемены обстановки. Он уже однажды платил за секс: в отеле, в Вашингтоне, осенним вечером лет пять назад, когда, неожиданно испугавшись одиночества, он нашел в телефонной книге раздел «Интим-услуги» и, услышав осторожный стук в дверь, несколько долгих секунд испытывал вполне обычную радость, будто звук предвещал появление друга, а не вторжение незнакомки, которую внизу на улице поджидала машина.
Здание на Эджвер-роуд оказалось кирпичным жилым домом, пристроившимся между кофейней и арабским журнальным киоском. В ответ на его звонок щелкнул замок, и он вошел внутрь. Перед ним был коридор с двумя рядами белых закрытых дверей. Лифт не работал, и он начал взбираться по бетонной лестнице с металлическим поручнем; через пожарный выход на каждой площадке можно было попасть в другие коридоры. На пятом этаже он постучал в одну из белых дверей. Она быстро открылась, и он оказался в маленькой прихожей, пустой, за исключением прислоненного спинкой к стене стула. Женщина, в которой он по голосу узнал свою недавнюю собеседницу, пригласила его присесть. Не хочет ли он выпить, может, апельсиновый сок? Он отказался. Она подала ему заклеенную в пластик карточку, которую держала в руке.
– Девушка скоро появится, – сказала она (и вовсе она не комедийная актриса, а продавщица погорелого магазина) и скрылась в своей комнате, где невнятно бормотал телевизор.
На оставшейся в руках у Клема карточке был приведен перечень услуг. Самая дешевая – «удовлетворение рукой»; самая дорогая – хотя ничего особенно дорогого в списке не было – называлась просто «секс». Он положил карточку под стул. Через несколько минут слева открылась дверь. В ней показалась девушка – молодая женщина, ничем не отличающаяся от проходивших мимо него на улице полчаса назад; улыбнувшись, она провела его на свое рабочее место – в небольшую комнату с низким потолком, тумбочкой у окна и лампой с розовым абажуром и бахромой у кровати. Рядом с лампой стояли радио, бутылка массажного масла и лежал уже надорванный пакетик с презервативом.
– Меня зовут Ирена, – сказала она.
– Клем.
– Клэйм?
– Клем. В честь Клемента Эттли [8]8
Клемент Эттли(1883–1967) – премьер-министр Великобритании, сменивший Черчилля в 1945 г.; сторонник социальных реформ.
[Закрыть]. Моя мать была членом «Фабианского общества» [9]9
«Фабианское общество»– учрежденная в 1884 г. социал-реформистская организация английских интеллигентов, названа по имени римского полководца Фабия Кунктатора (Медлительного), известного выжидательной тактикой в борьбе с Ганнибалом. В середине XX в. общество представляло собой своего рода идеологический центр лейбористской партии.
[Закрыть].
Она кивнула – казалось, у нее вошло в привычку не понимать, о чем говорят клиенты, и это ее не беспокоило. На ней было облегающее черное платье и пара белых тапочек, похожих на те, что раньше носили медсестры в санаториях. Должно быть, она привезла их с собой из той страны, откуда сама недавно приехала, – мелькнуло в голове у Клема. Он передал ей деньги. Пересчитав, она поблагодарила его и засунула купюры в ящик тумбочки.
– Я выражаю свои чувства в танце, – сказала она.
Включив радио, начала крутить ручку, пока не нашла подходящую танцевальную мелодию. Присев на краешек кровати, Клем наблюдал за ней. Закрыв глаза, она покачивала бедрами, проводя руками по маленьким грудям. Любимым ее движением был резкий поворот; подвигавшись немного спиной к Клему, она стремительно разворачивалась, словно потревоженная ярким светом.
Когда музыка закончилась, она выключила радио и скинула платье. Кроме трусиков, на ней ничего не было. Она сняла с него пиджак, расстегнула пуговицы на рубашке; когда же попыталась, рывками, справиться с пряжкой ремня, он сказал, что расстегнет сам. Она потянулась за массажным маслом. Клем, в одних трусах, лег на постель. Она поинтересовалась, не стесняется ли он; Клем сказал, что не стесняется, и снял трусы. Перевернув его на живот, она опустилась рядом с ним на колени и начала втирать масло в спину. Когда она покончила со спиной, Клем перевернулся на спину, и девушка принялась покрывать маслом его плечи, потираясь при этом телом о его лобок. Он прикоснулся к ее груди. Соскользнув с него, она сбросила с худых бедер трусики и надела презерватив на наполовину поднявшийся член. Волосы у нее на лобке были выбриты в узкую полоску, на нежной коже виднелось раздражение от бритвы. Расставив в стороны ноги, она легла рядом с ним. Когда он прикоснулся к ее дырочке, она была совершенно сухая. Наклонившись, он хотел поцеловать ее.
– Языком нельзя, – быстро проговорила она с напрягшимся, словно он мог ее укусить, лицом.
Вздохнув, он выпрямился, потом опустился ниже, так что его голова пришлась ей на грудь, и начал сонно слушать стук ее сердца. Неужели он за этим сюда пришел? Запах дешевого дезодоранта не мог заглушить приятного запаха ее кожи, такой прохладной и мягкой под его щекой. Она позволила ему лежать так с минуту и даже неловко провела ладонью по его волосам – позабытым, неуверенным движением, – но это чувство, эта поза – непродаваемые, непокупаемые – настолько не вязались с их положением, что, оттолкнув его, она откатилась к краю кровати и подхватила с пола платье.