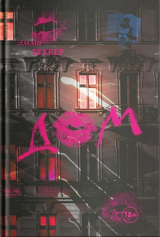
Текст книги "Дом"
Автор книги: Эмма Беккер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Я умышленно первой тянусь к его штанам, потому как догадываюсь, что член у него не встанет. Я надеюсь изо всех сил, что ошибусь в своих прогнозах, но объективно шансов на это нет никаких. Я знаю, что можно лишь уменьшить размеры катастрофы, и рассчитываю на силу своего убеждения. Однако эрекции у Жозефа так и нет, и это совсем на него не похоже. Нет, его член будто съежился, прижимаясь к животу, и не поддается ни моей нежности, ни моим усилиям, поглядывая на меня, как упрямый ребенок, отказывающийся идти вперед. Я не могу ни в чем обвинить ни Жозефа, ни его достоинство, зная, что мой парень как минимум так же огорчен, как и я сама. Происходящее вовсе не возбуждает. Эрекция сделала бы это представление менее отвратительным, но разве не было бы это безвкусицей – возбудиться в руках этой огромной куклы? Мне тоже никак, в этом мы крайне солидарны.
Нельзя более не соответствовать моим идеалам женской привлекательности, чем не соответствует им Лариса. В ней есть это подобие удручающего совершенства: отменные высоко вздернутые груди, маленькая, но круглая попка, молочного цвета мягкая кожа, начисто выбритая аж до крохотного лобка, а внутри – тончайшая репродукция гениталий, как у кукол «Полли Покет», такой необыкновенной чистоты, что задумываешься, не линяет ли она каждое утро. Напрасно я пытаюсь учуять меж ее ягодиц хоть каплю животного, человеческого запаха – деталь, несовершенство, которое сблизило бы нас, – дырка в ее заднице могла бы быть выставлена в витрине, перед которой преклонялись бы толпы. Еле заметная выбоина, розовая, как щека ребенка, она нейтрализует своей красотой любую грязную мысль. А я, с моими взъерошенными волосами по всему телу, с моей ненакрашенной и не намазанной кремом кожей и запахом табака, жадно принюхиваюсь к разным частям тела этой равнодушной конкурсной овчарки. Малюсенькие до жалости клитор и половые губы кажутся мне почти незаконными и погружают в уныние. Только моя слюна и придает вкус этой трещине, как будто Лариса была неким сосудом, принимающим форму и цвет фантазий каждого клиента, пряча свою собственную душу в тепле, глубоко под слоями апатии. Даже поза 69 – она сверху – превращается в аккуратное ношение головного убора, и Жозеф, который обычно голову теряет от этой позы, смотрит на нас с опаской, будто спрашивает себя, что это – плохой фильм или кошмар. Быстро натягивая презерватив на его член, я бросаю на него взгляд, в котором читается: из уважения к моим семистам евро, из жалости займись с ней сексом.
Еле войдя в нее, Жозеф тотчас же вытаскивает свой член обратно, весь мягкий, обессилевший от прикосновения к ее холодным внутренностям. Однако оживившаяся Лариса в отчаянном желании отделаться от этой парочки порочных малолеток хватает его рукой и трясет, забравшись сверху и громогласно постанывая: Иди же, иди ко мне!» Она отказывается принять очевидное, а мне правда колет глаза Жозеф никогда не был так далек от удовлетворения. И не нужно обладать каким-то особенным знанием, достаточно лишь включить здравый смысл: не встает у него, бога ради, и нам от этого хуже, чем тебе. И, если хочешь знать, твои острые ногти, сжимающие его член, не помогают ему. Нет, если я достаточно хорошо знаю его, он сейчас молится, чтобы ты нечаянно не оторвала ему хозяйство.
Каким образом мои хорошие намерения могли довести нас до такого? Сосредоточенно вылизывая ее киску, я ищу взглядом глаза Ларисы, но напрасно, потому что Жозеф, посасывающий кончик ее соска, загораживает мне видимость. Я упорствую, не желая отказаться от мысли, что не такие уж мы и разные и что мои поглаживания вдоль ее молчаливых ягодиц донесут до нее мою просьбу: Лариса, сестра моя, подруга моя, пойми меня, постарайся хоть на секунду забыть об этом мужчине между нами, поглощающем все наше внимание, пусть и по совершенно разным причинам. Я была на твоем месте, и, конечно же, тебя раздражает, что у него не встает, непонятно, чем занять остаток времени. Это бесит меня так же, как и тебя. Но мне хочется верить, что мы вдвоем все еще можем спасти ситуацию. Лариса, ты была в моем возрасте, и у тебя тоже был возлюбленный, может быть, у тебя тоже были семьсот евро, на которые ты хотела купить этому возлюбленному амбициозный подарок. Я надеялась с твоей помощью подарить ему умопомрачительный оргазм, но подобный расклад в данную минуту маловероятен, нужно лишь, чтобы ты перестала издавать свои писклявые крики, интеллектуально оскорбляющие нас троих, чтобы ты почувствовала, о чем я прошу тебя в данный момент. Потому что не может же быть так уж неприятно, когда тебе лижут киску, хотя ты и готовилась к сеансу акробатики. Так награди же меня вздохом, хотя бы одним, черт подери, просто положи руку мне на затылок, раздвинь немного свою вагину и сделай вид, что ты здесь лишь для того, чтобы сымитировать оргазм, который смог бы обмануть парнишку лет пятнадцати!.. Заметишь ли ты в глазах этого молодого человека надежду на твою естественность, которую не купишь? Даже пердежа, Лариса, обычного неконтролируемого выпуска газов из твоей элегантной пятой точки было бы достаточно, чтобы он нашел в тебе что-то человеческое и начал возбуждаться.
Тут Лариса имитирует оргазм, хитро улучив момент, когда язык Жозефа присоединяется к моему у картины под названием ее лобок. Я бы сказала, что мы лишь заставили по дрыгаться тонкие нервные окончания ее клитора, которые, возможно, устроило бы и воробьиное перо. Но симулирует она более или менее корректно. И видя Жозефа, смахивающего на дикого охотника, который наконец дождался своего за пять чертовых минут до конца выделенного времени, Лариса, лишь малость порозовевшая, выпрямляется с холодной улыбкой на губах и наносит ему смертельный удар: «Слушай, кажется, твой дружок не в форме…»
Я в ступоре и вполне могу понять этого самого дружка, то есть не Жозефа, а его член. Мы с парнем застыли от стыда и глупо улыбаемся, а его дружок возвращается на свое место с поджатыми ушками, устав бороться.
Когда Лариса в конце концов уходит, за шумом захлопнувшейся двери следует тишина, описать которую очень трудно. Я побаиваюсь взглянуть Жозефу в глаза, и мы начинаем смеяться, потому как ничего другого нам не остается. Семьсот евро! Сколько пар джинсов марки April 77 я могла подарить ему на эти деньги – джинсов, которые никоим образом не помешали бы ему возбудиться? Такая трата осчастливила бы как минимум одного из нас, и мы не чувствовали бы себя сейчас как два неопытных и убогих придурка, а я бы избежала ощущения, что меня облапошили.
Однако благодаря Ларисе произошло чудо, о котором она никогда не узнает. Внезапно, в отсутствие холодного ветра, который она, уходя, унесла с собой, наши тела снова теплеют и мысль о том, чтобы заняться любовью вдвоем, только он и я, как это было всегда – аж слезы выступают на глазах, – так адски заводит нас, будто мы вообще никогда не целовались.
– Иди ко мне, мой истребитель, – воркует Жозеф, протягивая ко мне руки, свои красиво слепленные любовью и годом в тренажерном зале руки, которые меня лично заставили бы отказаться от оплаты, если бы я работала в эскорт-службе.
Его член тверже некуда.
– Видел, какая у нее мягкая кожа? – спрашиваю я, пока моя попа порхает в воздухе в его больших и умных руках скрипача.
– Ты права, кожа у нее мягкая, – уступает Жозеф. – Даже слишком, ты не находишь?
Он кусает одну из моих ягодиц. Издаваемый мною крик протеста не нужно принимать за чистую монету – никто не просит его останавливаться. Красивый нос Жозефа у меня между ног, и он жадно принюхивается. Я приподнимаю свое платье, чтобы увидеть его сверкающий взгляд и улыбку.
– Ты видел, какая у нее маленькая киска?
Жозеф соглашается, утопая в бардаке из волосков и половых губ.
– Я так и не уверена, что увидела у нее клитор.
– Меня угнетают такие вагины. Даже маленькие девочки и то более оформлены.
– И откуда ты знаешь это, ты, извращенец?
Его зубы блестят, и я вздыхаю.
– Ее задница ничем не пахла?
– А вот у тебя…
Его нос выглядывает из-за моей попы. Закрыв глаза, он вдыхает так протяжно, будто находится на вершине горы:
– Потрогай, какой твердый.
– Это точно. Почему сейчас?
– Все из-за твоей задницы.
Кончик его пениса застыл на входе в мое влагалище. У меня просто слюнки текут, и хочется выдать шквал похабных словечек. Для влюбленного парня реальность сама по себе полна подарков на день рождения: «Можно, я устрою тебе ураган в свои двадцать один?» Ну и что значат в сравнении с этим семьсот евро? Эта сумма кажется мелочью, когда чувствуешь запах Жозефа, а время останавливается и теряет свое значение, как только мы прижимаемся друг к другу. Мы сходим с ума от наслаждения, которое еще никогда так не походило на смерть, хоть эта перспектива и не пугает нас нисколько.
Но я ушла от темы.
Присутствие Ларисы – тень, брошенная посреди яркого света нашей любви – не помешало нам провести самые очаровательные выходные, какие только могли быть. Выходные, полные безбашенной романтики вплоть до дегустации на следующий день утиного филе магрэ на террасе кафе по улице Риволи. Случайность это или нет, но именно это кафе стало нашим убежищем на протяжении последующих четырех лет. Там мы зализывали раны, нанесенные ссорами, нашими личными драмами, там мы снова учились любить друг друга с бутылкой слишком сладкого белого вина Coteaux-du-layon на столе, которое непременно погружало нас в мечтательное, сентиментальное состояние. Жозеф обычно приходил туда в гневе, сытый мною по горло, но, пригубив этот нектар, переставал ворчать, а в его глазах читалось удовольствие. Я в эти минуты молила создателя, чтобы он дал мне возможность хотя бы еще один раз поцеловать эти необыкновенные губы. После Жозеф был расположен к разговору и выслушивал мои не самые удачные оправдания изменщицы-рецидивистки. Вино ласково шептало ему на ухо, что обижаться на меня за это не стоит, что не нужно верить в то, что, как ему кажется, стоит за моей ложью. Что я его любила.
Одним из таких обманов, длившихся четыре года, были встречи с Артуром. Жозеф так и не смог поверить, что между Артуром и мной больше нет физической близости. В который раз я протыкала себя острием обмана ради возможности опустошить с Артуром бутылку розового вина, потому как кому, как не ему, я смогу поведать эту унизительную историю? Когда через несколько дней я в подробностях рассказала ему обо всем, сидя на его диване, мне показалось, что он никогда не перестанет смеяться. Смех Артура смывал мою досаду.
– Ну откуда взялась идея пригласить русскую?
– Не знаю. Я хотела, чтобы девушка была красивой.
– Русская проститутка, назначающая встречу в Cafe de la Paix!
– Знаю, черт возьми, знаю. Не добивай меня.
– Русские проститутки – для бизнесменов, которым пофиг. Ну не знаю, у тебя что, нет подружки, которая бы заинтересовалась…
– Нет у меня таких подружек. Понимаешь, это не так-то просто – предложить подруге потрахаться с тобой и твоим парнем. Предположим, она заинтересуется, но нужно, чтобы это произошло в определенное время, в определенном месте и без предварительных встреч… Нет уж, это задача для проститутки, не знаю, какие тут могли быть еще варианты.
– Да, но ты слишком много требуешь от проститутки. Русская она или нет. Для этих девчонок – это работа. Естественно, секс втроем с участием Жозефа радует их чуть меньше, чем тебя. Ты представляешь, если бы им приходилось каждый раз хотеть клиента?
– И что, ты хочешь мне сказать, что молодая пара вроде нас и толстый извращенец шестидесяти пяти лет – это одно и то же?
– Для нас – нет, потому что мы не работаем в этой сфере. Ей наверняка не так тяжко проводить вечера с такими клиентами, как вы, хотя, с другой стороны, если она не привыкла работать с молодыми парами, это, наоборот, может быть нелегко. И в ее случае, очевидно, так и было.
На минуту я глубоко задумалась, как это часто бывает у меня при общении с Артуром. Частоты его голоса меняют даже самые устоявшиеся мнения.
– Все, что я хочу сказать, это лишь то, что ремесло проститутки – дарить человеку иллюзию.
– Вот тебе и подарили иллюзию.
– Иллюзию, которой можно поверить. Не цирк, попахивающий лицемерием за версту. В этом отличие хорошей путаны от плохой.
– И все-таки иллюзия остается иллюзией, ведь вы заключаете договор. Тебе известно это. Но, возможно, женщины менее легковерны или им сложнее угодить. Конечно, всегда лучше, когда работа выполнена хорошо, когда не притворяются, но я думаю, что мужчины подспудно соглашаются с тем, что это будет комедия. Я могу заверить тебя, что у Порт-Майо, где у тебя могут отсосать в твоей же машине, девушки не особо утруждают себя игрой.
Тут Артур приподнял бровь.
– Нужно признать, что расценки там в пределах тридцати евро.
– Ага! – гавкаю я.
– А ты сколько заплатила?
– Семьсот евро за два часа.
Артур снова загоготал, и меня в конечном итоге это взбесило.
– Хватит уже.
– Ну и ну! Семьсот евро!
– За семьсот евро, полагаю, я имею право требовать уровень «Комеди Франсез».
– Само собой разумеется, принцесса моя!
– Потому что, в конце концов, это работа, признаю, но, когда ты шикарно зарабатываешь, можно ведь просто-напросто проявить и немного благожелательности, нет?
– Благожелательности 1 Слушаю тебя сейчас и понимаю, что мы затронули великолепное понятие.
– Я бы, во всяком случае, поступила именно так. Я бы играла по-крупному.
– Да, мы в курсе, ты была бы отличной проституткой. Лучшей из всех.
– Я не это хочу сказать.
– Это я тебе говорю.
В тот вечер мы с Артуром не сделали ничего плохого. Я буду настаивать на этом до конца.
Monolith, T. Rex
Когда на эти очертания посмотрят глаза другого человека, не мои, значительная часть Берлина исчезнет в условиях почти полного равнодушия. Это происходит ежедневно: все обитатели этого города справляют таким образом траур по одному или нескольким местам, которые представлялись им вечными, однако испарились в один прекрасный день. И маленькая улочка, на которую наткнулся случайно во время бесцельной прогулки, когда искал что-то совсем другое, что так никогда и не нашел, навсегда останется вихрем в череде воспоминаний, не впечатляющим никого, кроме тебя самой.
Я не знаю, как пережить эту потерю. Я никогда не сталкивалась с такой проблемой. Обычно я сама покидаю места, которые мне дороги, а по возвращении замечаю, что моя личность не была необходимым условием для их нормального существования. Для таких случаев у меня заготовлена трусливая, но довольно эффективная тактика – я стараюсь об этом не думать. Стараюсь не смотреть в определенное место на плане метро, и, так как ничто не заставляет меня идти туда, моя ностальгия остается поверхностной, пусть и не исчезает.
Только вот вчера во время велосипедной прогулки я потерялась и в попытке снова выехать на знакомые широкие улицы наткнулась на перекресток, где менее года назад я выходила на автобусной остановке. Я помню местную булочную, магазин строительных товаров. Колокол огромной церкви, расположенной в двух шагах от меня, равномерно постукивал, издавая удаляющиеся раз за разом звуки. В наших комнатах этот шум воспринимали как ворчливые упреки родителя, слишком старого и находящегося слишком далеко, чтобы вызвать у нас хоть какие-то угрызения совести. Тень церкви, которая казалась еще более внушительной от близкого к борделю расположения, падала на кафе, где девушки пили пиво с лимонадом после работы. От ее стен веяло ледяным воздухом, гробовое дыхание очищало нас от влажной теплоты и пьянящего запаха двадцати самок, вдыхающих и выдыхающих один и тот же кислород.
Вот таким был Дом, зажатый между святым местом и начальной школой. Неудивительно, что его пожелали закрыть и что им это удалось. Звон колокола подсказывал нам время, а детские считалки ненавязчиво убаюкивали девушек, когда те покуривали в саду.
Еще не так давно, пристегивая велосипед, я поднимала глаза и по одним шторам на окнах могла угадать, кто уже начал работу. За розовым, сиреневым или желтым органди были видны силуэты, которые я узнавала мгновенно. За соломкой на балконах я видела кольца сигаретного дыма и тени вытянутых ног. Сегодня смотреть больше не на что. Между школой и церковью стоит здание, в котором соседствуют жильцы и сотрудники офисов. Офисов!.. Плакать охота. Мне даже не нужно заходить во внутренний дворик, чтобы понять, что сад превратился в дизайнерскую террасу, покрытую искусственным токсичным газоном. Оттуда, где я стою, я отлично представляю себе офис открытого типа, несколько маленьких столиков, скамейки, накрытые полиэтиленом, пастельного цвета пепельницы для тех, кто захочет выкурить сигаретку и выпить кофе латте во время минутки отдыха, предоставленной гуру-начальником. Он, наверное, заплатил огромные деньги за то, чтобы биде разнесли в пух и прах. «О, ненавижу вас, сборище деревенщин», – думаю я, пытаясь разглядеть сквозь незанавешенные окна хотя бы одно лицо, на которое я могла бы направить свое презрение.
В этот момент стройный ряд малявок перешел дорогу с противоположной стороны улицы. Тут и там их окружали около шести воспитательниц. Я узнала ее по нежным ноткам голоса, когда она проходила мимо меня. Она держала за руки двух маленьких девочек и пыталась загнать обратно в строй мальчишку, пришедшего в восторг при виде продавца кебабов, нарезающего мясо. Ее тяжелые волосы были собраны в строгий шиньон, на ней были немного выцветшая юбка и эспадрильи. Наши взгляды пересеклись в тот момент, когда она схватила за руку пацана. За несколько секунд вежливое равнодушие превратилось в вопрос. Я видела, как ее обдало холодом, когда она наконец вспомнила, кто я. Уверена, что она поспешила заговорить со мной в страхе, что я назову ее именем, на которое она больше не откликалась: «О! Как дела?»
Ее улыбка была полна тревоги. Она бросила взгляд на группу, которую сопровождала, и в этом взгляде читалась молчаливая мольба. Кем бы я могла ей приходиться? Бывшей соседкой, двоюродной сестрой, племянницей?
– Я проездом в этом районе. Какое совпадение! Как твои дела?
– Очень хорошо!
Девчушки, которых она держала за руки, стали разглядывать меня. Я кивнула им в надежде, что это будет выглядеть дружелюбно, но общение с детьми никогда не давалось мне легко, и они, разинув рты, продолжили пялиться на меня своими слишком умными глазами. Нас окружили, и она попыталась вежливо вывернуться:
– Мне нужно идти.
– Мне тоже. Было очень приятно увидеться, какой бы короткой ни была встреча.
Она уже почувствовала облегчение, поэтому улыбнулась, а потом и вовсе засмеялась. С ее смехом ко мне вернулось столько воспоминаний, что одновременно стало и очень холодно, и очень жарко и захотелось плакать. И ее предложение, сделанное из чистой вежливости, чтобы не убежать вот так просто, отнюдь не помогло:
– Нам бы выпить кофе как-нибудь.
– С удовольствием.
– Созвонимся тогда.
И пока она удалялась, спрятавшись в туче напевающих что-то детей (эти звуки под окнами были нашим регулярным саундтреком), две мысли овладевали моим разумом. Первая, не такая уж и важная, по сути, – это то, что у нее нет моего номера, как и у меня нет ее. Вторая, та, что засела в тот день в моей голове, во всяком случае, на время, пока я снова не оказалась на улицах Кройцберга, заключалась в том, что ее задница, подпрыгивающая под юбкой в цветочек, совсем не изменилась. И несмотря на то, что с тех пор, как я видела ее голой в последний раз, прошло несколько месяцев, даже если я не вспомню ее имя, вид ее задницы крепко засел в моей памяти: подрагивание ее белого тела и созвездие родинок на пояснице – этот красивый толстый зад куртизанки, шагающей теперь по Берлину в одежде воспитательницы.
Spicks and Specks, Bee Gees
Я должна вспомнить все. Нужно, чтобы где-то сохранилось точное описание того, чем был Дом, и чтобы это описание беспрепятственно порождало видения, как можно более близкие к реальности. Хотя, на самом деле, точность не так уж и важна. И капли таланта хватит, чтобы воспроизвести расположение комнат и цвет штор, меня куда больше заботит то, как передать душу этого места, ту текучую нежность, которая делала плохой вкус восхитительным. Много слов не нужно – нужны верные слова. Хороший писатель смог бы сделать это на десяти страницах. Я написала уже двести и, кажется, так и не смогла приблизиться к тому, что действительно интересует меня. К единственной захватывающей вещи. Я подхожу к этой теме тысячей самых разных путей, и каждый раз она ускользает, оставляя меня снова с пустой головой, еще более пустой от того, что на короткий миг она была полна мыслей.
Когда добираешься до борделя на метро, как поступали многие из девушек и клиентов, на выходе нужно подняться вверх по длинной улице по направлению к церковному колоколу. Недалеко от места назначения находится парк, зеленый как летом, так и зимой, но довольно мрачный, если бы не покрытое льдом озеро, обрамленное, как унылое полотно, рядом усыпанных инеем высоких черных деревьев. За парком следует пивной бар, мимо которого девушки проходили, опустив головы, не имея ни малейшего желания встретить одного из своих клиентов. Ясли, начальная школа. Булочная, студия загара. Донерная, а напротив нее – цветочный магазин. Старый западный квартал, не представляющий никакого туристического интереса, куда не заглянул бы никто, кроме местных жителей, если бы не эта дверь дома номер 36. Зажатая между двумя рядами кругло постриженных кустов, она еле заметна. Среди одинаковых звонков привлекает внимание одна старая медная кнопка. Стоит легонько нажать на нее, и дверь уже отпирают. Вот и слегка обветшавшая прихожая, выложенный кафелем пол в виде шахматной доски – смотрится все немного по-мещански. В глубине – крохотная деревянная дверь, которую во время недавней уборки забыли помыть. Она ведет во двор, где уже чувствуется запах Дома, где можно услышать звук женского смеха, приглушенный двойными стеклами, и звонки в многочисленные двери, открывающиеся и закрывающиеся вслед за мужчинами.
За промытой дождем соломкой видно, как поднимаются вверх ленты голубого дыма. Иногда громко произносится женское имя, разрушая тишину своими вкрадчивыми, лживыми гласными. Это могла бы быть просто терраса, как и было задумано. Единственный способ найти источник шепота и криков, узнать, кто эти откашливающиеся курильщицы, – это зайти внутрь, что я и собираюсь сделать.
Из второго холла, обделенного ремонтом, наверх ведет лестница из старинного дерева с широкими красивыми перилами изящной отделки, на которых уже облупилась краска. Закрывая глаза, я все еще чувствую и всегда буду чувствовать их объемные формы, богатый рисунок и трещинки – на ощупь как чешуйки рептилии. Не успеешь и вздохнуть, как взбегаешь по ней на второй этаж. На самом деле это полуэтаж, здесь его называют Hochparterre[4]. Будто не на своем месте в этом старинном здании тяжелая бронированная дверь, на которой выбили золотыми буквами название «Дом», сопровождаемое экстравагантной подписью «Самоиздательство». Как будто фирма, занимающаяся самиздатом, может позволить себе такую дверь и такие буквы.
Мой палец касается звонка. Изнутри приглушенно доносится вышедшая из моды трель, и гомон маленьких девчонок резко утихает, а потом снова поднимается, но уже вполголоса. Мне уже слышатся шаги домоправительницы, но за то недолгое время, необходимое ей, чтобы протиснуться между девушками, я успеваю набрать в легкие воздуха, скопившегося в подъезде. Этот воздух – уже снадобье. Можно подумать, что из-под двери выскальзывают запахи женщин, смешанные с ароматом из прачечной на втором этаже, где эти самые пятьдесят писателей, издающих книги на собственные деньги, стирают свои полотенца и трусы. В смеси этих двух стойких порывов ветра есть что-то и детское, и неприличное – будто нюхаешь белье кучки школьниц, спрятавшихся в туалете, чтобы покурить. В комнате, где они покрикивают, распылили слегка вульгарную эссенцию, что-то среднее между хлоркой и дешевым дезодорантом, а потом сожгли пять разных ароматических палочек в напрасной попытке скрыть душок табака, потных подмышек и на липких пальцах – запах мужчин, всегда приходящих лишь на время. Эта еле угадываемая нотка немного кисловата. Через десять лет, за которые офис поменяет своих съемщиков раз двадцать, а стены несколько раз побелят, чтобы затем вновь отколупать с них краску, в этом подъезде все равно будет ощущаться этот необъяснимый запах. Понять его смогут лишь те жители Берлина, которые видели, как в сумраке комнат мужчины извлекают свои члены из штанов, а женщины с шумом подмываются в биде (теперь уже давно разрушенных) большим количеством воды.
Дверь открывается. Лучше чувствуется естественный запах, одновременно более явный и более спрятанный армией свечей, плавящихся на малюсеньком столике у входа. Танцующий ореол пламени почти оживляет отвратительную репродукцию Климта – это скорее постер, который запихнули в дорогую рамку. В этой восьмиугольной комнате есть две двери, первая из которых ведет в маленький зал, напоминающий будуар. Тут есть кресло из белой кожи, низенький столик, устланный старыми выпусками газеты Spiegel[5]. Ее здесь обычно листают с такой же рассеянной тревогой, что и в приемной врача. Вокруг торшера в югендстиле[6], освещающего помещение лишь наполовину, целый лес из искусственных растений змейкой извивается от пола до потолка, исчезая то тут, то там под занавесками и снова выглядывая чуть дальше. Несмотря на полумрак, видно здесь лучше, чем где бы то ни было. Именно сюда мужчины приходят, усаживаются в белое кресло, и спустя несколько минут к ним одна за другой выходят девушки, чьи силуэты отражаются со всех возможных сторон в настенных зеркалах. Эту комнату называют «залом мужчин», хотя он всегда принадлежал только девушкам. Мужчины здесь находятся лишь украдкой, утопая в кресле, поглотившем уже много таких, как они. Многочисленные и взаимозаменяемые, тогда как каждая женщина приносит в комнату свой уникальный аромат и свою вселенную, которые останутся здесь надолго после ее ухода.
Вторая дверь всегда приоткрыта. За ней убегает вдаль узкий коридор, покрытый ковром бордового цвета и потертый ногами работниц борделя и их клиентов. На стенах развешены афиши времен Belle Epoque,[7] в основном французские. Очередной «Поцелуй» Климта красуется над одной из дверей – речь идет о Желтой комнате, где на полу дубовый паркет. Сразу при входе, слева, стоит комод из светлого дерева, а на нем – букет из пластиковых полевых цветов. Справа – диван, покрытый желтым текстилем, журнальный столик и тара для мелочей, куда по определению при входе нужно вываливать все из карманов, но никто так никогда не поступает. Однако если что и притягивает взгляд настолько сильно, что невозможно сопротивляться, так это кровать, находящаяся прямо посередине комнаты. Сразу понятно, что комод, стол и диван были просто предлогами, призванными выставить в выгодном свете главный предмет мебели, – украшениями, поставленными здесь для скромников, пребывающих под впечатлением от этой внушительной кровати. Диван служит лишь для того, чтобы, сидя на нем, привыкнуть к спектаклю проститутки, которая голая, как червь, взбирается на эту небольшую сцену и устраивается на подушках из золоченого и зеленоватого, как на перьях у павлина, сатина спиной к двум огромным триптихам. Одному из них шесть десятков лет: кто-то из первых обитательниц дома раздобыл его на блошином рынке. Я не могу смотреть на него, не задумываясь о том, что он повидал до того, как оказался тут – в месте, где теперь двадцать или тридцать раз за день он наблюдает, как сношаются женщины и мужчины в более или менее эксцентричной манере: мужчины кончают с закрытыми глазами, а девушки над ними внимательно поглядывают на часовой маятник за стеклом. Рядышком расположена Сиреневая комната, с виду напоминающая грязноватый мотель, освещенная самую малость тусклым светом. На полу – белый ламинат, вздувшийся в углах. Шпильки от каблуков оставили возле кровати следы. Несколько мрачную Сиреневую комнату занимают только тогда, когда все остальные заняты. У Сиреневой комнаты есть одна общая стена со вторым крохотным залом, где тоже ожидают посетители, о которых в дни большого наплыва клиентов могут позабыть.
Пробивая себе путь дальше и проходя мимо мужского зала, натыкаешься на вестибюль, змейкой огибающий другой конец коридора. Это важнейший пост для наблюдения, о котором даже не догадываются те, кто не носит юбку. Пурпурного цвета театральная занавеска постоянно подрагивает и обозначает границу между внешним миром и закрытой вселенной, создаваемой девушками каждый день с десяти утра до одиннадцати вечера. Если входная дверь приоткрывается, чтобы впустить мужчину, холодный поток автоматически согревается влажностью большой обжитой комнаты, пышущей жизнью прямо за шторой. Если бы мужчины были повнимательнее, если бы ослепляющая жажда спаривания и домоправительница не увлекали бы их прямиком к креслу из белой кожи, возможно, они рассмотрели бы через дырку в шторе, как появляются и исчезают длинные ноги, затянутые в черный нейлон, половина лица какой-нибудь девушки, зажмурившей глаза, и искусственные ногти, держащие шторы закрытыми.
Меня тянет за эти шторы, но воспоминания о комнатах стираются и от этого становятся нужнее. Я их недолюбила.
Коридор поворачивает, рисуя локоть. Там из фонтана Венеры, украшенного лепниной, мелодично, будто ребенок мочится, льется парфюмированная вода с запахом имбиря. Сразу же за поворотом располагается Серебряная комната. Она похожа на коробку с конфетами и заклеена с пола до потолка обоями с нарисованными сливами. Размеры здесь лилипутские: сразу обращаешь внимание на кровать, растянувшуюся от одной стены до другой. В глубине, под балдахином с вышитыми на нем звездами, маленькое оконце пропускает теплый поток воздуха со двора и детские песенки, звучащие во время перемены. За последней дверью спрятан умывальник, обложенный с двух сторон стопками полотенец. В этом месте Дома сливаются все ароматы, которыми мы пытались замаскировать запах тел, и нос настолько полон ими, что начинает кружиться голова. Появляется непреодолимое желание упасть на кровать и подползти к окну. Полотна на стенах – единственные свидетели этого бреда – кажутся галлюцинациями. Может быть, это от того, что в нормальном мире им нечего было бы делать друг рядом с другом: гравюра Камасутры, объявление о бале эпохи «безумных лет» и копия работы Тамары де Лемпицки, – все посреди сиреневых занавесок. Мы находимся на грани несварения желудка: в этой комнате тискаются как в истерике, а следом идет тишина, которую тяжело прервать. При выходе из комнаты неестественный вид коридора дарит ощущение прогулки в лесу.








