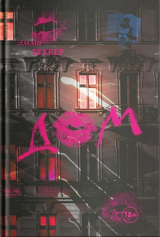
Текст книги "Дом"
Автор книги: Эмма Беккер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Последняя из его пощечин всколыхнула воздух, потому что я выскользнула из его рук, опустившись на паркет, и закричала:
– Нет! Нет! Черт подери!
Он разом съежился с видом невыносимого раскаяния, смягчившего черты его лица. Я встала на ноги, немного пошатываясь, окидывая взглядом комнату в цветочек и свою любимую комбинацию, теперь походившую на лохмотья. Из колонок фоном доносилась заурядная музыка.
– Да за кого ты себя, скажи, принимаешь?
Он стыдливо молчал, как ребенок, укусивший другого ребенка.
– Ничего не имею против шлепка по заду, пощечину еще можно стерпеть, но вот так бить девушку? Нужно быть натуральным безумцем!
Мой гнев стал гораздо сильнее, когда я осознала, что готова расплакаться. Пусть я снова была на ногах и высказывала ему свое возмущение, я все же оставалась для него проституткой, внезапно осознавшей, что ей недостаточно заплатили за попытки расквасить лицо. Я не была для него оскорбленной женщиной, нет, – я была шлюхой, испугавшейся за свои рабочие инструменты. И, в сущности, это тоже было правдой.
Он без одежды стоял передо мной на коленях с членом, вытянувшимся вдоль живота, пожирая взглядом маленькую избитую девочку, восставшую против всемогущего папы. Он тащился от сдерживаемых мною слез и бросился к моим ногам:
– Я не хотел причинить тебе боли, я не думал, что делаю тебе больно…
– А когда я сказала, чтобы ты перестал? А когда я попыталась выскользнуть?
– Ты не говорила мне остановиться.
– Во-первых, не трожь меня. Еще раз тронешь, я врежу тебе по морде, понятно?
Я закурила сигарету, а он встал, покачиваясь, и сел на другом конце дивана. С ума сойти, как же он был похож на самого первого любимого мной мужчину, которому я так никогда и не осмелилась сказать нет, – не таким тоном, не таким образом.
– Мне жаль, – вздохнул он пристыженно. – Могу ли я что-то сделать, чтобы загладить вину?
– Ты можешь уйти.
– Я уйду.
– Отлично.
Он застегнул ширинку, снова надел обувь, длинное пальто. И, когда я уже закрывала за ним дверь, добавил:
– Можно снова прийти к тебе?
Во мне уже не было той ярости, что обуревала меня ранее; я тихо вернулась на свое место, вне своего тела, и с ручного управления перешла в автоматический режим.
– Обещаю, я буду хорошим.
– Не толкай меня, не то я разозлюсь.
– У тебя есть на это полное право, ты же знаешь. Я знаю, что заслужил это.
И он ушел. В том, как он смотрел перед собой, была такая грусть, что-то настолько отчаянное, и я поняла, что снова встречусь с ним, если он вернется. Потому что теперь я знала: это был Он.
Спустившись, я ничего не сказала другим девушкам. Таис, заметив мои розовые щеки и учащенное дыхание, спросила меня, посмеиваясь, кончила ли я. В ее случае это наверняка было правдой: она только что покинула объятия постоянного клиента, который покупал час с ней, чтобы зарыться лицом ей в промежность.
Тогда я не смогла бы объяснить им, какие чувства испытывала: я мало что чувствовала и уже писала в своей голове. Картины прошлого часа мелькали с удручающей точностью. Меня подмывало позвать хозяйку и выписать в отношении этого типа старый добрый запрет. Нет, скорее, дать ему прийти снова, дать ему пофантазировать о граде ударов, которыми он бы засыпал меня, а потом сказать ему нет. Нет, что касается меня, и еще нет – в отношении всех остальных, старик, чтобы ноги твоей больше здесь не было. Перед этим я бы передала информацию девушкам, даже прикрепила бы к стене в зале самое подробнейшее из возможных описаний. Чтобы больше никогда, какой бы ни была предложенная сумма, он не смог прикоснуться своими руками к кому бы то ни было в Доме. Я бы уточнила, что это он был тем самым клиентом Светланы. Я бы донесла эту новость аж до соседних публичных домов, где он однозначно тоже попытал бы удачу. Если бы он уже не сделал того, что сделал. Если бы уже не попытался отделаться от своего фрустрированного оргазма в промежности молоденькой полячки, едва достигшей совершеннолетнего возраста.
Теперь, когда ко мне вернулось спокойствие, из-за этого бывшего клиента Светланы передо мной встала моя первая настоящая дилемма в этом борделе. Мне в новинку эта по-странному богатая мука: решать, управляем ли подобный клиент. Вряд ли это может сравниться с внутренними дебатами, которые обыкновенно терзают меня. Например, решить, хочу ли я снова принять Вальтера, потому что он постоянно пытается засунуть мне палец в задницу, хоть я и сказала ему нет. Или Питера, потому что его бесконечные ролевые игры расшатывают мои нервы и собрать себя потом по кусочкам невозможно. Эти двое и большая часть всех остальных клиентов не создают никакой моральной проблемы, в них нет ничего, что может обоснованно разъярить честную женщину. Что бы он там ни говорил, Питеру стоило бы поговорить о своих фантазиях с женой: это уберегло бы его от растраты всей зарплаты в борделе. То же самое с Вальтером, который возвращается к нам от безделья и, вероятно, от лени. В сущности, бордель не для таких, как они. Во всяком случае, я не так себе это представляю. Это место выдумали в ту эпоху, когда существовали только шлюхи и честные женщины. В этом месте можно было потребовать вещи, способные разрушить брак или привести на эшафот, где мужчину повесили бы у всех на виду. Вдовцы забывали там про свое одиночество, хорошо, но надо подчеркнуть, что бордель также был местом, созданным для защиты женщин от странных изощрений их супругов. Тогда думали, что если у мужчины встал, то его член начинал брать верх над всеми остальными органами. Достаточно почитать маркиза де Сада!.. Среди тысячи историй, что он пересказывает или выдумывает (какая разница), есть причуды, от которых фантазии моего клиента показались бы чрезмерной набожностью. В «120 днях Содома» одна из бывалых проституток-сказительниц (вот так красивое словечко) рассказывает о своем визите к одному благородному мужчине во времена своей молодости: ее ни о чем не предупредили, отправили в темную комнату, куда после долгих часов ожидания забились слуги с плетками, переодетые в призраков. В то время хозяин дома мастурбировал как ненормальный, слушая, как она бьется об стены и орет от страха – ей за это щедро заплатили. Отмечу, что на момент повествования ей пятьдесят лет и у нее отсутствует пара пальцев и пара зубов: их вырвал клиент, заплативший за этот каприз более чем приличную сумму. Нет сомнений, что рассказчик здесь – скорее безделье де Сада, чем сам маркиз. Сложно представить, насколько годы в тюремном заключении трансформируют мужское воображение. Однако в этом все же присутствует доля правды: бордель всегда задумывался как место свободы, какой бы устрашающей она ни казалась. А смирение и терпение проституток всегда приводили к тому, что они подавляли свое возмущение, выставляя более крупный счет. Это верно и сегодня: даже теперь, когда проституток практически воспринимают как нормальных гражданок, имеющих неотчуждаемое право сказать нет.
Не то чтобы этот мужчина требовал невозможного. Хотеть очень молодую девушку или такую, которая казалась бы юной, – в этом нет ничего, что заставило бы проститутку поднять брови, разве что она стара или в плохом настроении. Зайти дальше и попросить двадцатипятилетнюю девушку прошептать, что ей одиннадцать, – это уже на грани и морально неприемлемо, но, чтобы установить это, нужно дойти до мыслей, которым нет места в прагматичной голове проститутки посреди смены. Несколько пощечин в контексте фантазии – это еще можно стерпеть. Конечно, в Доме мы просто симпатичные неженки-перепелки, и у него было бы мало шансов найти среди нас желающую. Но думаю, что наверняка есть место, где за кругленькую сумму возможно плохо обращаться с девушкой, называть ее шлюхой, заставить ее играть в маленькую девочку и в довершение получить минет без презерватива. Скорее всего, можно будет даже дать ей затрещину и сильно, если была предварительная договоренность.
Но деликатность состоит в том, чтобы договориться заранее, уважая тот факт, что проститутка как-никак остается женщиной, а женщина – живым существом с правами, которые никакая плата не способна отнять. Не в этом ли смысл того извращения, что претерпело понятие «бордель» в течение XX века, вписывающегося в общую тенденцию должного уважения ко всему, что движется, дышит и разговаривает?
Но дело в том, что этим мужчиной движет именно желание застать девушку врасплох. И именно в этом и состоит моя дилемма – я его понимаю. Он получает удовольствие оттого, что выглядит как нормальный мужчина, пришедший оставить немного своего семени в этой общей кассе. А потом видит, как потихоньку в глазах женщины появляется страх, наблюдает за тем, как профессиональная маска соскальзывает и открывается настоящее лицо проститутки. Ведь проститутка лишь девушка со своими страхами и отвращением, аналогичными страху и отвращению других женщин. То, что он использует кулаки, чтобы удовлетворить эту свою фантазию, как бы первобытно это ни было, – это лишь попытка увидеть человеческую реакцию на лице секс-машины, которую представляет из себя проститутка.
Только вот никто уже не говорит о деньгах. Никакая проститутка не согласится оставаться в неведении того, как далеко намеревается зайти клиент. Для проститутки это ужасная вещь – застрять в одном мгновении, быть неспособной представить себе конец, каким бы он ни был. Пусть даже клиент четко сформулирует свою просьбу: «Хочу врезать тебе по лицу». После того, как он получит на это согласие, это, конечно, будет сбивать с толку, но станет понятно, где предел. Однако этот мужчина ни на йоту не контролирует себя, когда у него встает, поэтому ему и в голову не приходит предупредить. Он сам не знает, что произойдет. Невозможно узнать, как распутать отвратительный клубок его сексуального воображения: в нем уйма как очень, очень юных девушек, так и проституток. Они одновременно ведут себя как шлюхи и в то же время неизбежно целомудренны; совершенно подчинены ему, но в то же время способны восстать против него; нужно, чтобы они давали сдачу, но до ужаса боялись его, – по понятным причинам, потому как заканчивают они жестоко избитые… Может быть, во время секса он чувствует, насколько его идеал неясен и недостижим, насколько его опустошает это бесформенное желание, единственное различимое воплощение которого пахнет и выглядит как кровь. В голове у него тысячи сценариев, и вместе их соединяет только желание бить, принуждать, кричать, уничтожать – и мы не знаем, фрустрация ли является причиной этой ситуации, это ли ее апогей или, наоборот, он бьет, чтобы не сделать хуже.
В борделе нет ничего невозможного. В теории он как подушка безопасности, защищающая мужчину от смущения, от нужды оправдываться и в особенности – от тюрьмы. Вот уже несколько десятков лет эту роль играет порно. В интернете существует по меньшей мере миллион фильмов, показывающих то, чего хочется этому мужчине, а именно – то, как мужчины издеваются над девушками. И долго искать не нужно, искать вообще не приходится. Главная страница моего любимого сайта кишит недвусмысленными названиями, не нужно даже ключевых слов. Кажется, будто сам компьютер генерирует эти слова. В то же время, если вы хотите романтический фильм, секса между любящими людьми, тут необходимо прибегать к семантическим хитростям, да еще к каким! Удачи тому, кто захочет найти хотя бы один фильм, где нет речи о том, чтобы прибить, разобрать, разбить, взорвать, испачкать, обращаться как с мясом, покрыть спермой, мочой, говном, перерезать горло, придушить, надругаться, изнасиловать… И на каждый любительский фильм, а именно им удается быть самыми возбуждающими и нежными, находится фильм студийного производства, где явно уставшие играть испорченных студенток порноактрисы против всякой логики притворяются проститутками. Сегодня, значит, мастурбируют перед актерской игрой вдвойне проститутки, играющей проститутку, а значит – профессионалку, которая разыгрывает возбуждение. Мастурбируют перед девушкой, которой не хочется и которая играет девушку, которой тоже не хочется, но которой платят, – а значит, у нее нет права высказаться. Поражаешься, видя, как они фальшиво изображают вожделение и смирение, выполняют жесты-рефлексы, раздвигая ягодицы и постанывая «ух-ух», пока их глаза свободно плавают по собственным орбитам, шныряют вверх и вниз, справа налево, пока дамы думают о сокровенном и жаждут только одного – чтобы этот спектакль закончился. Как будто высосав всю субстанцию из историй, где студентки и уважаемые матери семейств получают удары и просят добавки, мужское воображение смирилось и теперь возбуждается от послушности проститутки, которую можно заставить делать все что угодно за определенную сумму. Все так просто и так грустно. Не нужно объяснять, что это говорит о мире, в котором мы живем. Может быть, эти фильмы – необходимое зло, дающее мужчинам возможность избавиться от жестоких фантазий, в которых они подавляют партнершу. Может, благодаря этим фильмам нормальным женщинам и проституткам сегодня не приходится терпеть столько же грубости, сколько раньше, когда технологии не позволяли воплотить в жизнь мимолетные картинки.
Нормальный на вид мужчина, но хранящий в своей голове позывы, которые никто не может ни удовлетворить, ни уничтожить, – убийца женщин на свободе, пытающийся, насколько это возможно, приблизиться к границам дозволенного, надеясь, что проститутке будет стыдно обратиться в полицию. Но как далеко он зайдет? Куда заведет его необходимость бить, если оставить все как есть? Какой будет следующая стадия? Если даже бордель не может усмирить это напряжение, если мы говорим не о снятии напряжения, а о смертоносном инстинкте, унаследованном от животного. Значит ли это, что он застрял в одиночестве с дефектом, полученным при производстве? Застрял – я хочу сказать – между своим психиатром и самим собой, между моралью и тем коварным внутренним голосом, что шепчет ему на ухо, как только он видит пацанку: Как думаешь, она заплачет, если ты влепишь ей оплеуху? Что за звук она издаст? Зарыдает ли она или постарается спрятать лицо в подушку, молясь, чтобы все закончилось побыстрее?
Я думаю о своей сестре. Прохожу мимо лицея, расположенного возле метро, и вижу всех этих пышущих жизнью девчонок: их красивые белые зубки и маленькие груди, хранящие надежду и всю нежность мира.
И нет в них ни малейшего недоверия к людям. Соблазнительные соблазнительницы, они совершенно не осознают свою красоту. Они отпускают никому конкретно не предназначающиеся обольстительные взгляды: они предназначены всем вокруг. Однако вот такой мужчина, шатающийся поблизости, отметит это и примет на свой счет. А как противостоять соблазну подшутить над стариком, у которого язык вываливается изо рта, когда тебе семнадцать лет и так хочется чувствовать себя красивой? Я думаю о своей сестренке, думаю обо всех девочках, и в особенности – о себе, когда мне было столько же. Как было бы легко выманить меня тогда из компании подружек, увлечь в кафе и позже пригласить в темный час в какой-то гостиничный номер. Я бы точно попалась на удочку! Сохранив это в секрете из принципа, я бы бросилась туда как в омут с головой. И в тот момент, когда в возбуждении он поднял бы на меня руку, я бы убедила себя, что это взрослые штучки, и храбро дала бы ему истязать себя, слишком гордая для того, чтобы запротестовать и признать, что мне страшно. Эта кучка маленьких женщин, слишком громко смеющихся и сверкающих от радости, – послушные жертвы. Между лицеем и борделем едва двести метров: откуда мне знать, что, выходя из метро, он не задумывался об этом? Если бы не было борделей, где можно разогреться законным образом, кто гарантирует мне, что он не пошел бы тереться о тела более юных девушек, которыми легче манипулировать? Я готова поспорить, что единственный аргумент, помогающий удерживать его вдали от этой или какой другой школы, это страх оказаться в тюремной камере, уже поджидающей его где-то в Берлине. И все, что я могу сделать, – это молиться, чтобы поганая мысль оставалась на задворках его разума. И чтобы однажды он в своей грубости доигрался с проституткой, что привело бы его в тюрьму, и чтобы этой проституткой была не я.
Ballrooms of Mars, T. Rex
Окна без решеток. Двери без щеколд. Стоит лишь нажать на ручку, и перед тобой – дворик, улица, внешний мир. Девушки, желающие уйти, могут просто уйти, Дом уж точно не станет им препятствовать. И часто они возвращаются обратно. Неожиданные побеги, отказы от работы посреди смены могли бы заставить хозяйку предпринять строгие меры: в этой профессии такое встречается на каждом шагу. Многие учреждения требуют от девушек такой же надежности, как парикмахерские или рестораны от своих сотрудников. Но не Дом.
В самом начале, когда я неважно себя чувствовала или если солнце светило слишком ярко, я забрасывала Дом отличными оправданиями: месячные, ангина, приезд семьи, неполадки в метро… Как только сообщение было отправлено, я испытывала огромное чувство вины, представляя, как Инге или Соня глубоко вздыхают и начинают вычеркивать мои рандеву одно за другим, как им приходится оповещать моих клиентов, что я в который раз не приду. Вплоть до того дня, когда одна из них написала мне в ответ на сообщение: «Дорогая Жюстина, когда ты не приходишь, нет смысла объяснять нам почему. Достаточно просто сказать, что не можешь прийти».
Я отлично почувствовала раздражение в ее тоне, оттого что ей пришлось состряпать длинное сообщение посреди хаоса звонков, доносящихся из всех комнат одновременно: кто-то входит, кто-то выходит, наверняка она сидела в компании одного из моих клиентов, поджидающего в зале. Я ощутила себя как в школе, как будто в который раз забыла свой учебник, а учитель пожал плечами вместо того, чтобы разозлиться, всем видом говоря, что теперь он умывает руки. Такое поведение было гораздо хуже выговора. Позже, наверное, ближе к закату солнца, в тот час, когда я должна была закончить работу и вприпрыжку направиться домой, полная мужской радости и женского смеха, до меня дошло, что, несмотря на некое раздражение, в этом сообщении было больше доброжелательности, чем того заслуживало мое вранье. Я прочла: «Довольно, лгунья, лентяйка, оставайся бездельничать дома», в то время как стоило скорее прочесть: «Мы прекрасно понимаем, что есть дни, когда всего становится слишком много: мужчина на тебе, бесконечные разговоры, глупые требования. Вероятно, ты нормально себя чувствуешь, нигде у тебя не болит, но, если бы ты чувствовала себя обязанной прийти, в конце концов настроение у тебя испортилось бы, и клиенты почувствовали бы это. Но плевать на мужчин. Важно то, что здесь мы хотим для тебя свободы. Поэтому не теряй попусту времени, оправдываясь, – достаточно просто предупредить нас».
Теплым летним вечером, сидя на террасе ресторана, где мы с сестрами набивали животы, опустошая бутылки с кьянти, этот вывод, конечно же, только прибавил мне чувства вины. Решительно, это место было слишком хорошим для меня. Там поощряли мои самые низменные инстинкты, среди которых – прогуливать работу в приступе лени. В этом месте, в отличие от меня, не считали, что мы выполняем абы какую работу. Там считали, что для этой работы необходимо хорошее расположение духа дамы, даже если придется помучить ожиданием пару-тройку мужчин. Если эта дама станет отменять рандеву слишком часто, клиенты наверняка уйдут к другим, но, по моему опыту, они так никогда не поступают. Они дожидаются. Если понадобится – несколько недель, и возвращаются. Чем больше девушка ускользает от них, тем больше они в ней нуждаются. Не считая тех, кто, устав от очередного отказа, спрашивает у домоправительницы, существую ли я на самом деле, или Жюстина – это просто завлекалочка для клиентов.
Некоторым домоправительницам приходилось сдерживать едкие комментарии. Этому милосердию их обучила хозяйка. И в последний для Дома вечер, в тот вечер, когда Дезирэ была с нами, окруженная, словно гуру, женщинами, обожавшими ее на протяжении двадцати лет, ни разу не встречав лично, я задала ей свой вопрос. Мы остались наедине. Я чувствовала, как трепещет любовь в моих глазах при взгляде на нее, и понимала, что она видит это.
– Как тебе удалось наладить работу этого публичного дома, будучи настолько доброй? Где ты научилась такой доброжелательности по отношению к женщинам? Ни в каком другом борделе не допускают того, что разрешено здесь.
– Правда? – удивилась Дезирэ, словно не была знакома с порядками в других учреждениях, будто она не открывала двери девушкам, которых сочли недостойными доверия в этих, других местах.
– Из того, что я знаю, ни один бордель не разрешает проституткам приходить и уходить, выбирать свои дни, а потом передумывать, отменять рандеву в последнюю минуту, иногда даже не предупреждая. Здесь девушки знают, что могут после появиться снова, и никто ни в чем их не упрекнет, ну или это будет ерунда. Такого не бывает нигде. Розамунду, которая теперь работает в Т., уволили, потому что она не выходила на работу целую неделю, пусть она и предупреждала заранее. В Р. с Лоттой распрощались, потому что она заболела. А все те места, где девушки не имеют права отказать клиенту, где на них косо смотрят, если, по их мнению, четырех мужчин за день вполне достаточно или если они не хотят делать минет без презерватива даже за деньги… Их обязывают носить туфли на каблуках, наносить макияж, домоправительницы решают за них, когда закончится их смена… Поэтому мне необходимо знать. Ты работала в местах, где начальники были так же добры, как и ты теперь, так?
– Так же добры, как и я… Разве речь и вправду идет о доброте? Это вопрос благоразумия. Не то чтобы я была особо умна. Но я знаю, что это за работа. Я знаю, что бесполезно бегать за девушками, выслеживать их, как полицейские, упрекать в плохом настроении или в том, что на них нельзя положиться. Представь, в один день девушка, у которой назначено десять рандеву, решает не приходить. Ладно, согласна, это немалые деньги, но не сомневаюсь, что пять из десяти ее клиентов выберут другую девушку. Девушки пойдут знакомиться с клиентом спонтанно, и в тот день, когда первая девушка вернется, у нее будут новые клиенты, еще более многочисленные. В результате мы не теряем деньги. Они просто распределяются иначе. А финансовая выгода от девушки, что не хочет работать, ее состояние при выходе с работы… Не думаю, что оно того стоит. От женщины ничего не получить силой. Да и потом, знаешь ли…
Дезирэ окинула комнату взглядом – эту комнату, которая скоро исчезнет. Я смотрела на ее руки, ставшие почти бесполезными, руки, построившие здесь все, украсившие, устроившие все так, чтобы совершенно незнакомые ей девушки, которых она, возможно, никогда не видела, чувствовали, что их ценят, что ими дорожат. Мне захотелось плакать.
– Я верю, что нужно много любви, чтобы заниматься этой работой. Моей работой. Конечно, нужно самой испытать это на своей шкуре. Больше, чем доброжелательность, больше, чем торговое чутье, больше, чем хороший вкус, – тут нужна любовь. Никто не может хорошо работать без любви
Я вспоминаю Ромена Гари, писавшего, что после материнской любви тебе вся жизнь кажется ударами холодного ветра. И думаю о девушках, которых жизнь отныне разбросала по самым разным скверным борделям этого города. Эти заведения наверняка лучше украшены да и цены в них выше, но их высокие потолки и персонал распространяют такое ледяное дыхание, что девушкам даже не приходит в голову прижаться друг к другу и воссоздать атмосферу нежности, которую мы воспринимали здесь как должное. Сиротки. Да, знаю, знаю, как это звучит. Плевать. Нас, тех, кто знает об этом, больше пятидесяти. Только это место мы могли назвать домом, пусть и публичным, – потому что он таким никогда не был. В других же заведениях речь идет лишь о деньгах, и нет ни малейшего намека на поэзию.
Все впустую!
Я ходила поглазеть на заведение, о котором мне рассказали коллеги. Это было во время нашей последней совместной недели. Обстановка была уже не та, перспектива остаться без работы делала многих слепыми и глухими по отношению к печали, что убивало меня. Они судорожно просматривали списки борделей Берлина. Этот казался неплохим. Я пошла туда для проформы, а вернулась – с плевком в душу.
Там пахло Манежем, девушки были худыми и длинными, как самолеты-истребители, и это было то, зачем приходили туда мужчины. По наивности я захотела выйти представиться клиентам без обуви в черных чулках, но домоправительница была категорически против. Это заставило меня вспомнить себя двумя годами ранее в том обклеенном дорогими материями клоповнике: как я надевала неудобные туфельки, чтобы пойти пожать руку какому-то типу, которому хотелось пощупать искусственные сиськи и дать выколоть себе глаза акриловыми ногтями. Голос протеста рычал внутри меня на идеальном немецком: кучка нищебродов, требовать от нас носить каблуки… Носите их сами, эти каблуки, если вы считаете, что женственность только этим ограничивается, если вы думаете, что все мужики хотят женщин, по которым сразу видно, что они на работе.
В конце концов мне достался один клиент – завсегдатай Дома. Претенциозные размеры этого места буквально давили на нас, привыкших к теплой каморке, к моей музыке, к нашему запаху. Мы были сконфужены, скованны, я растерялась, не знала, где что находилось и что мне нужно было делать. Когда он ушел, и я вышла из комнаты, нагруженная грязным постельным бельем (белым и шершавым, как в гостинице, где плохо спится), домоправительница отвела меня в сторонку:
– Я заметила, что комната плохо прибрана. Посмотри сюда: вот эта подушка, ты должна поставить ее ровно, как было. Я знаю, что там, где ты работала раньше, порядки немного отличались.
Немного отличались? Да ты и представить себе не можешь, сестренка.
Перед моими глазами снова стоял Дом и записка, прикрепленная к пробковой доске рядом с ванной комнатой, там, где новенькие не преминут прочесть: «Милые дамы, здесь вы свободны в выборе вашей одежды, лишь бы она не слишком открывала ваши прелести. Выбирайте то, что идет вам лучше всего. Вы можете выходить для знакомства с клиентами на высоких каблуках, в балетках или в сандалиях, или даже босиком, как маленький эльф». Я цитирую! Эльф!
Я рассказываю вам о мире, где проститутка могла захотеть и стать принцессой, эльфом, феей, русалкой, девчушкой, женщиной вамп. Я говорю о доме, ставшем дворцом, нежным, как пристанище.
Теперь остальной мир для этих девушек – скотобойня.
Memory of a Free Festival, David Bowie
He помню, чтобы я бросала последний взгляд на что бы то ни было. С самого начала все мои прощальные взгляды были серьезными и медленными. Я всегда уходила из Дома, уверенная, что он исчезал у меня за спиной, словно сон. Так что в последний вечер, после праздника, организованного накануне переезда, я бегом помчалась к метро, отказываясь верить, что это был последний раз, упрямясь, потому что прощания возмущали меня.
В это почти невозможно было поверить: двери всех комнат были открыты, мягкий майский воздух проникал внутрь с балконов, на которых толпились курящие. Зал оставили для Дезирэ, у нее были слабые легкие, не выносившие облаков табачного дыма.
Из маленькой аудиосистемы, включенной в саду, доносилась музыка: она звучала очень громко. Пришло более пятидесяти девушек: все те, кого я знала, и Другие – легенды, чьи имена все еще прочитывались на шкафчиках и в списках, но прекратившие эту работу уже давным-давно. Пришли мои коллеги в гражданском и элегантно одетые женщины, ставшие респектабельными. Наряды – под стать их новой работе. Они пришли из лояльности, потому что, даже обзаведясь статусом честных гражданок, они носили в сердце огромную благодарность за то, как хорошо прошли те годы, что они работали здесь. Несмотря на то, что в конце им осточертело, несмотря на желание быть нормальными, несмотря на желание забыть самим и заставить забыть всех остальных, что им платили за то, что они сосали члены. И эти женщины в костюмах, лишь перешагнув через порог тяжелой бронированной двери, вновь приобретали покачивающуюся походку. В пурпурном свете зала их строгие одеяния казались костюмами секретарш, надетыми с целью соблазнить делового мужчину, который не осмеливается трахнуться со своей. Аннет, ассистентка в адвокатской конторе, осматривала сад своими огромными глазами, несомненно, вспоминая пять лет собственной жизни, будто это была выдумка, какой-то очень реалистичный сон, который она никогда никому не перескажет.
Теперь, когда телефон больше не трезвонит, девушки громко разговаривают, не боясь, что соседи услышат их. Я ищу глазами Полин, но она так и не придет. Замечаю Хильди, которая следует за мной, чтобы выкурить косячок на балконе Желтой комнаты.
– Своего первого клиента я приняла здесь, – говорит она, не удостаивая взглядом комнату с закрытыми шторами, откуда еще не вынесли мебель.
Она рассматривает балкон, на котором нам раньше не случалось оказываться. Напротив, с другой стороны улицы, мы видим квартиры. В одной из них какой-то тип с биноклем прячется за шторами, надеясь разглядеть голую плоть.
– Смешно, вчера один мужчина спросил меня, как это было – мой первый раз с клиентом. Я была бы рада рассказать ему что-то захватывающее вроде несравненного шока, внезапного раздвоения моей личности – в общем, то, что себе воображают мужчины. Но этот опыт ничего особенного со мной не сделал. Либо я действительно была в состоянии шока и мне было недосуг быть больно задетой или испытать отвращение, либо же я устроена не так, как другие женщины, – не знаю. Мне это показалось легким. Я была удивлена, что не почувствовала себя грязной. Что-то говорило мне, что надо бы. С моего первого заработка я купила себе чулки и обувь. Эти деньги не пахли иначе, чем пахнут любые заработанные тобой деньги.
Казалось, Хильди призадумалась, а потом улыбнулась:
– Они пахли лучше.
Я провела два года, думая, что мне стоило бы чувствовать себя грязной, виноватой, униженной. Два года я спрашивала себя, откуда были эти потоки радости при выходе из метро, когда стояла такая хорошая погода, что стекла удаленных зданий, окружавших Дом, ослепляли меня отражением солнечных лучей.
Два года я с восхищением рассматривала в витринах магазинов, как мое собственное отражение гордо несет голову, чувствовала такую легкость в теле, видела мир таким спокойным и полным обещаний.
Наверное, это было связано с большим количеством денег в кармане. Я прожила два года без каких-либо финансовых проблем, забивающих голову. Единственным, что отбрасывало тень на мое счастье, было вот это самое отсутствие вины, даже гордость, а значит, мысль, что я не была нормальной и никогда не смогу вписаться в общество. Я постоянно несла на своих плечах груз пренебрежения и смущенного сочувствия, которые мир испытывает по отношению к проституткам. Это была не моя тревога: она принадлежала другим.








