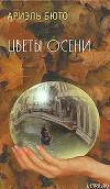Текст книги "Собрание сочинений. Т. 12. Земля"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц)
Пользуясь тем, что разговор коснулся убийства, случившегося недавно около Жанвилля, Фуан не преминул еще раз со всеми подробностями рассказать ужасное происшествие на ферме Милуар. Он уже дошел до песни, сочиненной в тюрьме самим Красным Дылдой, когда с улицы донесся странный шум, послышались чьи-то шаги и грубая брань. Женщины перепугались. Побледнев, они насторожились, боясь, что вот-вот сейчас ворвется шайка черномазых людей. Бюто храбро пошел открывать дверь.
– Кто идет?
Это были Бекю и Иисус Христос. Они поссорились с Микроном и ушли из кабака, захватив с собою карты и свечу, чтобы окончить игру где-нибудь в другом месте. Оба были совершенно пьяны, и страх, овладевший собравшимися, вдруг показался смешным. В конце концов все расхохотались.
– Входите, входите, только не безобразничайте, – сказала Роза, улыбаясь своему шалопаю-сыну. – Ваши дети здесь, вы их, кстати, захватите с собой.
Иисус Христос и Бекю уселись на землю, рядом с коровами, поставили между собою свечу и принялись опять за игру: «Козырь! Козырь! Козырь!» А разговор шел уже о другом: завели речь о парнях, которым в этом году предстояло тянуть жребий. Их было четверо, и в том числе Виктор Лангень. Настроение женщин упало, под влиянием грустных мыслей беседа замедлилась.
– Это не шутка, – сказала Роза. – Ни для кого это не шутка, нет, нет!
– Да, война, – ворчал Фуан, – сколько она приносит зла! Война – это смерть хозяйству!.. Когда парни уходят, мы лишаемся самых умелых рук. Это сразу сказывается на работе. А когда они возвращаются, куда там! Они уже не те, у них душа не лежит к земле… Лучше холера, чем война!
Фанни перестала вязать.
– Я, – заявила она, – не хочу, чтобы Ненесс уходил… Господин Байаш рассказывал, что некоторые устраивают вроде лотереи: несколько человек соединяются, каждый вносит определенную сумму, и тот, кому достается плохой жребий, получает эти деньги и откупается.
– Для этого надо кое-что иметь, – сухо заметила Большуха.
Бекю в промежутке между двумя ходами услыхал, что речь идет о войне.
– Война – черт ее дери! Только на войне и можно стать настоящим мужчиной!.. Кто там не был, тот ничего не знает… Плевать на все… Вот это я понимаю… Как там, у негритосов…
Он подмигнул левым глазом, а Иисус Христос посмеивался с понимающим видом. Оба они воевали в Африке: полевой сторож – во времена ее завоевания, второй – позднее, во время последних восстаний. Но, несмотря на эту разницу, у них были одни и те же воспоминания: уши, обрезанные у бедуинов и нанизанные, как четки, на нитку, бедуинки с кожей, натертой маслом, которых ловили за изгородями и подминали под себя в канавах. В особенности любил Иисус Христос рассказывать о том, как однажды они заставили здоровенную, желтую, как лимон, бабу бегать взад и вперед совершенно голой, со вставленной в задницу трубкой. Крестьяне хохотали до упаду.
– Черт! – снова начал Бекю, обращаясь к Фанни. – Вы, я вижу, хотите сделать из Ненесса девку?.. Что касается меня, то я спроважу Дельфена в полк.
Дети перестали играть. Дельфен поднял свою большую круглую голову. Видно было, что паренек уже чувствует землю.
– Нет, – упрямо заявил он.
– Что? Что это ты говоришь? Я научу тебя храбрости, скверный ты француз!
– Я никуда не хочу уходить! Я хочу остаться здесь.
Полевой сторож занес уже кулак, но Бюто остановил его.
– Оставьте парня в покое!.. Он прав. Разве без него там не обойдутся? Есть ведь много других… Мы не за тем появляемся на свет, чтобы покидать родину и за каким-то чертом отправляться невесть куда ломать друг другу челюсти… Вот я никуда не уходил, а чувствую себя ничуть не хуже.
Бюто вытащил счастливый номер во время жеребьевки. Это был настоящий крестьянин, крепко привязанный к земле. Он знал только Орлеан и Шартр, не видел ничего за пределами голой босской равнины. Казалось, он гордился тем, что рос на земле со слепым упрямством буйного, живучего дерева. Он встал, женщины смотрели на него.
– Когда они возвращаются со службы, они все такие худые! – решилась сказать Лиза.
– А вы, Капрал, – спросила старая Роза, – вы далеко были?..
Жан курил молча, с сосредоточенным вниманием человека, предпочитающего слушать, а не говорить. Он медленно вынул трубку изо рта.
– Да, довольно далеко… Но все-таки не в Крыму. Когда я должен был отправиться туда, Севастополь взяли… Но позже, в Италии…
– А что такое Италия?
Вопрос как будто смутил его, он замялся, начал рыться в своих воспоминаниях.
– Италия, это так же, как у нас, – поля, леса, реки… Везде все то же.
– Так вы, значит, воевали?
– Да, конечно, воевал.
Жан снова начал сосать трубку, он не торопился со своим рассказом. Франсуаза, подняв на него глаза, с полураскрытым ртом, приготовилась слушать длинную историю. Впрочем, ждали с нетерпением все, даже Большуха снова стукнула палкой по столу, чтобы утихомирить Илариона, который хныкал, потому что Пигалица выдумала себе новое развлечение – исподтишка втыкала ему в плечо булавку.
– Под Сольферино жарко было, хотя шел дождь… И какой дождь… Помню, я промок до нитки. Вода лилась за шиворот и протекала в сапоги… Да, промокли мы здорово!
Все ждали продолжения, но Жан молчал; во время сражения он видел только дождь. Через минуту он снова начал рассудительным тоном:
– Господи! Да война не такая уж тяжелая вещь, как думают… Когда выпадет жребий, приходится выполнять долг. Правда ведь? Я бросил службу, потому что по душе другое. Но кому свое собственное ремесло опротивело, тот может найти там много хорошего. Также и тот, кто не может спокойно видеть, как враг топчет родную землю.
– Все-таки скверная это штука! – сказал в заключение дядюшка Фуан. – Каждый должен защищать свой собственный угол, не больше.
 Снова воцарилось молчание. Было очень жарко. В теплом и влажном от испарений воздухе стоял терпкий запах подстилки. Одна из коров поднялась и начала испражняться; послышалось мягкое и размеренное хлюпанье. Во мраке, скрывавшем перекладины, меланхолически трещал сверчок. А проворные пальцы женщин, перебиравшие спицы, казались на стенах огромными паучьими лапами, бегающими в темноте.
Снова воцарилось молчание. Было очень жарко. В теплом и влажном от испарений воздухе стоял терпкий запах подстилки. Одна из коров поднялась и начала испражняться; послышалось мягкое и размеренное хлюпанье. Во мраке, скрывавшем перекладины, меланхолически трещал сверчок. А проворные пальцы женщин, перебиравшие спицы, казались на стенах огромными паучьими лапами, бегающими в темноте.
Пальмира взяла щипцы для снимания нагара и так низко срезала фитиль, что свеча потухла. Раздались крики, девушки засмеялись, дети принялись колоть Илариону зад булавкой. Бог знает, что было бы дальше, если бы не выручила свеча Иисуса Христа и Бекю, дремавших за своими картами; несмотря на то что она вся оплыла, об нее зажгли потухшую свечу. Смутившись за свою неловкость, Пальмира дрожала, как провинившаяся девчонка, которая боится, что ее высекут.
– Ну-ка, – сказал Фуан, – кто нам напоследок почитает?.. Капрал, вы, верно, хорошо читаете по-печатному.
Он ушел и вернулся с засаленной книжкой – одной из тех агитационных бонапартистских брошюр, которыми Империя наводняла деревню. Книжка, принесенная Фуаном, была куплена им у коробейника и представляла собой драматизированную историю крестьянина до и после Революции. Она называлась «Горести и радости Жака Добряка» и содержала резкие нападки на старый режим.
 Жан взял книжку и, не заставляя себя просить, сразу начал читать монотонным голосом, запинаясь, как школьник, не обращая внимания на знаки препинания. Все слушали и благоговейно молчали.
Жан взял книжку и, не заставляя себя просить, сразу начал читать монотонным голосом, запинаясь, как школьник, не обращая внимания на знаки препинания. Все слушали и благоговейно молчали.
Вначале говорилось о свободных галлах, обращенных в рабство римлянами, а позже завоеванных франками, которые, сделав рабов крепостными, установили феодальные порядки. С этого времени и началась многострадальная жизнь Жака Добряка, землероба, которого эксплуатировали и преследовали в течение многих веков. Горожане бунтовали, основывали коммуны, завоевывали гражданские права, а крестьянин, одинокий, лишенный всего, даже права распоряжаться самим собою, освобождался медленно, платя своими собственными деньгами за свободу быть человеком, и за какую призрачную свободу! Притесняемый собственник, он весь был опутан разорительными налогами. Он, хозяин земли, право на владение которой постоянно оспаривалось, был обременен таким количеством повинностей, что ему оставалось только питаться камнями! Затем начинался ужасающий перечень налогов, тяготевших над несчастным. Не было никакой возможности перечислить их все, они сыпались отовсюду – от короля, от епископа, от сеньора. Три хищника рвали одно и то же тело: король брал поземельный налог и подушную подать, епископ – десятину, сеньор же брал все, что мог, наживаясь на всем. Крестьянину не принадлежало ничего: ни земля, ни вода, ни огонь, ни даже воздух, которым он дышал. Он платил, платил без конца, – за жизнь, за смерть, за свои контракты, за свой скот, за свою торговлю, за свои удовольствия. Он платил за право отводить дождевую воду на свой участок, за пыль, поднимаемую его овцами в засуху. А тот, кто не мог платить деньгами, расплачивался своим горбом и своим временем, изнемогал от барщины, вынужден был пахать, жать, косить, возделывать виноградники, очищать рвы вокруг замка и чинить дороги. А натуральные повинности; а поборы за принудительное пользование мельницей, пекарней и давильным прессом, на которые уходила четвертая часть урожая; а дозорная и караульная службы, замененные денежным налогом, когда замковые башни были разрушены; а разорительные постои во время проезда короля или сеньора, когда постояльцы опустошали хижины, тащили одеяла и матрасы, выгоняли из дома хозяина, а если он не убирался немедленно – выбивали окна и двери. Но самым ненавистным налогом, о котором до сих пор в деревнях вспоминают с негодованием, был возмутительный соляной налог, соляные лавки, обязательство покупать у короля определенное количество соли, налагавшееся на каждую семью, – целая система, произвол которой вызывал кровавые бунты по всей Франции.
– Мой отец, – перебил Фуан, – платил восемнадцать су за фунт соли. Да, лихие были времена…
Иисус Христос посмеивался в бороду. Он хотел завести разговор о тех непристойных повинностях, по поводу которых автор книжки стыдливо ограничивался одними намеками.
– А насчет права погреться, что вы скажете?.. Честное слово, сеньор мог залезть в постель к новобрачной, и в первую же ночь…
Его заставили замолчать, – девушки, даже Лиза с большим животом, побагровели. Пигалица и двое мальчишек, уткнувшись носом в землю, затыкали рот кулаками, чтобы не расхохотаться. Иларион, разинув рот, ловил каждое слово, точно понимал что-нибудь.
Жан продолжал читать. Теперь он читал о правосудии, о тройном правосудии короля, епископа и сеньора, рвавшем на клочки изнуренного трудом бедняка. Было право обычая, было писаное право, а над всеми правами господствовал произвол, право сильного. Никакой гарантии, никакой защиты, всемогущество шпаги. Даже позднее, когда справедливость подняла голос протеста, судебные должности покупались, правосудие было продажным. Еще хуже обстояло с набором в армию, с этим налогом крови, который долгое время падал только на поселян. Они спасались от него в леса, их гнали на службу в кандалах, ударами прикладов, как на каторгу. Доступа к чинам для них не было. Какой-нибудь молокосос из знатной семьи торговал полком, точно товаром, купленным на собственные деньги, продавал чины с молотка и гнал свои человеческий скот на бойню. Далее следовали: право охоты, право голубятни и заповедной дичи, ненависть к которым не угасла в сердце крестьянина даже в наши дни, когда они отменены. Охота – это наследственная страсть, это древняя феодальная привилегия, разрешавшая сеньору охотиться всюду и каравшая крестьянина смертью за охоту на своей земле; это вольный зверь и вольная птица, заключенные в клетку под широким небом ради прихоти одного человека; это превращенные в охотничий парк поля, опустошаемые дичью, поля, на которых их владелец не смел убить воробья.
– Ну, понятно, – пробормотал Бекю. – Браконьеров надо подстреливать, как кроликов.
Но Иисус Христос, услышав об охоте, насторожился и насмешливо свистнул. Дичь принадлежит тому, кто сумеет ее убить.
– Ах, боже мой! – просто сказала Роза, глубоко вздохнув.
У всех было тяжело на душе. Это чтение мало-помалу начинало угнетать их, как мрачная история о выходцах с того света. Кое-что они не понимали, но это только усиливало тяжелое чувство. Если так было в прежние времена, то, как знать, не вернется ли все это вновь.
– «Да, бедный Жак Добряк, – продолжал Жан монотонным голосом школьника, – отдавай свой пот, отдавай свою кровь, – конец твоим мытарствам еще не пришел…»
В самом деле, муки крестьянина продолжались. Он терпел от всего – от людей, от стихий, от самого себя. В феодальные времена, когда сеньоры отправлялись в грабительские походы, его преследовали, травили, уводили в качестве военной добычи. Каждая война сеньора с сеньором заканчивалась для него если не смертью, то полным разорением: жгли его хижину, вытаптывали его поле. Позднее наступила эпоха злейшего из бедствий, эпоха крупных отрядов наемников, опустошавших деревни, когда банды авантюристов, за деньги готовых служить кому угодно, будь то за или против Франции, отмечали свой путь огнем и железом, оставляя позади себя безжизненную пустыню. Если в этом безумии поголовного истребления города держались под защитой своих прочных стен, то деревни начисто исчезали с лица земли. Это было кровавое время, время, когда крестьяне не переставая стонали от мучений, когда насиловали женщин, давили детей, вешали мужчин. Но вот война прекращалась, и в деревню приходили королевские сборщики податей: страдания бедных тружеников продолжались; сами налоги оказывались пустяком в сравнении с чудовищной системой их сбора. Подушная подать и соляной налог отдавались на откуп, все другие подати устанавливались по произволу чиновников и собирались вооруженными отрядами как военная контрибуция. Из этих поборов в казну почти ничего не попадало, все разворовывалось по дороге, убывая при переходе из одних рук в другие. Недороды довершали разорение. Бессмысленная тирания законов, тормозившая торговлю, не допускавшая свободной продажи зерна, приводила каждые десять лет к ужасной нужде в слишком сухие или слишком дождливые годы, казавшиеся божьим наказанием. Ливень, вызывавший разливы рек, засушливая весна, малейшая туча или луч солнца, губительные для посевов, уничтожали тысячи людей; наступал страшный голод, внезапное вздорожание всего, ужасающие бедствия, когда люди щипали в оврагах траву, как скотина. А после войн и голодовок неизменно свирепствовали эпидемии и губили тех, кого пощадили меч и голод. То было непрестанное гниение, возрождающееся от невежества и нечистоплотности, чума, черная смерть, гигантский скелет которой господствовал над прошлыми временами, выкашивая своей косой унылое и худосочное население деревень.
Когда страдания переполняли чашу терпения, Жак Добряк бунтовал. За ним стояли века страха и покорности, его плечи огрубели от ударов, а дух его был настолько подавлен, что он не чувствовал своего унижения. Его можно было долго бить, морить голодом, ограбить до нитки, – он все сносил в своем сонном отупении, сам не сознавая того, что смутно копошилось где-то в глубине его души. И, наконец, наступал час последней несправедливости или последней обиды, когда он внезапно бросался на своего господина, как потерявшее терпение, доведенное до бешенства домашнее животное. Эти вспышки отчаяния повторялись из века в век. Каждый раз, когда крестьянам не оставалось ничего, кроме смерти, Жакерия вооружала их вилами и косами. Так восстали багауды в Галлии, «пастухи» в эпоху крестовых походов, позднее «щелкуны» и «босоногие», нападавшие на сеньоров и королевских солдат. А через четыре века над опустошенными полями раздастся такой крик гнева и скорби Жаков, который заставит содрогнуться господ, укрывающихся за стенами замков. А что, если им попытаться еще раз и потребовать свою долю жизненных благ, им, на стороне которых численное превосходство? И перед глазами вставали картины ушедшего прошлого: полуголые, в лохмотьях, обезумевшие от зверств и желаний, Жаки все разоряют, истребляют, как разоряли и истребляли их самих, и, в свою очередь, насилуют чужих жен!
– «Умерь свой гнев, землероб! – кротким голосом старательно тянул Жан. – Час твоего торжества скоро пробьет…»
Бюто резко передернул плечами: очень нужно бунтовать! Чтоб тебя забрали жандармы! Впрочем, с того момента, как в книжке речь пошла о восстаниях предков, все слушали опустив глаза, боясь хоть чем-то обнаружить свое отношение к читаемому, несмотря на то что никого из посторонних не было. О таких вещах не следует говорить громко, никому нет дела до того, что они об этом думают. Иисус Христос хотел было прервать чтение, крикнув, что еще свернет кое-кому шею, но Бекю свирепо заявил, что все республиканцы – свиньи. Фуану пришлось унимать их, и делал он это с достоинством и печальной серьезностью старого человека, который много знает, но ничего не хочет говорить. Большуха изрекла: «Что имеешь, за то держись», как бы без всякой связи с тем, о чем читал Жан, а остальные женщины еще ниже склонились над своей работой. Только Франсуаза, уронив вязанье на колени, смотрела на Капрала, изумляясь, как это он может читать так долго и не делать ошибок.
– Ах ты господи! Ах ты господи! – повторяла Роза, вздыхая еще сильнее.
Но тон повествования изменился, он сделался лиричным, в книжке прославлялась революция. Наступил апофеоз 1789 года, Жак Добряк торжествовал. После взятия Бастилии, пока крестьяне жгли замки, ночь 4 августа узаконила завоевания веков, признав человеческую свободу и гражданское равенство. «В одну ночь землепашец сделался равным сеньору, который, опираясь на силу древних пергаментов, пил его пот и пожирал плоды его трудов». Уничтожение крепостного состояния, всех привилегий аристократии, духовных и сеньориальных судов, выкуп старинных повинностей, уравнение податей, допущение всех граждан к гражданским и военным должностям. Список продолжался, все бедствия, казалось, исчезали одно за другим. Это была осанна новому, золотому веку, открывающемуся перед землевладельцем. Ему, царю и кормильцу мира, пелись восторженные дифирамбы. Только он, только он один достоин уважения: на колени перед святым плугом! Затем в пламенных выражениях клеймились ужасы 1793 года, и книжка завершалась неумеренной похвалой Наполеону, детищу Революции, который сумел «вытащить ее из трясины распущенности, чтобы создать счастье деревень».
– Это верно, – заметил Бекю, пока Жан перевертывал последнюю страницу.
– Да, это верно, – сказал дядя Фуан. – И у меня в молодости были красные деньки… Я сам видел Наполеона однажды в Шартре. Мне было двадцать лет… Жили свободно, имели землю, – думалось, умирать не надо. Мой отец, помню, сказал как-то, что он сеет су, а собирает экю… Потом были Людовик Восемнадцатый, Карл Десятый, Луи-Филипп. Ничего, дело шло помаленьку, не голодали, не жаловались… А теперь вот Наполеон Третий, и тоже можно было жить до прошлого года… Только…
Он хотел остановиться, но слова сами вырвались:
– Только какой нам прок, Розе и мне, от их свободы и равенства?.. Разве мы стали от этого жирнее?.. А ведь пятьдесят лет из кожи вон лезли…
Затем в немногих словах, медленно и с трудом, он бессознательно резюмировал все прочитанное. Земля, так долго и из-под палки возделывавшаяся для сеньора нищим рабом, который не владеет ничем, даже собственной шкурой; земля, оплодотворяемая его усилиями, – страстно любимая и желанная в этом жарком ежечасном сближении, как чужая жена, за которой ухаживаешь, которую обнимаешь и которой не можешь обладать; эта земля наконец приобретена после многовековой пытки вожделения, завоевана, стала его вещью, его радостью, единственным источником его существования. Этим давним, в течение столетий не удовлетворявшимся желанием обладать объяснялась любовь крестьянина к своему полю, его страсть к земле, стремление захватить ее как можно больше, страсть к жирному кому, который щупают и взвешивают на ладони. Но как она равнодушна и неблагодарна, эта земля! Сколько ни лелей ее, она остается бесчувственной и не прибавит ни одного лишнего зерна. От сильных дождей гниют семена, град побивает всходы, от ветра хлеб полегает, двухмесячные засухи истощают колосья. А тут еще вредители злаков, холода, болезни скота, изнуряющие почву сорняки: все, все ведет к разорению, требуется ежедневная борьба, борьба вслепую, наудачу, в вечной тревоге. Конечно, Фуан не жалел себя, работал за двоих, приходя в бешенство от сознания, что его усилий недостаточно. Он иссушил мускулы своего тела, он целиком отдавался земле, которая принесла ему жалкие крохи и, не насытив его, оставила неудовлетворенным, стыдящимся своего старческого бессилия и переходила в руки другого самца, не пожалев даже его несчастных костей, которых она дожидалась.
– Вот так-то! – продолжал старик. – Пока молод, изводишь себя; а когда наконец добьешься того, чтобы кое-как сводить концы с концами, глядь – уж стар стал, умирать пора… Правда, Роза?
Мать кивнула трясущейся головой. О да, верно! Она тоже поработала на своем веку не меньше любого мужчины! Вставала раньше всех, стряпала, убирала, чистила, разрывалась на части, ходила за коровами, за свиньей, за квашней, ложилась спать последней! Чтобы все это выдержать, приходилось крепиться. А нажила себе только морщины, вот вся награда. И считай еще, что тебе повезло, если, трясясь над каждым грошом, ложась спать без огня, довольствуясь хлебом и водой, ты прибережешь под старость ровно столько, чтобы не умереть с голоду.
– А все-таки, – сказал Фуан, – жаловаться нечего. Я слыхал, что есть такие края, где с землей одно наказание. В Перше, например, одни каменья… В босском крае она мягкая и требует только хорошей обработки… Правда, она портится. Это верно, земля теряет силу: поле, которое раньше давало двадцать гектолитров, теперь дает только пятнадцать… А цена гектолитра с прошлого года падает, – говорят, будто пшеницу привозят от каких-то там дикарей, будто начинается что-то скверное, кризис, как это по-ихнему называется… Видно, нашего горя не избудешь. Ведь от всеобщего избирательного права мяса в горшке не прибавится. Душат нас поземельным налогом, детей забирают на войну… Сколько революций ни делай, куда ни кинь, все клин, мужик мужиком и остается.
Жан, не перебивая, дожидался, когда можно будет закончить чтение. Водворилось молчание, и он прочитал вполголоса:
– «Счастливый землероб, не покидай деревни для города, где тебе придется платить за все: за молоко, за мясо, за овощи, где ты всегда израсходуешь больше, чем нужно, на разные случайные покупки. В деревне к твоим услугам солнце и воздух, здоровый труд, честные удовольствия. Ничто не сравнится с деревенской жизнью, вдали от раззолоченных палат. Недаром городские рабочие стремятся в деревню для отдыха, и даже буржуа только о том и мечтают, как бы удалиться к тебе на покой, собирать цветы, срывать плоды с деревьев, валяться на травке. Скажи себе, Жак Добряк, что деньги – химера. Если в твоей душе мир, ты счастлив, ты обладаешь истинным счастьем».
Голос Жана стал прерывистым, ему приходилось сдерживать охватившее его волнение. Жан был парень с мягкой душой; он вырос в городе, и мысли о деревенском блаженстве трогали его душу. Остальные сидели угрюмо: женщины – согнувшись над своей работой, мужчины – сбившись в кучу и еще больше нахмурившись. Уж не издевалась ли эта книжка над ними? Все они умирали от нищеты. Что же может быть лучше денег? Молчание, в котором сгустились страдание и ненависть, стесняло Жана, и он решился высказать мудрую мысль:
– Как-никак, а, может быть, с образованием дело пойдет лучше… Если в старину было много горя, так это потому, что люди ничего не знали. Теперь кое-что знают, и, конечно, становится легче. Значит, нужно знать все, нужно иметь школы, где бы обучали земледелию…
Но Фуан прервал его, заявив с резкостью закоренелого в рутине старика:
– Оставьте нас в покое с вашей наукой! Чем больше знают, тем дело идет хуже! Я ведь говорю вам, что пятьдесят лет назад земля приносила больше! Она, родная, гневается, когда над ней мудрят, и дает всегда столько, сколько захочет! Вот посмотрите: сколько денег господин Урдекен ухлопал зря, путаясь с этими новыми изобретениями… Нет, нет, к черту все это, мужик должен оставаться мужиком.
Последние слова он отрубил как топором. Часы начали бить десять, Роза встала, чтобы достать из печки горшок с каштанами, стоявший в горячей золе. Это было непременным угощением в день всех святых. Она даже принесла два литра белого вина, так что вышел настоящий праздник. Печальное повествование было теперь забыто, все развеселились, ногти и зубы заработали, выдирая мякоть вареных каштанов из еще дымящихся шкурок. Большуха, не поспевавшая за другими, засунула свою долю в карман. Бекю и Иисус Христос бросали себе в рот каштаны один за другим и глотали их вместе с кожурой. Осмелевшая Пальмира, наоборот, чистила их с особенной тщательностью и пихала в рот Илариону, как птице, предназначенной на откорм. Дети дурачились, занимались, как они говорили, «приготовлением кровяной колбасы». Пигалица надкусывала каштан и сжимала его, чтобы выжать струю сока, которую Дельфен и Ненесс слизывали языком. Это было очень вкусно. В конце концов Лиза и Франсуаза решились последовать их примеру. Сняли в последний раз нагар со свечи и в последний раз чокнулись за дружбу всех собравшихся. Становилось все жарче, от навозной жижи и подстилки поднимался рыжеватый пар, в пляшущих тенях все громче трещал сверчок. Чтобы и коровы полакомились, им отдали кожуру от каштанов, и было слышно, как они мерно ее пережевывают.
В половине одиннадцатого начали расходиться. Раньше всех ушли Фанни с Ненессом, затем вышли, переругиваясь, Бекю и Иисус Христос, которых на холоде снова развезло. С улицы доносились голоса Пигалицы и Дельфена; поддерживая своих отцов, они толкали их, стараясь направить на дорогу, как норовистых лошадей, не желающих возвращаться в конюшню. Каждый раз, когда открывали дверь, снаружи врывалась струя ледяного воздуха и виднелась покрытая снегом дорога. Большуха не торопилась; она медленно обматывала шарф вокруг шеи и натягивала митенки. Она даже не взглянула на Пальмиру и Илариона, которые трусливо исчезли, дрожа под своими лохмотьями. Наконец старуха ушла; войдя в свой дом, по соседству с Фуанами, она громко хлопнула дверью. Остались только Франсуаза и Лиза.
– Вы их проводите, Капрал, когда пойдете на ферму? – спросил Фуан. – Вам ведь по дороге.
Жан кивнул головой, а обе девушки закутались в свои платки.
Бюто поднялся и с угрюмым лицом беспокойно ходил взад и вперед по хлеву, о чем-то думая. С тех пор как окончилось чтение, он не произнес ни слова, целиком поглощенный содержанием книжки, этими рассказами о трудностях и тяготах, сопряженных с завоеванием земли. Почему бы не забрать ее целиком? Мысль о дележе была для Бюто невыносима. В его голове, под толстой черепной коробкой, смутно роились гнев, гордость, упрямое желание не отступать от своего решения, отчаянная страсть самца, боящегося быть обманутым. Внезапно он сказал:
– Я иду спать, прощайте!
– Как так прощайте?
– Да, завтра рано утром я снова отправлюсь на ферму Шамад… Прощайте, – на случай, если мы не увидимся.
Отец и мать подошли и встали против него.
– Ну? А как же с твоей долей? – спросил Фуан. – Принимаешь ты ее или нет?
Бюто направился к двери, потом повернулся лицом к родителям:
– Нет!
Старик затрясся всем телом. Он выпрямился, и последний раз его былая отцовская властность проявилась со всей силой.
– Ладно же! Значит, ты плохой сын!.. Так я отдам твоему брату и сестре то, что им причитается, а землю, от которой ты отказываешься, сдам им же в аренду. А когда буду умирать, то уж сумею так устроить, чтобы она за ними и осталась… Ты же ничего не получишь, и убирайся!
Стоявший как столб Бюто не моргнул глазом. Тогда Роза, в свою очередь, попыталась смягчить его:
– Да ведь тебя же, дурак, любят не меньше, чем других!.. Ты сам себе не хочешь добра. Принимай то, что тебе дают!
– Нет.
И он ушел спать.
Выйдя на улицу, Лиза и Франсуаза, потрясенные сценой, прошли несколько шагов в полном молчании. Они снова обнялись, и их фигуры казались одним темным пятном на фоне синеватого снега. Жан, шедший сзади, вскоре услышал, что они плачут. Ему захотелось их утешить.
– Полноте, он подумает и завтра согласится!
– Ах, вы его не знаете! – воскликнула Лиза. – Он скорей даст изрубить себя в куски… Нет, нет, это уж окончательно. – Затем она добавила полным отчаяния голосом: – Что же я буду делать с его ребенком?
– Сначала нужно, чтобы он вышел наружу, – пробормотала Франсуаза.
Это их рассмешило. Но печальное настроение снова одержало верх, и они опять заплакали.
Расставшись с ними у дверей их дома, Жан продолжал свой путь через равнину. Снег перестал падать, небо снова прояснилось, и множество звезд освещало землю синим, холодным, прозрачным, как кристалл, сиянием. Во все стороны расстилалась беспредельная босская равнина, белая, плоская и неподвижная, как замерзшее море. С далекого горизонта не долетало ни малейшего ветерка, и не слышно было ни единого звука, кроме стука его грубых башмаков по застывшей земле. Над полями простиралось глубокое молчание, тишина, в которой властвовал холод. Прочитанное в книжке кружило Жану голову, и, чувствуя тяжесть в затылке, он снял картуз, чтобы освежиться, стараясь ни о чем не думать. Мысли об этой беременной молодой женщине и ее сестре также были тягостны. Его башмаки по-прежнему звонко стучали о землю. Падучая звезда сорвалась и пробороздила небо безмолвным летучим огоньком.
Впереди тонула во мраке ферма Бордери, возвышавшаяся на белой скатерти еле заметной горбинкой. Свернув на тропу, ведущую прямо к ферме, Жан вспомнил, что он сеял на этом самом месте несколько дней тому назад. Он посмотрел влево и узнал поле, теперь покрытое белой пеленой. Неглубокий и легкий снежный покров был чист, как шкурка горностая, и гребни борозд еще обрисовывались под ним, позволяя угадывать очертания окоченевших членов земли. Как хорошо спать его семенам! Как удобно им будет покоиться в этом мерзлом лоне до тех пор, пока теплое и солнечное весеннее утро не пробудит их к жизни.