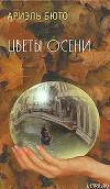Текст книги "Собрание сочинений. Т. 12. Земля"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
– Вот, – сказал Гробуа, доставая из кармана засаленную записную книжку. – Как вы мне говорили, папаша Фуан, так я и сделал. С каждого участка я снял точный план. Теперь нужно разделить всю вашу землю на три части. Это, милые мои, мы уж сделаем вместе… Так, что ли? Что вы об этом скажете?
Солнце поднималось все выше, холодный ветер гнал по бледному небу сплошные вереницы больших облаков, угрюмая и унылая, расстилалась перед глазами Бос. Впрочем, казалось, что никто из собравшихся не чувствовал порывистого дыхания этих бескрайних полей, надувавшего рубахи и грозившего сорвать шляпы. Все пятеро, нарядно одетые по случаю важного события, молчали. Окруженные со всех сторон беспредельной равниной, они стояли на краю участка, и лица их застыли в мечтательном раздумье, как у матросов, обреченных на одиночество среди бесконечного простора моря. Эта плоская плодородная Бос, обработка которой не представляла особых трудностей, хотя и требовала постоянных, каждодневных усилий, сделала жителей ее холодными и рассудительными, одержимыми только одной страстью – страстью к земле.
– Каждый участок надо разделить на три доли, – сказал наконец Бюто.
Гробуа покачал головой, и начался спор. Привыкший за время своей работы на крупных фермах к нововведениям, он любил иногда противоречить своим не очень состоятельным клиентам, не соглашаясь на чрезмерно мелкое размежевание. Разве необходимость все время переходить или переезжать с одного места на другое не будет разорительна, когда куски земли станут величиной с носовой платок? Разве можно поставить хозяйство на таких полосках, где нельзя ни улучшить землю, ни пользоваться машинами? Нет, единственным разумным решением будет договориться между собою так, чтобы не кромсать поле, как лепешку. Это преступление! Пусть уж лучше один удовлетворяется пахотной землей, другой лугами: таким образом можно будет уравнять ценность долей, а жребий решит, кому что достанется.
Бюто, еще не потерявший способности смеяться, шутливо заметил ему:
– Ну, а если я получу один только луг, чем же мне тогда питаться? Траву жрать, что ли?.. Нет, ни в каком случае. Я хочу, чтобы мне досталось всего понемногу: для скота – луг, для меня – хлеб и виноградник.
Фуан, выслушав это, одобрительно кивнул головой. Так делили всегда, испокон веков. Ведь в будущем каждый может округлить свою землю за счет новых приобретений и брака.
Делом, во владении которого находилось уже сейчас двадцать пять гектаров, держался более широких взглядов. Однако он шел на уступки и вообще прибыл сюда от имени жены только для того, чтобы их не обмерили при размежеваниях. Что же касается Иисуса Христа, то он отошел в сторону и, набрав в руку камней, следил за полетом жаворонков. Как только задержанная ветром птица останавливалась на секунду, распластав в воздухе трепещущие крылья, он сбивал ее с ловкостью первобытного охотника. Он подобрал трех окровавленных жаворонков и засунул их в свой карман.
– Ладно уж, довольно поговорили! Режь натрое! – весело сказал Бюто, обращаясь к землемеру на «ты». – Но смотри – натрое, а не на шесть, а то мне сдается, что у тебя сегодня двоится в глазах, так что тебе сразу видны и Шартр и Орлеан.
Обиженный Гробуа приосанился.
– Милый мой, сумей-ка ты напиться так, как я, и при этом вообще что-нибудь увидеть. А ну-ка, какой такой умник возьмется вместо меня за угломер, раз уж я так пьян?
Никто не решился принять его вызов, и он, торжествуя, грубо позвал своего мальчишку, который, наблюдая за охотой Иисуса Христа, остолбенел от восхищения. Установили угломер, начали уже расставлять вехи, как вдруг спор о способе дележа разгорелся снова. Землемер, которого поддерживали Фуан и Делом, хотел разделить участок на три полосы параллельно руслу Эгры. Бюто же требовал, чтобы полосы шли перпендикулярно к нему, основываясь на том, что слой перегноя на нижней части склона тоньше, чем вверху. Нужно, чтобы плохая часть участка досталась не кому-нибудь одному, а распределилась поровну между всеми, иначе третья доля не будет равноценной по своему качеству. Фуан сердился, утверждая, что земля везде одинакова, и напоминал, что старое размежевание, когда землю делили между ним, Мухой и Большухой, было произведено в том же направлении, какое он предлагал. Доказательством могла служить доля Мухи в два гектара, которая и граничила с этим третьим участком. Делом, со своей стороны, высказал решающее замечание: допустим, что третья доля хуже, но зато ее владелец будет вознагражден с лихвой тогда, когда через его поле пройдет намеченная уже дорога.
– Да! Как же! – закричал Бюто. – Слышали мы об этой дороге из Рони в Шатоден через Бордери. Долго вам придется ее ждать!
В конце концов, несмотря на его упорство, вопрос сочли улаженным. Он протестовал, ворча сквозь зубы.
Когда Гробуа стал намечать границы делянок, все насторожились, и даже Иисус Христос подошел ближе. Каждый ревниво следил за землемером, как бы подозревая, что тот имеет намерение прибавить к одной доле лишний сантиметр за счет другой. Делом три раза подходил к угломеру и смотрел в щель, желая убедиться, что нитка проходит прямо по вехе. Иисус Христос осыпал проклятиями мальчишку, когда тот недостаточно сильно натягивал цепь. Но с наибольшим вниманием следил за всем происходящим Бюто. Он шел по пятам землемера, отсчитывая метры и затем пересчитывая их на свой лад. Губы Бюто дрожали. Весь во власти своего страстного желания владеть, он был счастлив от сознания, что наконец-то и он уцепится за эту вожделенную землю, и в то же время в нем нарастало горькое чувство обиды, глухое бешенство оттого, что не все достанется ему. Как было бы хорошо получить целиком эти два гектара! Боясь, что участок может достаться кому-нибудь другому, а не ему, он сам настоял, чтобы его разделить поровну. А теперь это кромсание приводило его в отчаяние.
Фуан с висящими, как плети, руками смотрел на дележ своей собственности, не говоря ни слова.
– Готово, – сказал Гробуа. – Берите любую долю, – все одинаковы: ни фунта больше, ни фунта меньше!
В том же урочище у Фуана было еще четыре гектара пашни. Они состояли из десятка небольших полосок площадью меньше арпана. В одной из полосок оказалось всего двенадцать аров. Когда землемер, ухмыляясь, спросил, должен ли он делить и ее, споры возобновились.
Бюто инстинктивно передернуло: он нагнулся, схватил щепотку земли и поднес ее к лицу, словно хотел попробовать на вкус. Затем, блаженно сморщив нос, он дал понять, что признает за полоской превосходство над всеми остальными. Тихонько пропуская землю сквозь пальцы, он заявил, что было бы хорошо, если бы этот кусочек отдали ему; в противном случае он настаивает на разделе. Возмущенные Иисус Христос и Делом отказались, требуя своей части. Да! Да! Каждому по четыре ара, – только так выйдет по справедливости. После этого делили каждый кусок, так что никто из трех не мог уже получить ни одной доли от клочка, который не доставался бы и двум другим.
– Идемте теперь на виноградник, – сказал Фуан.
Но прежде чем отправиться к церкви, он еще раз окинул взглядом огромную равнину и, остановив глаза на видневшихся вдалеке строениях Бордери, с отчаянием в голосе воскликнул:
– Да, если бы отец захотел, вам бы, Гробуа, пришлось перемеривать и это!
Старик намекал на упущенный много лет назад случай покупки земли, перешедшей в собственность государства.
Оба сына и зять резко повернулись, и все снова остановились, медленно оглядывая расстилавшиеся перед ними двести гектаров, принадлежавшие фермеру.
– Как бы не так, – глухо проворчал Бюто, двинувшись снова в путь. – Нашел тоже, чем нас обрадовать. Из этой истории все равно ничего бы не вышло: так уж мир устроен, чтобы буржуа всегда могли есть нас поедом!
Пробило десять часов. Они прибавили шагу, так как ветер несколько стих и из большой черной тучи упали первые крупные капли. Виноградники Рони находились за церковью, на склоне, спускавшемся к Эгре. Когда-то там стоял окруженный парком замок; всего только лет пятьдесят назад роньские крестьяне, ободренные успехами, выпавшими на долю владельцев виноградников в Монтиньи, около Клуа, решили засадить это место лозами. Разведению здесь винограда благоприятствовали и крутизна склона, и то, что он был обращен в южную сторону. Вино получалось неважное, но имело приятный кисловатый вкус, напоминая легкие вина провинции Орлеанэ. Каждому жителю Рони удавалось снимать урожай всего с нескольких лоз, и то с трудом. Самый богатый виноградарь, Делом, владел только шестью арпанами; в хозяйстве босского края значение имели лишь хлеба и кормовые травы.
Они обогнули церковь и пошли мимо бывшего дома священника, затем спустились по тропинке, шедшей между узкими участками огородов, которые чередовались, как квадраты шахматной доски. Когда они проходили через поросший кустарником каменистый пустырь, из какой-то дыры раздался голос. Кто-то пронзительно кричал:
– Отец, дождь пошел! Я выгоню гусей!
Это была Пигалица, дочь Иисуса Христа, двенадцатилетняя девчонка, со спутанными белокурыми волосами, худая и жилистая, как ветка остролистника. Ее большой рот кривился в левую сторону, зеленые глаза дерзко смотрели в упор. Ее можно было принять за мальчишку; вместо платья на ней была старая отцовская блуза, стянутая у пояса бечевкой. Все звали ее Пигалицей, несмотря на ее красивое имя Олимпия. Это прозвище было обязано своим происхождением тому, что Иисус Христос рычал на нее с утра до вечера, всякий раз прибавляя: «Уж ты подожди, паршивая пигалица, я тебе всыплю как следует».
Этой дикаркой наградила его одна бродячая потаскуха, которую он, возвращаясь как-то с ярмарки, подобрал на дороге и поселил в своей лачуге, несмотря на возмущение всей деревни. В течение трех лет шли семейные скандалы, а однажды вечером, в период жатвы, шлюха ушла от него так же внезапно, как и появилась, – ее увел какой-то мужчина. Девочка, едва отнятая от груди, была предоставлена самой себе и росла, точно сорная трава. Едва она научилась ходить, как стала готовить обед для отца, которого обожала и боялась. Однако ее страстью были гуси. Сперва у нее были только гусак и гусыня, украденные птенцами с какой-то фермы. Затем благодаря ее материнским заботам стадо увеличилось, и теперь у нее было около двадцати штук. Корм для них она тоже воровала.
Когда Пигалица со своей наглой козьей мордочкой и хворостиной в руке появилась, гоня перед собой гусей, Иисус Христос вышел из себя:
– Живо отправляйся стряпать, а не то берегись… Опять ты, стерва, не заперла дом! Хочешь, чтобы воры залезли?
Бюто хихикнул. Делом и все остальные также не могли удержаться от смеха, – настолько им показалось забавным, что Иисус Христос боится быть обворованным. Надо было видеть его жилище, этот бывший погреб, врытый глубоко в землю и имевший только три стены, – настоящая лисья нора среди груды камней под старыми липами. Развалившийся погреб – это все, что осталось от замка. Когда браконьер, поссорившись с отцом, поселился в этом скалистом, заброшенном месте, принадлежавшем общине, ему пришлось возвести из камней и четвертую стену. Оставленные в ней два отверстия служили окном и дверью. С крыши спускалась ежевика, а перед окном, закрывая его, рос шиповник. Местные крестьяне называли жилище Иисуса Христа «Замком».
Снова пошел дождь. К счастью, виноградник был недалеко. Раздел его на три части прошел гладко, без особых споров. Оставалось только разделить три гектара луга внизу у реки, но в это время дождь превратился в настоящий ливень, и землемер, проходя мимо решетки какого-то дома, предложил зайти туда укрыться.
– Как вы думаете, не спрятаться ли нам на минутку у господина Шарля?
Фуан в нерешительности остановился перед домом, исполненный почтения к сестре и зятю, которые, нажив себе состояние, удалились на покой и живут, как буржуа.
– Нет, нет, – пробормотал он, – они в двенадцать часов завтракают. Мы им помешаем.
Но на крыльце, под навесом, показался сам г-н Шарль: он вышел взглянуть на дождь. Узнав их, он позвал:
– Входите же, входите!
Так как с них текли целые ручьи, он крикнул им, чтобы они повернули за угол и вошли в кухню, где он их и встретил. Г-н Шарль был красивый шестидесятипятилетний человек с чисто выбритым, пожелтевшим и важным лицом чиновника, вышедшего в отставку. Над его потухшими глазами нависли тяжелые веки. На нем был синий халат, отороченные мехом туфли и ермолка, которые он носил с достоинством человека, всю жизнь исполнявшего строго и неукоснительно некоторые деликатные обязанности.
Когда Лора Фуан, бывшая тогда портнихой в Шатодене, вышла замуж за Шарля Бадейля, у него была небольшая кофейня на Ангулемской улице. Отсюда честолюбивая молодая чета отправилась в Шартр, движимая желанием разбогатеть как можно скорее. Сперва у них ничего не выходило, – все, за что они брались, терпело крах. Им не повезло ни с открытием нового кабачка, ни с попыткой содержать ресторан и торговать соленой рыбой. Они уже отчаивались, думая, что им никогда не удастся разбогатеть, как вдруг г-ну Шарлю, обладавшему большой предприимчивостью, пришло в голову купить один из публичных домов на Еврейской улице. Этот грязный дом с захудалыми обитательницами был на краю полного разорения. Г-н Шарль тотчас же оценил положение, учел потребности шартрских граждан и выгоды, которые может получить в окружном городе, испытывавшем недостаток в приличном заведении, где бы гарантия безопасности соединялась с последними достижениями в области комфорта. И в самом деле, начиная со следующего года дом № 19, заново отремонтированный, украшенный гардинами и зеркалами, заполненный подобранным с большим вкусом персоналом, стал пользоваться таким успехом, что число женщин пришлось увеличить до шести. Господа офицеры, господа чиновники, да и все остальное общество не ходили больше никуда, кроме этого заведения. Железная рука г-на Шарля, его по-отечески суровое управление поддерживали успех заведения. Г-жа Шарль также проявляла исключительную деятельность. Она смотрела за всем хозяйством, ничего не упускала, а когда было нужно, терпеливо сносила выходки богатых клиентов.
Не прошло и двадцати пяти лет, как Бадейли скопили триста тысяч франков. Тогда они начали подумывать об осуществлении мечты своей жизни – об идиллической жизни на лоне природы, среди деревьев, цветов и птиц. Однако отсутствие покупателя для дома № 19 за ту цену, которую они назначали, задержало их еще на два года. У них разрывалось сердце при мысли, что заведение, которое они поставили на такую высоту и которое приносило дохода больше, чем любая ферма, попадет в чужие руки и, может быть, снова захиреет. Как только г-н Шарль переехал в Шартр, у него родилась дочь Эстелла. Открыв заведение на Еврейской улице, он поместил ее в монастырь св. Елизаветы в Шатодене. Это был благочестивый пансион, известный своими суровыми порядками. Желая воспитать дочь в строгих нравственных правилах, г-н Шарль держал ее в монастыре до восемнадцатилетнего возраста, отправляя на каникулы куда-нибудь подальше, так что прибыльное занятие родителей оставалось для Эстеллы неизвестным. Он взял дочь из монастыря только тогда, когда нашел ей мужа в лице молодого чиновника из управления городскими налогами, Гектора Воконя. Этот красивый молодой человек губил свои хорошие задатки в необычайной лености. Лет под тридцать, имея уже семилетнюю дочь Элоди, Эстелла, осведомленная о занятии своего отца и узнав, что он желает ликвидировать свое заведение, обратилась к нему с просьбой уступить его ей. К чему действительно допускать, чтобы такое прекрасное и надежное предприятие ускользало из рук семьи? Все было оформлено, Вокони вступили во владение публичным домом, и Бадейли по истечении первого же месяца могли с умилением убедиться, что хотя их дочь и была воспитана в совершенно иных принципах, она проявила себя как исключительная хозяйка. Это обстоятельство отлично восполняло отсутствие административных талантов у ее мягкотелого мужа. Вот уже пять лет, как Бадейли переселились в Ронь, откуда они с неослабным вниманием наблюдали за своей внучкой Элоди, которая, в свою очередь, была помещена в монастырь св. Елизаветы в Шатодене, где должна была быть воспитана в духе религиозного послушания и строгих нравственных принципов.
Когда г-н Шарль вошел в кухню, где молоденькая служанка готовила яичницу, наблюдая в то же время за сковородкой, на которой поджаривались в масле несколько жаворонков, все, даже старик Фуан и Делом, сняли шляпы и были, по-видимому, счастливы пожать протянутую им руку.
– Черт возьми! – воскликнул Гробуа, чтобы польстить хозяину. – Какая у вас чудесная усадебка, господин Шарль… И подумать только, за какие гроши она вам досталась. Да, нечего говорить, вы ловкач, настоящий ловкач!
Господин Шарль надулся как индюк.
– Случай, господа! Находка! Усадьба понравилась нам, к тому же госпожа Шарль непременно хотела провести остаток своих дней на родине… Я же всегда подчинялся велениям сердца.
«Розбланш» – так называлась усадьба – была прихотью одного буржуа из Клуа, ухлопавшего на нее около пятидесяти тысяч франков; но еще не успела просохнуть краска, как его хватил апоплексический удар. Хорошенький дом, расположенный на краю косогора, был окружен садом в три гектара, спускавшимся до самой Эгры. В такой дыре, как Ронь, на самой границе унылого босского края, усадьба эта не могла найти ни одного покупателя, и поэтому г-ну Шарлю удалось купить ее за двадцать тысяч франков. Он блаженно удовлетворял здесь все свои склонности: в реке водились форели и чудесные угри, в саду с любовью выращивались разные сорта роз и гвоздики, и, наконец, под его личным присмотром содержался большой птичий садок с певчими обитателями местных лесов. Состарившаяся нежная чета проживала здесь двенадцатитысячную ренту в полном довольстве и смотрела на это, как на заслуженную награду за тридцать лет трудовой жизни.
– Не правда ли, – добавил г-н Шарль, – по крайней мере люди знают, кто мы такие?
– Ну, конечно, о вас хорошая слава, – ответил землемер. – Ваш капиталец сам говорит за вас.
Все другие подтвердили его слова:
– Конечно, конечно.
Тогда г-н Шарль велел служанке подать стаканы. Он сам спустился в погреб, чтобы принести оттуда две бутылки вина. Тем временем гости повернули носы к печке, где на сковородке шипели жаворонки, и вдыхали шедший от них приятный запах. Пили они с важностью, прополаскивая вином горло.
– Да, нечего сказать! Сразу видно, что не здешнее… Важнецкое вино!
– Ну-ка еще глоточек… За ваше здоровье!
– За ваше!
Когда они поставили стаканы на стол, появилась г-жа Шарль, дама шестидесяти двух лет, почтенного вида, с белоснежными лентами на чепце. У нее, как у всех Фуанов, было мясистое лицо с толстым носом, но цвет лица был бледный, чуть-чуть подернутый румянцем и как бы говорил о монастырском покое и душевной кротости. Она выглядела как старая монахиня, которая всю свою жизнь провела в келье. С нею вместе, тесно прижавшись к бабушке, вышла и Элоди, приехавшая в Ронь погостить на два дня каникул. Девочка была крайне смущена. Истощенная худосочием, слишком высокая для своих двенадцати лет, одутловатая, с редкими и бесцветными от малокровия волосами, – она казалась совершенно отупевшей от неусыпных забот о сохранении ее нравственности.
– Вот как! Вы у нас? – сказала г-жа Шарль. Медленно и с достоинством протягивая свою руку брату и племянникам, она как бы подчеркивала существующую между ними дистанцию.
И, сразу забыв об их присутствии, она повернулась к двери:
– Входите, входите, господин Патуар… Ваш пациент находится тут.
Это был ветеринар из Клуа, маленький, тучный человек с сизо-багровым лицом, со стриженой головой и пышными усами отставного унтер-офицера. Он также попал под дождь и только что приехал в своем забрызганном грязью кабриолете.
– Бедняжку вчера начала трясти лихорадка, – продолжала г-жа Шарль, доставая из теплой печи корзинку с издыхающим старым котом, – и я немедленно написала вам… Да, он уж не молод, ему чуть ли не пятнадцать лет… Он прожил у нас десять лет в Шартре, но в прошлом году дочери пришлось от него отказаться. Я привезла его сюда, потому что он начал забываться во всех углах лавки.
Лавка была придумана специально для Элоди, которой говорили, что у ее родителей кондитерское дело, отнимающее у них все время, так что они не могли даже принимать ее у себя. При этих словах крестьяне даже не улыбнулись, так как в Рони вошло в поговорку: «Ферма г-на Урдекена не стоит лавочки г-на Шарля». Широко раскрыв глаза, они смотрели на старого рыжего кота, исхудавшего, облезлого и жалкого, – кота, который спал на всех постелях дома на Еврейской улице и которого ласкали и щекотали пухлые руки пяти-шести поколений женщин. В течение долгого времени он был всеобщим баловнем, завсегдатаем гостиной и отдельных номеров, лизал остатки помады, пил воду из туалетной посуды, при всем присутствовал в качестве безмолвного мечтателя и видел многое своими суженными зрачками с золотистым ободком.
– Я вас умоляю, господин Патуар, вылечите его, – закончила свою речь г-жа Шарль.
Ветеринар выпучил глаза, наморщился и, сделав гримасу добродушно-грубого пса, воскликнул:
– Что? За этим только меня и вызывали? Вылечу я вам его! Привяжите ему камень на шею и отправьте-ка его в воду.
Элоди разрыдалась. Г-жа Шарль едва не задохнулась от негодования.
– Да ведь от вашего котика уже вонь идет. Разве можно держать такую мерзость в доме? Он вас всех заразит холерой… Утопите его.
Однако, уступая старой разгневанной даме, он в конце концов уселся за стол и стал писать рецепт, мыча себе под нос:
– Мне-то, разумеется, что же, если вам доставляет удовольствие заразиться. Лишь бы заплатили, а на все остальное наплевать. Вот-с, получайте! Это вы будете ему вливать в глотку через час по ложке, а этим вы два раза поставите ему клизму – одну сегодня вечером, другую завтра.
Господин Шарль начинал уже заметно волноваться. Жаворонки подгорали, а служанка, устав взбивать яичницу, стояла в ожидании. Г-н Шарль торопливо сунул Патуару шесть франков за визит и предложил остальным посетителям допить вино.
– Пора завтракать… Так, значит, до приятного свидания! Дождь уже перестал.
Гости вышли с сожалением, а ветеринар, влезая в свой ветхий экипаж, повторил еще раз:
– На такого кота жалко даже веревки, чтобы его утопить! Но, конечно, раз деньги некуда девать…
– Да, б…ские деньги. Легко нажито, легко и проживать, – насмешливо заметил Иисус Христос.
Однако остальные, даже побелевший от скрытой зависти Бюто, не согласились с этой оценкой, неодобрительно покачав головами. Делом с видом мудреца изрек:
– Как бы то ни было, а тот, кто получает двенадцатитысячную ренту, не бездельник и не дурак.
Ветеринар хлестнул свою лошадь, а остальные направились вниз к Эгре, по тропинкам, превратившимся в бурлящие потоки. Они только что дошли до луга в три гектара, который надо было межевать, как снова пошел проливной дождь. Но они изрядно проголодались и решили покончить со всем как можно скорее. Задержку вызвал только спор из-за третьего участка, на который совсем не пришлось деревьев, так как имевшаяся на лугу небольшая рощица оказалась разделенной между первыми двумя участками. Тем не менее все было улажено, и по всем вопросам пришли к соглашению. Землемер обещал сообщить результаты размежевания нотариусу, чтобы тот мог составить акт. Условились, что метать жребий будут в следующее воскресенье, в десять часов утра, в доме старика Фуана.
Когда они снова входили в деревню, Иисус Христос внезапно выругался:
– Ну, подожди ты, Пигалица, уж я тебе всыплю.
Пигалица не спеша гнала своих гусей вдоль поросшей травою дороги и не обращала внимания на непрекращающийся дождь. Во главе вымокшего и счастливого стада шествовал гусак. Как только он поворачивал свой большой желтый нос вправо, все остальные желтые носы поворачивались туда же. Девочка перепугалась и бегом помчалась домой стряпать. За ней последовала и вся длинношеяя вереница, вытягивавшая головы вслед за гусаком.
IV
В следующее воскресенье было как раз первое ноября, день всех святых. Как только пробило девять часов, аббат Годар, священник из Базош-ле-Дуайен, на обязанности которого лежало и отправление богослужения в роньском приходе, появился на вершине склона, спускавшегося к мостику, переброшенному через Эгру. Ронь, когда-то бывшая крупным селением, а теперь едва насчитывавшая три сотни жителей, уже много лет не имела собственного священника, да и не добивалась этого, а муниципальный совет поселил в полуразрушенном церковном доме полевого сторожа.
Поэтому аббату Годару приходилось каждое воскресенье проходить пешком три километра, отделявшие Базош-ле-Дуайен от Рони. Толстый и коротенький, с апоплексическим лицом, красным затылком и такой мясистой шеей, что голова казалась запрокинутой назад, он совершал эти прогулки ради здоровья. Но в это воскресенье аббат, чувствуя, что запаздывает, тяжело дышал, широко раскрывая рот; его крошечный курносый нос и маленькие серые глазки потонули в жире. Лившие всю неделю дожди сменились ранним похолоданием. Небо заволокли снеговые тучи, но, несмотря на это, аббат шел, помахивая своей треуголкой, с обнаженной головой, заросшей густыми, рыжими, уже начинавшими седеть волосами.
Дорога круто спускалась вниз. На левом берегу Эгры, перед каменным мостом, стояло всего несколько домов. Это было нечто вроде предместья Рони, через которое аббат и направился своей стремительной походкой. Проходя через мост, он не обернулся ни вправо, ни влево, не удостоил ни единым взглядом светлую речку, медленно извивавшуюся среди лугов и разбросанных там и сям ракит и тополей. На правом берегу начиналась деревня. Вдоль по дороге шел двойной ряд домов, другие же были беспорядочно разбросаны по склону. Сразу же за мостом находились мэрия и школа. Последняя помещалась в бывшей риге, которую надстроили одним этажом и побелили известью. С минуту аббат стоял в нерешительности, просунув голову в пустые сени. Потом он повернулся и взглянул на два кабачка, стоявших напротив. Один из них, с чистенькой витриной, заставленной бутылями, имел желтую деревянную вывеску, на которой было написано зелеными буквами «Бакалейщик Макрон». Дверь другого была украшена одной лишь веткой остролистника, а прямо на стене черной краской были грубо намалеваны слова: «Табак Лангеня». Затем аббат решился было направиться вверх по начинавшемуся между двумя кабачками переулку, по крутой тропинке, ведшей прямо к церкви, как вдруг он заметил старика крестьянина.
– А, это вы, папаша Фуан… Я сейчас тороплюсь, а то мне хотелось бы с вами поговорить… Что же мы будем делать? Ведь нельзя же, чтобы ваш сын Бюто оставил Лизу в ее положении, брюхатой… Живот-то ведь мозолит глаза… А ведь она в девушках. Это же позор, позор!
Старик слушал с почтительной вежливостью.
– Но я-то, господин кюре, что я могу поделать, если Бюто упирается?.. Да ведь парень и прав. В его годы и вправду нельзя жениться, не имея ни гроша.
– А ребенок?
– Конечно… Только его еще нет, ребенка-то. И кто знает?.. А с ребенком действительно плохо, если ему рубашку не на что сшить!
Он говорил все эти вещи со стариковской мудростью, с мудростью человека, хорошо знающего жизнь. Потом он добавил тем же размеренным голосом:
– Может быть, все еще устроится. Я ведь хочу разделить свое добро. Сегодня после обедни будут тянуть жребий… А когда Бюто получит свою часть, тогда он, пожалуй, и захочет жениться.
– Ладно… – сказал священник. – Хватит об этом. Я буду рассчитывать на вас, папаша Фуан.
В это время звон колокола перебил его, и он испуганно спросил:
– Это ведь только второй раз звонят?
– Нет, господин кюре, уже третий.
– Тьфу ты! Опять эта скотина Бекю звонит, не дожидаясь меня.
Аббат начал быстро подниматься по тропинке, не переставая браниться. Наверху у него сделался приступ кашля, и он стал хрипеть, как кузнечные мехи.
Колокол продолжал звонить, а испуганные вороны с карканьем носились вокруг шпиля колокольни, построенной в XV столетии, в те времена, когда Ронь сохраняла еще все свое значение. Перед широко раскрытой дверью церкви в ожидании стояла толпа крестьян и среди них, с трубкой в зубах, кабатчик Лангень, вольнодумец. Подальше, у кладбищенской ограды, стоял мэр, фермер Урдекен, красивый мужчина с энергичными чертами лица; он разговаривал со своим помощником, бакалейщиком Макроном. Когда священник, раскланявшись, прошел сквозь эту толпу, все последовали за ним, кроме Лангеня, который демонстративно повернулся спиной, продолжая сосать свою трубку.
На паперти, направо от входа, какой-то человек с силой тянул веревку колокола, временами повисая на ней.
– Перестаньте, Бекю! – сказал аббат Годар вне себя. – Я вам двадцать раз приказывал не звонить в третий раз, пока я не приду.
Полевой сторож, бывший в то же время и звонарем, вскочил на ноги, смущенный тем, что его уличили в непослушании. Это был маленький человечек лет пятидесяти, с сильно загоревшим четырехугольным лицом старого служаки, с седыми усами и бородкой, с жилистой шеей, которую стеснял слишком узкий воротник. Несмотря на то что Бекю был уже достаточно пьян, он стоял навытяжку, не осмеливаясь попросить извинения.
Священник между тем прошел в глубь церкви, окидывая взглядом ряды скамеек. Народу было мало. На левой стороне он не заметил никого, кроме Делома, который, будучи членом муниципального совета, присутствовал на богослужениях по обязанности. Направо, на женской стороне, сидело, самое большее, двенадцать прихожанок. Он заметил худую, раздражительную и нахальную Селину Макрон, рыхлую и плаксивую кумушку Флору Лангень, высокую, смуглую и очень грязную старуху Бекю. Но что окончательно вывело его из себя, так это поведение девушек, сидевших на первой скамейке. Там была Франсуаза с двумя своими подругами – хорошенькой брюнеткой Бертой, дочерью Макронов, получившей воспитание в Клуа, и белокурой дурнушкой, бесстыдницей Сюзанной, дочерью Лангеней, которую родители хотели отдать в учение к шатоденской портнихе. Все три девушки смеялись самым непристойным образом. Рядом с ними сидела бедняжка Лиза. Жирная и круглая, с веселым выражением лица, она выставила свой неприличный живот прямо перед алтарем.
Наконец аббат Годар вошел в ризницу. Но тут он наткнулся на Дельфена и Ненесса. Приготовляя сосуды к службе, они забавлялись, наскакивая друг на друга. Первый, одиннадцатилетний сын Бекю, загорелый и уже крепкий мальчишка, очень любил землю и с радостью бросал школу ради пахоты. Другой, старший сын Деломов, Эрнест, прозванный Ненессом, худенький и ленивый белокурый мальчик, ровесник Дельфена, всегда носил в кармане зеркальце.