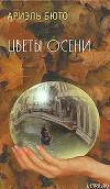Текст книги "Собрание сочинений. Т. 12. Земля"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Жан остановился, дал отдышаться лошади и стряхнул с себя дурман, вдыхая ледяной воздух. Долгим взглядом окинул он пустынный горизонт, бесконечную равнину, среди которой виднелись другие пахари, идущие за своей упряжкой. Там, далеко-далеко, силуэты их терялись под серым куполом неба. Он очень удивился, узнав Фуана, который брел по новой дороге из Рони, очевидно охваченный каким-то воспоминанием, потребностью снова повидать хоть часть поля. Потом Жан опустил голову и на минуту погрузился в созерцание вспаханной борозды и развороченной у его ног земли, – в глубине она была желтой и крепкой и, перевернутая дерном вниз, словно обращала к свету свое помолодевшее тело, а жирный слой навоза под нею расстилался ложем плодородия. Мысли его путались все больше и больше: странным казалось, почему это надо до такой степени разворотить землю, чтобы есть хлеб, сердце щемило от того, что его не любит Франсуаза. Еще более неопределенными были его думы о том существе, которое постепенно росло, которому предстояло скоро родиться, думы о работе, которую он совершал и которая не приносила ему счастья. Он опять взялся за плуг, крикнув гортанным голосом:
– Но, но, пошевеливайся!
Жан кончал свою пахоту, когда у края поля остановился Делом, возвращавшийся с соседней фермы.
– Послушайте, Капрал, вы слыхали новость?.. Говорят, что будет война.
Жан бросил плуг, приподнялся, изумленный и пораженный в самое сердце.
– Война? Как так?
– Ну да, с пруссаками, – по крайней мере мне так сказали. Об этом пишут в газетах.
Глаза Жана уставились в одну точку. Он снова видел перед собой Италию, происходившие там сражения, эту бойню, в которой он так счастливо уцелел, не получив ни одного ранения. Как страстно мечтал он в то время о мирной жизни в своем углу! И вдруг это известие, напоминание о войне, услышанное из уст случайного прохожего, зажгло его кровь.
– Что ж! Пусть только пруссаки попробуют нам гадить, мы им не позволим издеваться над нами.
Делом был другого мнения. Он покачал головой и заявил, что для деревень будет сущей погибелью, если снова появятся казаки, как после Наполеона. Драться не к чему, – лучше прийти к соглашению.
– Это я говорю о других. Я ведь заплатил господину Байашу, и, что бы ни случилось, Ненесс, который завтра тянет жребий, все равно не пойдет на войну.
– Конечно, – сказал Жан, успокоившись. – Так же, как и я, – с меня теперь взятки гладки, я женат, и мне дела нет до того, что кто-то там будет драться с пруссаками… Ну что ж, им хорошенько всыпят – и конец!
– Прощайте, Капрал!
– Прощайте!
Делом ушел. Потом он снова остановился и сообщил еще кому-то свою новость, потом в третий раз, и угроза близкой войны облетела Бос, над которой в великой скорби нависло пепельно-серое небо.
Жан, окончив работу, решил пойти за обещанными семенами. Он распряг лошадь, оставил плуг в конце пашни и сел на лошадь верхом. Покидая поле, он вспомнил о Фуане, поискал его, но не нашел. Наверное, он спрятался от холода за скирдом соломы, стоявшем на участке Бюто.
Приехав в Бордери, Жан привязал лошадь и крикнул, но напрасно: никто не откликнулся, – вероятно, все работали в поле. Он вошел в кухню. Там никого не было. Он ударил кулаком по столу. Тогда откуда-то из погреба, где хранились молочные продукты, раздался голос Жаклины. В погреб спускались через люк, находившийся у самой лестницы, в очень неудобном месте, так что всегда можно было опасаться, как бы кто-нибудь не свалился туда.
– Ау! Кто там?
Он присел на верхней ступеньке крутой короткой лестницы, и она сразу узнала его голос.
– Э, да это Капрал!
Он тоже заметил ее в полумраке погреба, слабо освещенного через небольшую отдушину. Жаклина возилась там с молоком, обставленная кринками и кувшинами, из которых капля по капле в маленькое корыто стекала сыворотка; она засучила рукава до самых подмышек, обнажив руки, белые от сливок.
– Спускайся сюда! Или ты меня боишься?
Она говорила ему «ты», как прежде, и смеялась завлекающим смехом. Но он смутился и не двигался с места.
– Я зашел за семенами, хозяин обещал мне дать их…
– Да, да, я знаю. Погоди, я сейчас поднимусь.
Когда она выбралась на свет, она показалась ему такой свежей, от нее так хорошо пахло молоком, и голые руки ее были так белы! Она смотрела на него своими красивыми порочными глазами и наконец спросила шутливым тоном:
– Что же ты меня не поцелуешь? Если человек женат, это не значит, что он должен быть нелюбезным.
Он поцеловал ее, громко чмокнув в обе щеки, как бы желая этим показать, что целует ее чисто по-дружески. Но она смущала его, на него нахлынули воспоминания, и дрожь пробежала по всему его телу. Никогда не чувствовал он ничего подобного по отношению к своей горячо любимой жене.
– Ну, идем, – проговорила Жаклина. – Я покажу тебе семена. Представь себе, что даже и прислуги нет, она на рынке…
Она прошла на другую половину двора, в амбар, и свернула за груду наваленных мешков; тут у самой стены, в огороженном досками месте, кучей лежало зерно. Жан шел за ней, тяжело дыша, взволнованный тем, что находится с ней наедине в таком укромном месте. Он тотчас же сделал вид, что очень интересуется зерном, этой прекрасной шотландской пшеницей.
– О, какое крупное зерно!
Но она, воркуя своим грудным голосом, быстро заговорила об интересовавшем ее предмете:
– Жена твоя беременна?.. Вы, стало быть, живете друг с другом, а?.. Ну, скажи, как с ней-то дело идет? Так же складно, как со мной?..
К большому ее удовольствию, он густо покраснел. Она была в восторге, что сумела так его ошарашить. Но какая-то неожиданная мысль, по-видимому, омрачила ее.
– Знаешь, у меня много всяких неприятностей. К счастью, теперь уже все прошло, и я благополучно выкарабкалась из всего этого.
Действительно, как-то раз вечером в Бордери к Урдекену неожиданно явился его сын Леон, свалившись, словно снег на голову. Капитан не показывался в доме отца уже много лет; он приехал разузнать, о домашних делах и с первого же дня, как только узнал, что Жаклина занимает комнату его матери, понял все. На мгновение она затрепетала, потому что лелеяла честолюбивую мечту женить на себе хозяина и унаследовать всю ферму. Но капитан затеял старую игру и просчитался: он думал, что поссорит Жаклину с отцом, если тот застанет ее с ним в постели. Затея оказалась слишком нехитрой. Она разыграла из себя оскорбленную добродетель, кричала, плакала, заявила Урдекену, что уйдет с фермы, раз ее больше не уважают в доме.
Между обоими мужчинами произошла жесточайшая сцена. Сын попытался открыть глаза отцу, но только ухудшил дело. Через два часа после этого капитан уехал, крикнув отцу с порога, что предпочитает все потерять и если когда-нибудь вернется, то только для того, чтобы вышвырнуть эту паскуду.
Жаклина торжествовала, но при этом она ошиблась, полагая, что может пойти на какой угодно риск. Она дала понять Урдекену, что после таких неприятностей, о которых слухи пойдут по всей округе, она может у него остаться, только если он на ней женится. Она даже принялась было собирать свои вещи. Но фермер, еще весь взбудораженный разрывом с сыном, а к тому же еще и злой от тайного сознания своей неправоты, закатил ей несколько таких пощечин, что чуть не убил ее. Она перестала говорить о своем уходе с фермы, поняв, что слишком поторопилась. Впрочем, теперь она была полновластной хозяйкой в доме, не скрываясь, спала в спальне, ела вместе с хозяином отдельно от других, распоряжалась, проверяла счета; у нее хранились ключи от кассы, и держала она себя так деспотично, что он советовался с ней, прежде чем принять то или иное решение. Он же опустился, сильно постарел, и она надеялась сломить его последнее сопротивление и принудить к браку, когда он будет окончательно изнурен. Воспользовавшись тем, что он поклялся отказать сыну в наследстве, она старалась склонить его написать завещание в ее пользу. Она воображала, что ферма уже принадлежит ей, потому что однажды ночью, лежа в постели, вырвала у него такое обещание.
– Ты понимаешь, что не ради его прекрасных глаз я до одури забавляю его вот уже несколько лет!
Жан не мог удержаться от смеха. Беседуя с ним, она машинально погрузила свои голые руки в закрома с зерном; она то зарывала, то вынимала их оттуда, и мельчайшая пыль точно пудрой покрыла ее кожу. Он смотрел на эту игру и задал вслух вопрос, о котором пожалел:
– Ну, а как дела с Троном? Идут на лад?
Она нисколько не обиделась и заговорила просто, как со старым приятелем:
– Ах да, я его очень люблю, этого увальня. Но, правду сказать, разума в нем немного! А уж и ревнив до чего! Какие он мне устраивает скандалы! Он терпит только хозяина, да и то не очень… Мне сдается, что он подслушивает ночью, спим ли мы.
Жан опять развеселился. Но она говорила серьезно, без смеха; втайне она побаивалась этого великана, угрюмого и лживого, как все першеронцы. Судя по ее словам, он грозил задушить ее, если она будет его обманывать. И хотя она любила его за рослую фигуру, она все же дрожала в его присутствии: он мог раздавить ее одним пальцем.
Тут она кокетливо пожала плечами, точно желая сказать, что сумела и не с такими разделаться, и, улыбнувшись, продолжала:
– Знаешь, Капрал, с тобой-то было лучше! Помнишь, в каком согласии мы жили с тобой?
И, не сводя с него своих влекущих глаз, она опять начала зарывать руки в зерно. Почувствовав себя снова в ее власти, он забыл об отъезде с фермы, о своей женитьбе, о будущем ребенке. Он схватил ее за кисти рук, погрузив свои руки в зерно, и стал гладить ее все выше и выше, проводя пальцами по ее бархатистой от муки коже, касаясь ее детской груди, погрубевшей от частого прикосновения мужчин. Именно этого она и желала с той минуты, как заметила его на лестнице. Ей хотелось возврата его былой нежности. Отчасти ее побуждало злорадное удовольствие отбить его у другой женщины, его законной жены. Он уже схватил ее и опрокинул на кучу зерна; она почти лишилась чувств и тихо шептала ласковые слова. Но вдруг из-за груды мешков появилась высокая тощая фигура пастуха Суласа. Он сильно кашлял и отплевывался. Жаклина сразу вскочила, а Жан, тяжело дыша, пробормотал:
– Ну, ладно!.. Так я приду и заберу пять гектолитров… Вот так крупное зерно! Да! Очень крупное!
Она в бешенстве смотрела на спину пастуха, который все не уходил, и, стиснув зубы, проворчала:
– Наконец это слишком! Он торчит и досаждает мне даже тогда, когда я думаю, что никого нет. Уж я тебя выставлю!..
Жан, остыв, поторопился выйти из амбара. Он отвязал лошадь и стоял на дворе, несмотря на то что Жаклина делала ему знаки, – она предпочла бы спрятать его в спальне, чем отказать ему в его желании.
Но он хотел поскорее убраться и повторил, что приедет завтра. Он вышел, ведя лошадь под уздцы. Сулас поджидал его у ворот и сказал ему:
– Значит, честности не существует? Ты тоже возвращаешься сюда? Окажи ей в таком случае услугу: скажи, чтобы она молчала, не то я заговорю. Ох, уж и будет кутерьма, вот увидишь!..
Но Жан пошел дальше, сделав резкое движение и не желая ни во что вмешиваться. Он горел от стыда, раздосадованный тем, чего чуть было не сделал. Он думал, что горячо любит Франсуазу, а между тем она никогда не вызывала в нем такой бешеной страсти. Неужели же он любит Жаклину больше? Или эта распутная девка так распалила его, что он забыть ее не может? В нем пробуждалось все прошлое, он злился на себя, чувствуя, что завтра опять вернется к ней, несмотря на все свое возмущение. Дрожа всем телом, он вскочил на лошадь и галопом помчался в Ронь.
Как раз в это время, после полудня, Франсуаза решила накосить для коров охапку люцерны. Это была ее обычная обязанность, и она собралась в поле, надеясь встретить там своего мужа. Она старалась не ходить туда одна, потому что боялась встретиться с Бюто и с Лизой, которые злобствовали из-за того, что не были единственными хозяевами поля, и все время искали повода для столкновений. Франсуаза захватила с собою косу; траву она рассчитывала привезти домой на лошади. Но когда она пришла к корнайскому полю, Жана, к ее удивлению, там не оказалось, однако плуг его был на пашне, – куда же он мог деваться? Еще больше она взволновалась, когда заметила Бюто и Лизу, которые энергично жестикулировали с самым свирепым видом. Очевидно, они только что остановились, возвращаясь из соседней деревни, разодетые по-праздничному, с пустыми руками. Сперва она хотела повернуть обратно, но затем рассердилась на себя за свое малодушие.
Имела же она право ходить по собственному полю! И она пошла дальше, с косой на плече.
Надо признаться, что при каждой встрече с Бюто, особенно если он бывал один, Франсуаза чувствовала сильное волнение. Вот уже два года, как она не обращалась к нему ни с единым словом, но всегда при виде его всю ее переворачивало, – может быть, от гнева, а может быть, и по какой-нибудь другой причине. Много раз она видела его издали, когда, как сегодня, шла за люцерной. Он несколько раз поворачивал голову в ее сторону и посматривал на нее своими серыми, в желтоватых крапинках глазами. Ее охватывала мелкая дрожь; несмотря на все свои усилия, она невольно начинала торопиться, тогда как он замедлял шаги; и когда они оказывались рядом, их взоры на секунду встречались, а пройдя мимо него, она чувствовала смущение, уверенная, что он смотрит ей вслед. Она как бы каменела и едва могла идти. В последнюю их встречу она была так встревожена, что хотела свернуть с дороги в люцерну, но ей помешал ее огромный живот, и она растянулась во весь рост. А он так и прыснул со смеху.
Вечером Бюто со злорадным чувством рассказал Лизе о том, как шлепнулась ее сестра, и в глазах у обоих блеснула одна и та же мысль: если эта дрянь умрет вместе с младенцем, мужу ничего не достанется, – земля и дом снова будут принадлежать им. Они знали со слов Большухи о завещании, которое сестра так и не собралась написать и которое со времени ее беременности оказывалось уже ненужным. Но ведь им всегда не везло; нечего и думать о том, чтобы судьба избавила их от Франсуазы и ее младенца. Ложась спать, они часто говорили об этом, просто так, чтобы поболтать, – разговор о смерти никого не убивает. Хорошо бы все устроилось, если бы Франсуаза умерла! Это действительно было бы проявлением божьей справедливости! Лиза, отравленная своей ненавистью, в конце концов заявила, что сестра ей больше не сестра. Она сама положила бы ее голову на плаху, если бы от этого зависело их возвращение домой, откуда их так подло выгнала эта дрянь. Бюто не выказал себя таким жадным и заметил, что достаточно будет уже и того, если младенец подохнет не родившись. Его особенно сердила эта беременность: рождение ребенка положило бы конец их упрямой надежде возвратить добро. Когда они вместе легли в постель, Лиза задула свечу, многозначительно рассмеялась и сказала, что младенцы, которые еще не появились на свет, могут и не появиться. В ночной тьме воцарилась тишина. Наконец Бюто спросил, что означают ее слова. Прижавшись к нему и приложив губы к его уху, она призналась: в прошлом месяце она с огорчением заметила, что снова забеременела; тогда она, не предупреждая его, отправилась к старухе Сапен, знахарке из Маньоли. Снова беременна! Спасибо! Сапен очень просто поправила дело с помощью иглы. Он слушал, не выражая ни одобрения, ни порицания. По-видимому, он был доволен, потому что, смеясь, сказал, что Лизе следовало бы воспользоваться иглой и для Франсуазы. Жена его тоже оживилась, крепко обняла супруга и шепнула ему, что Сапен научила ее еще другому способу! О, очень смешному!.. В чем он состоит?.. А вот в чем. То, что сделал один мужчина, другой может уничтожить, – нужно только овладеть женщиной и в это время начертить у нее на животе три креста, читая «богородицу» навыворот. Если в животе имеется младенец, он улетучится, как ветер. Бюто захлебнулся от смеха. Они пробовали было усомниться, но старинные суеверия глубоко проникли в их плоть и кровь. Они затрепетали: кто не знал, что старуха из Маньоли обратила корову в ласку и воскресила мертвого? Раз она это утверждает, значит, так оно и есть. Наконец Лиза, ластясь к мужу, попросила, чтобы он испытал над ней «богородицу» навыворот и три крестных знамения, желая убедиться, что она ничего не будет чувствовать. Не к чему! Достаточно иглы! Вот на Франсуазе испробовать – это другое дело. Он рассмеялся. Разве он мог себе позволить? А почему бы и нет, если он уже раз обладал ею?.. Неправда! Теперь ему приходилось защищаться, жена из ревности вцепилась ногтями в его тело. Супруги заснули в объятиях друг друга.
С тех пор они не могли отделаться от мысли о будущем ребенке, который отнимает у них навсегда дом и землю. Встречая Франсуазу, они сразу же смотрели на ее живот. Когда они видели, как она идет по дороге, они немедленно измеряли ее взглядом, убеждаясь, что живот ее все растет и скоро будет уже поздно.
– Ах, черт! – заорал Бюто, вернувшись на работу и рассматривая поле. – Вор отхватил у нас порядочный кусок. Да что тут говорить: вот где граница!
Франсуаза продолжала приближаться тем же спокойным шагом, стараясь скрыть свой страх. Она поняла по раздраженному виду Бюто и Лизы, что Жан заехал плугом на их полосу. Это было вечным предметом раздора, – месяца не проходило без того, чтобы они не сталкивались друг с другом по поводу границы. Кончить это можно было только бранью, дракой или судебным разбирательством.
– Ты понимаешь, – негодовал он, повышая голос, – вы забрались на чужой участок, я могу вас выставить!
Но молодая женщина, не повернув головы, пошла по своему полю, засеянному люцерной.
– Тебе говорят! – закричала вне себя Лиза. – Иди взгляни на межу, если ты думаешь, что мы врем… Нужно определить убытки!..
Сестра молчала, нарочно подчеркивая этим свое презрение. Лиза потеряла всякое чувство меры и начала наступать на нее с кулаками.
– Отвечай, говорят тебе!.. Смеешься ты, что ли, над нами?! Я старшая, ты должна меня почитать! Я заставлю тебя на коленях просить прощения за все гадости, которые ты мне сделала!..
Она встала перед ней, обуреваемая злобой, ослепленная вскипевшей в ней кровью:
– На колени, на колени, шлюха!
Франсуаза молчала и так же, как при своем водворении в доме, плюнула ей в лицо. Лиза завопила. Тогда вмешался Бюто и с силою ее отстранил:
– Оставь, это мое дело.
Вот и хорошо, пусть он действует! Пусть мучает ее, переломит ей позвоночник, как гнилое дерево, пусть сделает из нее месиво для собак, пусть воспользуется ею, как потаскухой, – она не будет ему препятствовать!
Она еще и поможет! Лиза выпрямилась и начала сторожить, чтобы никто не помешал Бюто.
Вокруг расстилалась беспредельная серая равнина; небо было мрачно, кругом ни души.
– Ну, иди! Никого нет!
Бюто шел прямо к Франсуазе; видя его суровое лицо и напряженные руки, она решила, что он собирается ее избить. Она дрожала, но не выпускала косы. Бюто уже схватил косу за рукоятку, вырвал ее из рук Франсуазы и швырнул на траву. Желая ускользнуть от него, уйти, она стала пятиться, зашла в соседнее поле и направилась к стогу, надеясь воспользоваться им как прикрытием. Бюто постепенно расставлял руки, он не спешил и, казалось, тоже хотел загнать ее в стог. От сдержанного смеха рот его растянулся так, что обнажились десны. И вдруг она поняла, что он не собирается ее бить. Нет! Он хотел совсем другого, того, в чем она ему так долго отказывала. И вот она, такая храбрая, клявшаяся когда-то, что он никогда ничего от нее не добьется, задрожала еще сильнее, чувствуя, что силы покидают ее. А ведь теперь она уже не девчонка – в день св. Михаила ей минуло двадцать три года, – теперь она уже настоящая женщина, с алым ртом и глазами большими, как экю. Ее охватила сладкая истома, и все тело ее оцепенело.
Бюто продолжал наступать, заставляя ее пятиться, и наконец заговорил тихо и горячо:
– Ты ведь знаешь, что между нами не все кончено, я хочу тебя и буду обладать тобой!
Ему удалось припереть ее к стогу, схватить за плечи и опрокинуть. Но в этот момент она безотчетно, по давней привычке к сопротивлению, начала обороняться.
– Дура, раз уж ты беременна, ты теперь ничем не рискуешь! – продолжал Бюто, сторонясь, так как она отпихивала его ногами. – Уж наверняка я не прибавлю тебе второго!
Она зарыдала. Это был предел. Больше она уже не оборонялась, но руки ее были сплетены, ноги дергались в конвульсиях от нервного напряжения. Он не мог овладеть ею. При каждой новой попытке его отбрасывало в сторону. Он озверел от гнева и обернулся к жене.
– Ну, ты, бездельница, чего смотришь?.. Помогай мне, держи ее за ноги, если хочешь, чтобы я сделал что следует!..
Лиза по-прежнему стояла неподвижно в нескольких метрах от них, всматривалась то в одну, то в другую точку горизонта; ни один мускул на ее лице не дрогнул за это время. Услышав зов мужа, она, не колеблясь, подошла, схватила Франсуазу за левую ногу, отодвинула ее в сторону и села на нее, как будто хотела раздавить. Франсуаза, пригвожденная к земле, отдалась в состоянии прострации, с закрытыми глазами. Однако она сохранила сознание и, когда Бюто овладел ею, почувствовала острый приступ блаженства. Она крепко сжала его руками, так, что чуть не задушила, и испустила продолжительный крик, перепугав пролетавших ворон. Из-за стога показалось бледное лицо старого Фуана, который зарылся в солому, ища защиты от холода. Он все видел и, очевидно, тоже перепугался, так как снова зарылся в стог.
Бюто встал. Лиза пристально смотрела на него. Она была озабочена только одним: сделал ли он так, как следовало. Но в своем порыве он забыл все – и крестные знамения, и «богородицу» навыворот. Лиза остолбенела, она была вне себя. Так что же, он делал это для удовольствия?..
Но Франсуаза не дала ей времени для объяснений с мужем. Один момент она оставалась лежать, распростертая на земле, как бы изнемогая от пережитой радости любви, неведомой ей до сих пор. Внезапно ей открылась истина: она любила Бюто, любила всегда, никогда не будет любить никого другого. Это открытие преисполнило ее стыдом. Она вознегодовала на самое себя, возмущенная нарушением всех своих понятий о справедливости. Ведь этот человек вовсе не принадлежал ей, он был мужем сестры, которую она ненавидела, единственным мужчиной, связь с которым с ее стороны была подлостью. И она только что позволила ему все и обнимала его так крепко, что у него не могло быть сомнений в том, что она принадлежит ему.
Она вскочила, ошеломленная, растерянная, и принялась изливать свое горе в бессвязных словах:
– Сволочи! Мерзавцы!.. Оба вы сволочи и мерзавцы!.. Вы меня погубили… Даже таких, которые меньше вашего сделали, посылают на гильотину!.. Я расскажу все Жану, подлые негодяи!.. Он сумеет с вами рассчитаться!..
Бюто насмешливо пожал плечами, довольный, что добился своего:
– Брось! Ты же умирала от удовольствия, я чувствовал, как ты дрыгала ногами! Мы это дело еще повторим!
Эта насмешка окончательно доконала Лизу; весь поднимавшийся в ней против мужа гнев обрушился на младшую сестру:
– Верно, шлюха! Я сама видела! Ты его обняла, принудила! Подумать только, все мои несчастия исходят от тебя!.. Осмелься теперь повторить, что ты не развратничала с моим мужем! Да, да, сейчас же, на другой день после свадьбы, когда я тебе еще сопли утирала!
Ревность ее особенно разгорелась после того, как она поняла, что сестра испытала удовольствие. Это относилось не столько к самому акту, сколько ко всему тому, чем сестра досадила ей в жизни. Если бы эта женщина, вышедшая из одной с ней утробы, не родилась на свет, ей не пришлось бы ничем делиться. Она проклинала сестру за то, что та была моложе ее, свежее, привлекательнее.
– Лжешь! – закричала Франсуаза. – Отлично знаешь, что лжешь!
– Ах, я лгу? Так, может быть, это не ты хотела его и преследовала его до самого погреба?
– Я! Я! И сейчас тоже я?.. Ты, как корова, навалилась на меня! Ты мне чуть ногу не сломала? Черт тебя знает, просто ли ты мерзавка или же ты хочешь убить меня, стерва!..
Лиза ответила ей пощечиной. Это взбесило Франсуазу, она накинулась на Лизу. Бюто ухмылялся, заложив руки в карманы, и не ввязывался в потасовку, точь-в-точь как горделивый петух, из-за которого подрались две курицы. И бой продолжался, яростный, ожесточенный. Чепчики их полетели прочь, тела были в синяках; каждая старалась нанести удар другой в самое уязвимое, опасное для жизни место. Продолжая драку, женщины снова оказались на поле с люцерной. Франсуаза вцепилась ногтями Лизе в шею. Лиза завопила, увидев кровь, и ею овладело ясно осознанное желание убить сестру. Она заметила слева от нее косу, лежавшую на кусте репейника острием кверху. Все произошло мгновенно, как молния. Лиза что было силы набросилась на Франсуазу. Несчастная споткнулась, опрокинулась и с ужасным криком упала в левую сторону. Коса вонзилась ей в бок.
– Черт возьми, ах, черт возьми!.. – пробормотал Бюто.
Этим все кончилось. Достаточно было одной секунды, чтобы свершилось непоправимое. Лиза, в восторге оттого, что ее желание исполнилось, смотрела на продырявленное платье, обильно залитое кровью. Должно быть, железо достигло младенца, если кровь текла так сильно!
 За стогом вновь показалось бледное лицо старика Фуана. Он видел, что произошло, и моргал своими мутными глазами.
За стогом вновь показалось бледное лицо старика Фуана. Он видел, что произошло, и моргал своими мутными глазами.
Франсуаза уже не двигалась. Подошедший к ней Бюто не решался до нее дотронуться. Пронеслось дуновение ветра и пронизало его холодом до мозга костей. Бюто охватил невыразимый ужас. Волосы на нем встали дыбом.
– Она мертва! Бежим, черт подери!
Он схватил Лизу за руку, и они понеслись вдоль пустынной дороги. Низкое, мрачное небо нависло над самой их головой. Топот их ног отдавался в ушах с такой силой, как будто целая толпа бросилась за ними в погоню. И они бежали по безлюдной, открытой равнине: он – с надувшейся блузой, она – с растрепанными волосами, с чепчиком в руке. Оба повторяли все те же слова, ворча, как затравленные звери:
– Умерла, умерла! Умерла, черт возьми!..
Они бежали все быстрее и быстрее; уже не было больше связных фраз, они машинально бормотали в такт своим шагам, своему дыханию, и в их бормотании еще можно было разобрать:
– Умерла, черт возьми! Умерла, черт возьми!..
Они исчезли.
Вскоре на лошади приехал Жан. Горе его было огромно.
– Что такое? Что случилось?..
Франсуаза подняла веки, но по-прежнему лежала неподвижно. Она обвела его долгим взглядом своих страдальческих глаз и ничего не ответила, словно была уже очень далека от него и думала совсем о другом.
– Ты ранена? Ты в крови?.. Ответь, умоляю тебя!.. Вы были при этом? Что произошло? – обратился он к подошедшему Фуану.
– Я пошла за травой… Упала на косу… Все кончено!
Ее глаза искали глаза Фуана. Ему она говорила совсем другое, то, что должны были знать только родные.
Старик, хотя у него и помутился рассудок, казалось, понял и повторял:
– Да, да. Она упала и поранилась. Я был при этом, я видел…
Пришлось бежать в Ронь за носилками. По дороге Франсуаза снова потеряла сознание. Думали, что ее не доставят до дому живой.
IV
На другой день было воскресенье. Парни из Рони отправились в Клуа на жеребьевку. Когда к вечеру прибежали Большуха и Фрима и с бесконечными предосторожностями раздели и уложили Франсуазу в постель, откуда-то издали послышалась барабанная дробь, которая в печальных сумерках звучала погребальным звоном для бедного люда.
Жан, совершенно убитый, отправился на поиски доктора. Около церкви он встретил ветеринарного врача Патуара, который пришел посмотреть лошадь дяди Сосисса. Жан энергично упрашивал Патуара пойти взглянуть на раненую, но тот не соглашался. А увидев ужасную рану, ветеринар решительно отказался ее лечить. К чему? Сделать ничего нельзя.
Когда двумя часами позже Жан привел г-на Финэ, тот сказал то же самое. Наркотическое средство несколько смягчит агонию. Пятимесячная беременность сильно осложняет дело; чувствовалось, как шевелится ребенок, умирая из-за смерти матери в этом чреве, пораженном в своем плодородии. Перед уходом доктор попытался сделать перевязку и обещал прийти на другой день, сказав, что несчастная не переживет ночи. Тем не менее Франсуаза ее пережила, и в ней все еще теплилась жизнь, когда утром, около девяти часов, барабанным боем стали созывать рекрутов на площадь перед школой.
Всю ночь шел проливной дождь, словно небо превратилось в сплошную воду. Сидя в глубине комнаты в состоянии полного отупения, Жан слышал, как струится нескончаемый поток. Слезы застилали ему глаза. Когда наступило теплое туманное утро, он услышал барабанный бой, точно приглушенный крепом. Дождь перестал, но небо оставалось свинцово-серым.
Бой барабана раздавался долго. Барабанщик сменился, теперь уже дробь выбивал племянник Макрона, вернувшийся со службы. Он барабанил с такой силой, как будто бы вел на врага целый полк. Вся Ронь была взбудоражена. Жеребьевка всегда вызывала беспокойство, а в этом году тревога усиливалась слухами о близкой войне, которые носились уже несколько дней. Дать пруссакам проломить себе голову? Покорно благодарим! Тянуть жребий предстояло девяти роньским парням. Такого еще, кажется, небывало. Среди парней находились когда-то неразлучные Ненесс и Дельфен; теперь они разлучились, с тех пор как один из них поступил в Шартре к ресторатору. Ненесс пришел накануне и провел ночь у родителей на ферме, – Дельфен с трудом его узнал, так он изменился. Он стал настоящим франтом, ходил с тросточкой, в шелковой шляпе, носил галстук небесного цвета, продетый в колечко. На нем был костюм, сшитый по заказу у портного; он смеялся над готовым платьем от Ламбурдье. Дельфен, наоборот, погрубел, двигался неуклюже, лицо у него загорело на солнце, он вырос сильным, как сорная трава. Между ними тотчас же возобновились приятельские отношения. Проведя вместе часть ночи, они пришли к школе под руку, по призыву барабана, который упорно и назойливо продолжал отбивать дробь.
Тут же стояли и родители. Делом и Фанни были польщены изысканностью Ненесса, и им хотелось присутствовать при его отправке. Впрочем, им не было причин волноваться за сына, так как они заранее добились его освобождения от службы. Что до Бекю, явившегося с ярко начищенной бляхой полевого сторожа, то он грозил жене пощечиной, если она не перестанет плакать. Это еще что? Да разве Дельфен не годен для того, чтобы послужить родине? Парень, черт побери, плевать хотел на этот счастливый номер!
Когда сошлись все девять человек, на что потребовался добрый час, Лекё передал им знамя. Поспорили, кому выпадет честь его нести, – обыкновенно оно давалось самому высокому, самому крепкому, и все согласились, что лучше всего для этой роли подойдет Дельфен. В глубине души он был робок, несмотря на свои большие кулаки, и казался очень смущенным; его как-то стесняла вещь, с которой он не привык обращаться. Этакая длинная штука, и как неудобно держать ее в руках! Да и не принесет ли она ему несчастья?..