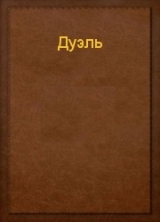
Текст книги "Дуэль"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
– Кроме лесника, никого не было? – спросил Сергеич.
– Были еще гости. Милиция. Целой кодлой. Тоже искали кого-то. Все будки раком поставили. Грозились нам мусориловкой. Тайгу шмонали. С собаками. Ни хрена не надыбали. Смылись, когда темнеть стало.
– А кроме них?
– Никого.
– Слушай, из Охи ушла от облавы группа преступников. Во главе с матерым рецидивистом по кличке Леший. Его по случайности упустила проверка на нашем перевале. И теперь мы ищем его. Должны найти, чтобы люди спокойно спали. Он где-то неподалеку. Круг поиска смыкается. Ему не уйти. Слишком опасен. А потому имеем право стрелять в него без предупреждения. За свою голову я не держусь. А вот вас жаль будет. До воли уже немного осталось всем. Работать умеете лучше других. Многое пережили. Может, сумеете устроить судьбы свои. Может, соседями жить будем. Поберегите себя. На завтра. Чтоб не впустую пережитое. Пойми, беды вам не хочу. Но коли найдет у вас пристанище, не обижайся. Чтобы другим он жизни не укоротил, прихлопну его и любого, кто вступится за него и примет…
– Я не видел его, – охрип голос Мустанга, знавшего, Сергеич всегда держал свое слово.
– Дай Бог, чтобы это было так. И помни, что я сказал тебе. Мы – не милиция, лишь в экстренных случаях помогаем ей. Но если беремся, доводим до конца… И знай, я – не грожу, я – прошу тебя!
Мустангу стало как-то неуютно, словно в чужую «малину» на разборку попал. Он переминался с ноги на ногу. И впервые не знал, что ответить.
Сергеичу, единственному из всех, он не мог хамить. Была минута. Лихая, черная. О какой пограничник никогда не напоминал.
Но Мустанг ее помнил.
Это был первый год его прибытия сюда – на деляну, бригадиром условников его выбрали уже здесь. Ответственным за все разом. За выработку и жизни. Каждого.
А тут ураган поднялся. Не сразу бешеным драконом вздыбился. Поначалу – поземкой, пургой, какие тут не редкость. Трассу сначала перемело, а потом и вовсе спеленало в сплошные сугробы.
Продукты у бригады подошли к концу, когда ураган поднялся.
Такого коренные жители не припомнили.
На третий день условники топили снег и пили кипяток. Без сахара и заварки, чтоб как-то сохранить тепло в душах. Из продуктов не было ничего. Ураган не прекращался. Кончился запас дров. Выйти наружу – в тайгу, было безумием. Условники лежали в будке, прижавшись друг к другу. Коченели руки, ноги. Даже дышать стало больно. А ураган не слабел. Прошли еще два дня. Они стали пыткой. Замерзать заживо на глазах друг у друга, когда ничего невозможно предпринять.
На пятый день Умора потерял сознание. От холода. Начал бредить. Его тормошили, растерли, но ненадолго. С ним промучились долго. Потом завернули в телогрейки, рубахи. И ожил мужик. Уснул.
«Проснется, чтобы околеть», – думал тогда Мустанг. Он понимал, что в городе и леспромхозе теперь не до них. Кому нужны условники?
И вдруг, сорванная с крючка, распахнулась дверь будки. И в нее снежным сугробом влетел вбитый ураганом Сергеич.
Рюкзак на плечах тяжеленный. Лицо обморожено. Губы еле разодрал.
– Живы! Радость-то какая! А я вот вам харчей принес. И курева! Может, пригодится? – оставил рюкзак у стола. И, передохнув немного, ушел к себе – на заставу. С собакой, какая всегда ждала его снаружи.
Как дошел, ни слова не сказал, не обронил ни одной жалобы. Помог выжить всем условникам. Молча, по-мужски…
С того дня они до весны не виделись. И вздумал Мустанг удариться в бега. Но нарвался на пограничников. Те к Сергеичу привели. Тот узнал бригадира сразу. Понял, зачем тот ночью оказался в море на колхозном катере. Посадил Мустанга в машину, не связав. И повез… Не в милицию. На деляну. Когда открыл дверь машины, сказал:
– Уже поздно. Иди отдыхай. Постарайся выспаться. А когда освободишься, приходи. Помогу тебе устроиться рыбаком. Хорошо судно водишь. Но до моих ребят, помни, тебе далеко…
Мустанг смотрит вслед уходящему Сергеичу и молодому солдату.
Нет, никакой закон фартовых не заставит его поднять руку на этого человека…
Никто из условников о том неудавшемся побеге ничего не узнал.
Мустанг стыдился вспоминать о нем.
Условники тоже относились к Сергеичу по-особому. Не матерились при нем. Помнилось его доброе. Всегда. Они слышали разговор Мустанга с пограничником. И, если никто из них не боялся милиции, не верил ей, то Сергеичу доверяли.
– Пасти станет, – высунул голову из спального мешка Умора.
– Ладно бы только это, – вздохнул Мустанг и добавил тихо: – Не базлал ведь, просил. По-человечьи.
И услышал за спиной шорох. Оглянулся. Из куста багульника, как наказание, встал Леший. Он знал, что к этому вонючему кусту никогда не подойдет ни одна собака, даже по малой нужде. Его запах не любили таежные обитатели. Даже комары держались подальше. От вони багульника, хуже чем от ерша, болели головы у отпетых ханыг. С него лишь по жестоким холодам опадали листья, да и то не все. Он всегда был похож на дремучую голову неземного зверя.
В его утробе и отсиделся Леший, не замеченный никем. Знал, вонь багульника поглотит человечий запах и собака не сыщет его. Он свернулся клубком в корнях куста и остался незамеченным. Но видел и слышал все.
– Ну, что? Все по боку? И закон, и клятву фартовую? Наполохал кузнечик вас? – усмехался Леший.
Мустанг оглянулся. «Вот из-за этого рисковать головой? Мужиками? Пройдя зону, прожив здесь на деляне столько трудного? И все под хвост Лешему! Забыть о воле?» – мелькало в мозгу.
– Хиляй, кент, отсюда! Линяй сам! Не то помогу! Пока не вломил тебе на все рога! За форшманутого мы не в ответе! Колганы наши дороже твоей шкуры! Отваливай!
– Не духарись, праведник! Ты что есть? Дерьмо! Ссышь кузнечика! Какой ты фартовый, если на волю не смылся из фуфло? И за кентов не дыши. Они – сами за себя вякнут! Линяем, фартовые! Со мной! Ваш бугор – западло! Бздилогон. Фрайер! Кто со мной?
Условники не шевелились. Никто не двинулся с места. Мустанг оглядел Лешего. Теперь, когда условники предпочли остаться с ним, не лажанули, не поверили чужому пахану, бугор рассмеялся Лешему в лицо:
– Линяй, падла! Иначе разборку учиню. Сам! – двинулся на гостя с кулаками.
Тот отскочил в сторону и процедил сквозь зубы:
– Мы еще свидемся. Но кто разборку поведет, увидим…
Леший свернул в тайгу и тут же исчез в ней. Условники вскоре забыли о нем.
…А ночью ударил мороз. Он опустился на тайгу густым туманом. Белым, как саван. Он сковал тайгу, отнял последнее тепло у веток и стволов. Наделил их голоса звоном. А утром обрушился снегом. Крупным, щедрым…
Леший пробирался к морю. Там он рассчитывал на транспорт, чтобы перебраться на материк.
Холодно… Так холодно, что ноги немеют и отказываются слушаться. Еще бы! Сколько раз их промочил, со счету сбился. Туфли расклеются от сырости. Но до них ли теперь?
Пиджак не держит тепло. Да и как ему справиться, если с неба целые сугробы валят. С одной стороны, они – спасенье. Скрывают следы, мешают погоне, засадам. Но и Лешему нелегко.
Вот опять слышится команда псу:
– След! Вперед!
И Леший с головой ныряет под кочку. Сидит, скрутившись ужом на трясине. Хорошо, что по холодам она не имеет газов и не засасывает, не губит попавшую в нее жизнь.
– След! – слышится совсем рядом. Но на трясине вода замерзает не сразу. Гораздо позднее, чем в лужах, и не держит ничьих запахов.
– Ищи, – наступила на кочку нога человека.
Леший чуть не взвыл от боли и тяжести. Прямо на голову угодил, сапогом. И стоит на ней, как наказанье…
– Искать! – Леший задыхается в воде. Но наконец-то тяжесть исчезла. Леший с трудом вытягивает голову из плеч.
– Пронесло, – вздыхает с облегченьем, увидев, как человек с собакой удалились в обратном направлении.
Пахан вылезает из трясины мокрый, грязный. Встреться на пути настоящий болотный лешак, за родного брата признал бы фартового.
Не поверил бы никогда, что перед ним – человек…
А тот, махнув рукой на себя, в сумку смотрит. Нет, в нее вода не попала. Купюры сухие, целые.
Леший этому больше всего рад. Имеются деньги – дышать можно. И, виляя меж кустов, снова идет через тайгу. День, ночь, снова день…
Одежда на нем в панцирь смерзается. Обжигает, дерет тело. Леший торопится. Надо спешить до вечера выбраться к морю. Там отмыться, и прощай, Сахалин, навсегда…
Фартовый замечает, что руки и ноги его отчего-то дрожать начали.
«Экую парашу на колгане держал! Чуть не отбросил копыта. Верняк, приморил бы! Теперь вот клешни дергаются. Но ништяк, к морю прихиляю, все, как ветром, унесет. Линять надо! Шустрее! – подгоняет себя Леший. Но дрожь от ног перешла на тело. Неугомонная, злая. – Покемарить бы с часок. Да где? Накроют мусора, как падлу! И тут же в тюрягу – на досып. Мало не покажется. Хиляй, кент, шевелись, пока дышишь», – уговаривал самого себя. И снова – день, ночь…
Завалы и буреломы вскоре стали крутиться перед глазами. Голова раскалывалась от боли и холода. Хотелось пить. Но ни ручейка, ни лужицы на пути, лишь серая тайга и белый снег смешались в серое месиво.
Леший пошатнулся. Впервые почувствовал, что ему не хватает воздуха.
«Держись, пахан! Чтоб дышалось, надо линять, – уговаривает себя из последних сил. И идет от дерева к дереву, держась за стволы, едва передвигая ноги. – К морю надо, на юг. Сюда, чтоб не сбиться, – разглядывает мох на стволе и убеждает себя, что мох растет на северной стороне ствола, а ему нужно двигаться в обратном направлении. Нужно? А куда идет? Где море? – Сколько еще до моря?» – ухватился за лохматую еловую лапу. И удивился, откуда на ней огонь?
Хотел отойти, чтоб не сгореть. Упал. Ни ноги, ни руки не стали слушаться. В голове шум, в ушах звон, в груди жар…
«Баста! Расклеился. Надо покемарить малость. Сколько уже не спал?» – пытается вспомнить Леший, но не может. Проваливается, словно в яму на той трясине. Там много воды. Пей, сколько хочешь. Ну что за наказанье? Опять овчарка и, как назло, мочится в воду…
«Пить…» – сверлит мозг единственное желание. Вон кто-то льет воду из ведра. Рядом. А ему – не дотянуться.
– Пить, падлы! Я уплачу! Имею башли! Не морите, паскуды! Дайте пить! – кричит Леший, потеряв сознанье…
– Мама! Глянь! Черт! Живой черт! – метнулась от елки девушка и, обхватив мать за плечи, тащит подальше от увиденного.
– Где? – не верит женщина.
– Там, под елкой. Дергается, сдыхает, небось. Видно, и нечистые не вечны.
– Пошли глянем! – осмелела женщина и выглянула из-за кустов.
– Дурная! Кой это черт, коль ни хвоста, ни рогов нет. Мужик какой-то, завалящий. Может, этот, геолух? Глянь, как мается? Захворал. В болото влез где-то. Давай его в избу. Авось, выходим, с Божьей помощью.
Старая лесничиха ловко управлялась. Быстро вытряхнула Лешего из грязной одежонки. Истопленная баня исходила жаром.
– Ты сама его мыть будешь? – удивилась дочь.
– Помирает он, отходит уже. Вовсе худо ему. Грех – не отмыть. Кончается. Видать, не выходится, страдалец, – пожалела женщина. И, положив Лешего на лавку в бане, принялась отмывать, парить мужика.
Когда из-под слоя грязи появились татуировки, головой покачала укоризненно, велела дочери постирать одежду человека, да обувь его помыть и просушить.
Ивановна стегала Лешего березовым веником, вызывая кровь, замерзшую в глубине, к каждой клетке. Обдавала горяченной водой, пеленала в пушистую мыльную иену и снова обливала из таза обжигающей водой и парила, парила, истрепав на Лешем пяток веников.
До самой темноты вытаскивала из болезни за уши. Мочалкой терла так, как в жизни своей никогда не мылся сам.
– Пить, – просил пахан, шевельнув сухими губами.
– Пей, милок! – вливала малиновый чай.
– Пить! – То ли пот, то ли слезы катили по впалым щекам.
– Воды… – шептали блеклые губы…
Ивановна до утра вымоталась вконец. Леший стонал, падал с койки, бредил, кричал. Лесничиха терпеливо выхаживала его.
Фартовый то огнем горел, то дрожал, как в лихорадке. Он не понимал, где он, что с ним, не видел и не слышал никого.
– Кто он есть? Глянь в его сумку! Может, документы там? Не приведись, помрет. Хоть знать имя будем, кого поминать, – сказала лесничиха.
И Настенька, заглянув в сумку, ахнула:
– Деньги! Как много! Небось, миллион целый! Откуда? – удивилась девушка.
– Может, чей-то кассир иль инкассатор, заблукался в тайге. Оклемается, скажет…
– Давай его на печку, на лежанку положим. Там дух теплый. Глядишь, выправится быстрее, – предложила Ивановна и вместе с Настей живо уложила Лешего на печь, задернула лежанку занавеской.
– Ты, смотри, об нем ни слова никому, покуда не очухается. Помни, отца твоего, когда из ссылки сбежал, тоже люди спасли. Чужие. Пусть и скрытно, но цельных десять лет с ними жил. Своей смертью отошел. По-людски.
Этот – не беглый. Иначе, откуда б деньги взял? – говорила Ивановна.
– Может, вор какой или бандит? – поежилась Настя.
– С этого сморчка – бандит, как из моей задницы – соловей. Бандиты не хворают. Их и чума не берет. Потому, как они, родня черта. А этот брат сучка гнилого. Его в карман фартука положить можно и спину не сорвать, – смеялась Ивановна.
– Может, ждут его дома?
– Нехай живым воротится, – перекрестилась лесничиха и снова в этот день парила Лешего в бане. Тот под вечер глаза открывать стал. В них муть исчезать начала.
– Кто ты? – спросил хрипло лесничиху.
– Ивановна я, милок. Тайги тутошней хозяйка.
Леший подумал, что спит. Откуда рядом с ним возьмется баба? Разве за деньги в сиделки? Деньги! – вспомнилось ему мгновенно, и он попытался вскочить, чтобы узнать, где они?
– Ты про сумку не сумлевайся. Вот она. Рядом с тобой. Целехонькая! Сам наладься, выходись, – поняла баба.
– Где я?
– В дому, лесничьем.
– Кто меня сюда приморил?
– Мы с дочкой. Вдвух тебя принесли. Помирал ты совсем. В тайге. Как лешак. Дочка тебя за черта признала. Спужалась насмерть. Все думали, не воротим в свет. Ан оклемался. Все твои хвори в баньке выколотили. Вениками березовыми.
Леший глаза округлил. Бабы его мыли? Ну уж это слишком!
– Тут, кроме вас, возникает кто?
– Никого, голубчик, нету. Тайга здесь глухоманная, крутая! Потому и заблукался ты в ней, как козленок. И не мудро… Не первый и не последний.
Леший попытался встать, оглядеться. Ивановна, заметив это, помогла ему.
– Сядь, милок. Не то и вовсе отощаешь, – проворно накрыла на стол. И, не спрашивая согласия, легко, как пушинку, перенесла пахана к столу, усадила на лавку, укутала заботливо. На ноги надела теплые валенки.
Леший ошарашенно молчал. Не верилось, что выходили, отмыли, отстирали, кормят и… на халяву…
– Лопай, милок. Тебе нынче силенки возвернуть надо. Трескай, – подвинула миску борща, пахнувшего так знакомо и забыто.
– Как звать тебя, голубчик ты наш? Ить словно родной нам стал, сколько души вложили, чтоб твоя – В теле удержалась.
– Алешка я. Алексей, – вырвалось сквозь тугой комок, застрявший в горле.
– Господь тебе в помощь. Светлое имя. Как и у моего старика. Он давно уже помер, царствие ему небесное, – перекрестилась баба. И подала гостю ложку, хлеб, сметану.
– Мне б подальше от глаз. Я большие деньги выиграл. По облигации. И за мной следят теперь, соображаешь? Отнять хотят, – поняв, что заглянула баба в сумку, соврал Леший.
– Тут тебя не сыщет никто. Сюда нос не суют, – успокаивала Ивановна.
– Я в тайгу от них смотался, чтоб не убили…
– Знакомо дело. Кому помирать охота? Но тут, милок, деньги тебе не годятся. Сунь их на лежанку, чтоб не сопрели, и набирай силенок, не то вон какой тщедушный да хворый, – подвинула тарелку жареных грибов, пельмени, кружку парного молока.
– Старуха имеется у тебя? – спросила баба.
– Нет, – мотнул головой.
– Померла? А внучат много?
– Пока нет их. Но будут, – улыбнулся загадочно.
– Ты ешь! Заставь, приневоль себя. В еде – сила! – настаивала Ивановна.
Вечером она снова парила Лешего, поворачивала с боку на бок, как игрушечного. Потом, укутав в тулуп, принесла в избу.
– Ты что ж это? Уже и за мужика не держишь, ровно я – тряпка какая! – беззлобно ругался Леший, впервые млея, пусть от чужого, но домашнего тепла.
Ивановна, присев у стола перед керосинкой, вязала носки Лешему. Без просьб, без платы.
Настенька, заменив мать, заставляла пить чай с малиновым вареньем, с пирогами…
Леший немел от изумления.
«Узнай они, кто – я, в легашку побежали бы», – подумалось невольное.
– Ты, Алексей, к своим, небось, торопишься. Вот мой старик тоже хворать не любил. Беспокойный был человек, заботливый…
– Кем он был? – спросил Леший.
– Пасечником. Вот такой же махонький, верткий, как и ты. Даже лицом схожие. Имечко опять же одно. И руки он имел – чисто золотые. Все умел. Сам, ровно пчела, весь век трудился. А ссылки – не миновал. За то, что на войну не пошел. Отказался. Да и то верно. Раскулачили его родителей. Все нажитое отняли. А когда немец пришел, мой дед и сказал, что давно пора этих коммунистов, как трутней, перебить. За то, что они хозяев у земли отняли. Сказал у соседа. А власти прослышали. И пока немец к нам не нагрянул, в ссылку отправили, чтоб не помогали ворогу, помня старые счеты. В самую что ни на есть Сибирь загнали. Оттуда – на Сахалин увезли. Меня – в лесничихи определили, деда в Ногликах держали. Он оттуда сбежал. В землянке прятался, неподалеку. Но, грех сказать, за все годы никто его не искал, не спрашивал. Забыли, видать. И нас не дергали. Но и нынче за ссыльных считаемся. Видать, уж до смерти. Но тайге все одинаковы…
– Ты о чем молотишь, Ивановна? Южный Сахалин, то дурак секет, нашим аж после войны стал? И сослать вас могли лишь на северный Сахалин. Что-то ты не то несешь! – засомневался Леший.
– Я не путаю. А где же мы живем? Иль ты с луны свалился? Да тут же до Луполово пятьдесят верст, самый что ни на есть – север. Чуть выше и мыс Кайган. Эко далеко ты ходил, голубчик, – сокрушенно вздохнула баба, пожалев человека. И продолжила: – Потому мово Алешу не искали, что куда ни беги – едино северный Сахалин. Дальше семьи – не уйдет. Вот и не забрали его отсель.
– Луполово. – Леший похолодел. Выходит, сбился. Погони и болезнь вернули его обратно. И вместо Корсакова, материка, кентов своими ногами вернулся обратно, в ловушку, поближе к Охе. «Сколько же я шел? Ехал на лесовозе, потом от деляны Мустанга бежал несколько дней. А сколько? Легче счесть, сколько раз мог попасть в руки милиции. День казался ночью, спать было некогда и опасно. Шел к морю. А пришел в тайгу. Вернулся на свой след, в его начало. Значит, теперь уже хана, крышка. Не вернуться к кентам, не увидеть воли. Не слинять от судьбы. Такое бывает один раз и последний в жизни».
Леший сник. Зачем вернулся? Судьба посмеялась. Так надо. Коль в беспамятстве воротила – недаром. И вспомнилось…
– Конечно. Надо вытаскивать из тюряги кентов, Бурьяна! Они должны выйти на волю. А сам, как повезет…
Леший вздыхает тяжело, слышал, когда фартовый сбился с пути, с удачей разошлись его тропинки.
И смерть за плечами стоит. Как самый надежный стремач и кент…
«И почему не мне, а другому обломилась подарком судьбы эта баба? Почему не раньше, а теперь? Когда от жизни – одни медяки на сдачу остались. За что теперь? Зачем смущает душу мою? Почему так не хочется линять от нее? Ведь не своя… А тянет, ровно к родной. Остаться бы… Но кем я стану сам себе?
Любовником? Любить уж нечем. Кормильцем? Что смыслю в том? Фартовым? Кого трясти тут? Медведя иль рысь? Кому я нужен нынче? Вместо домового в избе никто держать не станет. А Лешего «малины» – сживет таежный лешак. У всякого своя судьба. И от нее не отвертишься, не уйдешь», – думает пахан.
– Вертаться вздумал? А к кому? – словно мысли прочла Ивановна и продолжила: – На что маета тебе? Живи с нами. Памятью старика. Вместе, оно все легше. И старость не гнет и сердце не ломит. Оставайся, Алексей, заместо хозяина. Мы приросли к тебе, как к своему. Глядишь, и ты со временем обыкнешься, признаешь нас, – просила лесничиха.
Леший не знал, куда девать себя. Не он, его просят остаться навсегда.
– Подумай, голубчик наш. В дому без мужика – не можно. Не подмогой, мы сами управляемся. Стань для души теплом. На что тебе одиночество? Ить даже звери семьями живут, нешто люди глупее их поделались?
– Не думал я о том, Ивановна. Такое враз не делают.
– А я – не тороплю. Выхаживайся. Приглядись, авось, и прикипишь к нам, – улыбалась доверчиво, светло.
– К сыну мне надо. Навестить хочу. Помочь на ноги встать. Чтоб свет увидел. А там… Может, и ворочусь. Старость доживать. Если не откажешь.
– А надолго ль к сыну? – глянула Ивановна с надеждой.
– Как получится. Но чем скорей к нему доберусь, тем шустрее вернусь. Может, месяц, а пофартит, за неделю управлюсь. И тогда – к тебе. Но насовсем, – решил что-то важное для себя. И наутро, одевшись в выстиранную, отглаженную одежду, подошел к Ивановне.
– Возьми вот деньги. За хлопоты твои, за работу, – подал запечатанную пачку полусотенных.
– За что забижаешь, Алексей? Разве худое в нас приметил? Иль нищие мы совсем? Не надо нам твоей подмоги. Коль сердца тут не оставляешь, живи памятью. А деньги – сыну отдай. Нам они без нужды, – отказалась Ивановна. И, оглядев Лешего, собравшегося в путь, руками всплеснула: – Кто ж зимой по тайге в такой одеже ходит? Ну-ка, ожди чуть, – и вскоре принесла теплую шапку, валенки и тулупчик покойного мужа. Велела надеть. А сама принялась набивать рюкзак продуктами. Хлеб и сало. Рыба и грибы. Вяленое мясо, копченую колбасу – ничего не забыла. Даже пару запасных рубашек положила. И носки, какие успела связать.
– Счастливого пути тебе, Алексей! Вертайся, коль сердце твое к нам потянет. Мы ждать тебя станем, – говорила Ивановна, проводив Лешего на дорогу, ведущую из тайги к людям.
Он пошел, не оглядываясь. С рюкзаком за плечами, со старой сумкой в руках. А она смотрела ему вслед, смахивая со щек стылые слезы. Чувствовала сердцем – не придет, не воротится никогда…
…В Оху Леший приехал вечером. Одетый, как лесник, он остался неузнанным. И все же на Сезонке его разглядела городская шпана. И рассказала пахану обо всех новостях.
– Линяй, пахан, скоро суд! Фортуне так кайфово! Смывайся! Пока не замели…
Но Леший три ночи не отходил от прокуратуры и увидел, как тюремная машина привезла на последнюю очную ставку кентов его «малины». Они сидели в освещенном кабинете второго этажа. Большом и белом, перед Кравцовой. Ближе всех к окну сидел Бурьян.
Леший смотрел на него с противоположного тротуара. Сердце заныло от боли… Может, и не удастся больше увидеться, увезут сына на дальняк. В ходку – на север. Выйдет ли он из нее на волю? А если нет? Как вспомнит он Лешего? Или забудет его навсегда?
Как много охраны у дверей. Сквозь них не прорваться. Они – не пропустят. И вдруг мысль осенила. Шальная, как пуля… И, оглядевшись по сторонам, выбрал момент. Нырнул за угол. Да, вот эта рябина. Она растет под боковым окном. Его не охраняют. Отсюда не ждут беды. Леший в три рывка оказался у окна. Вышиб его ногой. Рамы оказались незакрытыми и распахнулись, охнув слегка.
Леший выхватил из-за пояса нож. Метнулся к Ирине, успев крикнуть короткое:
– Линяйте, кенты!
Кравцова хотела нажать кнопку вызова. Но, увидев нож, закрыла лицо руками. Ей стало страшно. Она поняла, что ничего не успеет.
Леший не хотел терять время, отшвырнул Бурьяна к окну. Но тут же почувствовал удар по шее ладонью. Этому он учил лишь сына.
Нож, звенькнув, выпал из руки. Леший поднял, но был сбит с ног, и цепкая рука, резко вывернув кисть пахана, повернула нож в грудь Лешего, надавила резко, коротко.
– Не надо, Борис! – послышался пронзительный крик Кравцовой.
Леший лежал на полу, в расстегнутом тулупчике. Такой чужой и такой знакомый.
Бурьян отпрянул в ужасе. Неужели это он убил его?
Фартовые, собравшиеся выскочить в окно, онемело остановились. Леший оглядел всех, улыбаясь:
– А все же, ты – падла, мой сын! Только мы умеем мокрить отцов! За прошлое, убивая свое завтра, – сказал, пересиливая боль.
У Бурьяна дрожали руки. Он смотрел на фартовых, каких выталкивала из кабинета охрана, на бледную Кравцову, затихшего Лешего, чьи стекленеющие глаза смотрели в раскрытое настежь окно…
– Освобождается от уголовной ответственности за спасение жизни следователя городской прокуратуры Кравцовой при нападении на нее рецидивиста по кличке Леший, – слушал и не слышал, не вникал в смысл сказанного Бурьян. Да и не верил, что все это относится к нему.
– Идите, вы свободны! – открыл перед ним решетчатую дверь молодой конвоир.
– Свободен?! Но разве бывает такое? – глянул на свои руки человек. Ему показалось, что он снова ощутил тепло хлынувшей на них крови. Увидел глаза мертвого, кому воля – никогда не была свободой…





