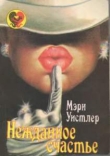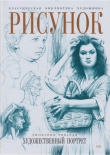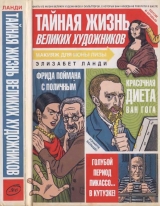
Текст книги "Тайная жизнь великих художников"
Автор книги: Элизабет Ланди
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
ДЖЕЙМС МАК-НЕЙЛ УИСТЛЕР

10 ИЮЛЯ 1834 – 17 ИЮЛЯ 1903
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК: РАК
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: АМЕРИКАНЕЦ
ПРИЗНАННЫЙ ШЕДЕВР: "КОМПОЗИЦИЯ В СЕРОМ И ЧЕРНОМ № 1 (ПОРТРЕТ МАТЕРИ)" (1871)
СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ: МАСЛО, ХОЛСТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ: ЭСТЕТИЗМ
КУДА ЗАЙТИ ПОСМОТРЕТЬ: МУЗЕЙ Д'ОРСЭ, ПАРИЖ
КРАСНОЕ СЛОВЦО: "ИСКУССТВО ДОЛЖНО ЖИТЬ САМО ПО СЕБЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВСЯКОЙ ЧЕПУХИ, НЕ СМЕШИВАЯСЬ С СОВЕРШЕННО ЧУЖДЫМИ ЕМУ ЧУВСТВАМИ ВРОДЕ БЛАГОЧЕСТИЯ, ЖАЛОСТИ, ЛЮБВИ, ПАТРИОТИЗМА И ВСЕГО ТАКОГО. ОНО ДОЛЖНО ВОСПРИНИМАТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО, ЗРЕНИЕМ И СЛУХОМ"[9]9
Из книги Джеймса Уистлера "Изящное искусство создавать себе врагов" (1890). (Прим. ред.)
[Закрыть].
Существовало два способа превратить Джеймса Мак-Нейла Уистлера в своего врага: игнорировать его или обращать на него внимание. Вы все равно оставались в проигрыше. Давние друзья и совершенные незнакомцы в равной степени не могли уберечься от вспышек его гнева. Озаглавивший свои мемуары "Изящное искусство создавать себе врагов", Уистлер нисколько не стеснялся своего умения ссориться. Он любил, чтобы скандалы с его участием раздувались в прессе, и имел дурную привычку таскать своих оппонентов в суд.
Самую жестокую битву Уистлер вел с отношением к искусству в викторианской Англии, с непременным желанием обнаружить в живописи некий позитивный смысл и мораль. Забавно, но его самая знаменитая картина, "Композиция в сером и черном № 1", более известная как "Портрет матери", прямо-таки нашпигована викторианскими смыслами: это икона культа материнства.
Как же взбесился бы Уистлер, прочти он это.
СЕРДИТЫЙ ХУДОЖНИК В ЮНОСТИ
Уистлер был сыном Джорджа Вашингтона Уистлера, инженера-железнодорожника, и Анны Мак-Нейл, набожной прихожанки епископальной церкви. В 1842 году семья выехала из Массачусетса в Россию, куда Джорджа пригласили, чтобы он принял участие в строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Рано проявив способности к рисованию, Уистлер начал учиться в Академии художеств, но слабое здоровье вынуждало его проводить по несколько месяцев в году в Англии. После внезапной смерти Джорджа Анна с обоими сыновьями вернулась в Соединенные Штаты, прервав, таким образом, художественное обучении Джеймса, затею, которую она считала дорогой, необязательной и не слишком богоугодной. Родственники, служившие по военной линии, взялись обеспечить ему иное поприще и пристроили юношу в военную академию Вест-Пойнт. Там он проболтался несколько лет; суровая дисциплина угнетала Джеймса, а проваленный экзамен по химии стал последней каплей. Как говаривал Уистлер, "если бы кремний оказался газом, я бы сейчас был генералом".
На следующий год, вопреки возражениям матери, Уистлер отбыл в Европу. В конце 1850-х он мотался между Парижем и Лондоном, сошелся с протоимпрессионистами и прерафаэлитами, отвергнув тогдашний мейнстрим – академическое искусство. Он писал портреты и среди них "Девушку в белом" – изображение молодой женщины в белом (разумеется) платье на фоне белой занавеси. В 1863 году Уистлер предложил эту картину на ежегодную выставку в парижском Салоне, где ее бесцеремонно забраковали – вместе с тремя тысячами других работ. Чтобы пристроить где-нибудь великое множество отвергнутых картин, французский император Наполеон III дозволил открыть "Салон отверженных" – площадку, где Эдуард Мане снискал свой первый скандальный успех "Завтраком на траве". "Девушка в белом" Уистлера привлекла почти столько же внимания, сколько и пасторальная сценка Мане, – неудивительно, ведь обе картины состоят в стилистическом родстве. Одинаково "грубая" манера письма и современный антураж были в те времена новинкой (и довольно возмутительной).
ДОРОГАЯ МАМОЧКА
А в Америке бушевала Гражданская война, и удача была не на стороне южан. Воссоединение Соединенных Штатов привело в отчаяние мать Уистлера, ярую сторонницу южан и разрыва с Севером; с горя дама села на корабль и отплыла в Англию. Тем временем ее сын наслаждался богемным образом жизни, включая ночные попойки и очаровательную сожительницу. Вообразите, какой шок он испытал, когда узнал, что Анна собирается жить в доме сына. Хотя жизнь Уистлера резко поскучнела, ему нравилось быть объектом нежной материнской заботы. Анна взяла на себя домашнее хозяйство, наводила порядок в его мастерской, приглашала друзей сына на ужин и за столом вела душеспасительные беседы о страшном вреде пьянства – например, с таким любителем выпить, как Данте Габриэль Россетти.
Однажды, когда Уистлера подвела модель, не явившись позировать, он взялся за мать. Сначала он ее поставил, но пожилой женщине было трудно удерживать эту позу; тогда Джеймс усадил ее и подставил под ноги скамеечку. Анна была одета, как обычно, в черное платье и белый кружевной чепец; в итоге картина получилась необычно монохромной – в различных тонах черного, серого и белого.
На этой картине Уистлер обрел свой стиль и творческую зрелость. Во-первых, он брал один или два цвета и работал с их оттенками. Во-вторых, он не снабжал картины сюжетом – просто изображал обстановку и персонажа. Уистлер не желал, чтобы его произведения возбуждали чувства; напротив, он призывал искусство быть независимым от всякой "ерунды" вроде "эмоций, которые искусству абсолютно чужды, – пылкости, жалости, любви, патриотизма и прочего в том же роде". А чтобы донести эту мысль до зрителей, он заимствовал названия для своих картин у музыкальных произведений – "симфония" или "ноктюрн", – подчеркивая то обстоятельство, что, как симфония не рассказывает историю, так и искусство не обязано это делать.
НОВОЕ ИСКУССТВО – И НОВЫЕ ИСКИ
Идеи Уистлера совпали с более общей тенденцией, вызревавшей в Европе. Суть ее сводилась к формуле "искусство для искусства". В результате родилось новое направление – эстетизм. Викторианская критика смотрела на художников-эстетов свысока, утверждая, что искусство должно обязательно чему-нибудь учить. Одним из наиболее выдающихся оппонентов эстетизма был Джон Рёскин, который поддерживал прерафаэлитов. Рёскину особенно не понравилась картина Уистлера "Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета", которая была написана в парке развлечений на Темзе, славившемся своими фейерверками. В своей статье 1877 года Рёскин ехидничал: "Вот уж не думал, что какой-то хлыщ запросит двести гиней за то, что вылил горшок краски публике на голову". Ну и ну!
Уистлер не замедлил подать на Рёскина в суд за клевету.
А заодно превратил судебное разбирательство дела "Уистлер против Рёскина" в дебаты об искусстве. Художник и критик один за другим представали перед присяжными, предлагая им поразмыслить о предназначении искусства и о том, что такое красота. Адвокат Рёскина норовил преуменьшить художественные способности Уистлера; узнав, что художник написал "Ноктюрн" всего за два дня, адвокат спросил: "И вы просите двести гиней за двухдневный труд?" – "Нет, – ответил Уистлер, – не за труд, но за то знание и умение, которые я приобрел, работая всю жизнь".
Присяжные признали Рёскина виновным в клевете, но в качестве компенсации присудили Уистлеру лишь один фартинг (четверть пенса). На карикатуре, появившейся в популярном издании, судья увещевал обе стороны: "Ай-яй-яй, критик, выбирайте выражения! Художник, глупенький, нашел, с чем в суд идти!"
КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Суд положил начало самому значительному периоду в жизни Уистлера. Теперь он устраивал воскресные завтраки, потчуя на американский манер блинчиками и яичницей таких английских знаменитостей, как Оскар Уайльд и Лили Лангтри, любовницу английского короля. Но у обидчивого Уистлера не получалось поддерживать длительные дружеские отношения. Завидуя популярности лекций, которые читал широкой публике Уайльд, Уистлер в 1885 году тоже выступил с лекцией. Называлась она просто – "Десять часов"[10]10
В это время лондонские проститутки, арестованные ночью, покидали тюрьму, уплатив залог. (Прим. перев.)
[Закрыть], и смысл этого выступления сводился к яростной критике Уайльда за "вульгаризацию" эстетизма. Отповедь Уайльда появилась в газете, и затем спор протекал в форме писем к редактору, причем с каждым разом послания становились все язвительнее.

СТРАННАЯ ПАРОЧКА: УИСТЛЕР БЫЛ ОТЪЯВЛЕННЫМ ГУЛЯКОЙ И ЛЮБИТЕЛЕМ НОЧНЫХ ПОПОЕК, НА КОТОРЫХ ВИСКИ ТЕКЛО РЕКОЙ; ЕГО МАТЬ АННА БЫЛА СУГУБО ДОБРОПОРЯДОЧНОЙ ДАМОЙ И НЕ РАЗ ЧИТАЛА МОРАЛЬ ДРУЗЬЯМ СЫНА О ВРЕДЕ ПЬЯНСТВА.
Пусть Уистлер и был заядлым спорщиком, никому не дававшим спуску, он все-таки сумел обрести личное счастье. Хотя и не сразу: после череды изматывающих романов с моделями он сближается с Беатрис Годвин, женой архитектора Э.У. Годвина. В 1886 году Годвин умер, и Беатрис, выдержав положенный викторианскими правилами срок вдовства, вышла замуж за Уистлера. И как в те годы, когда Анна заправляла его домом, в жизни Уистлера воцарились покой и стабильность. К сожалению, счастью этой пары был нанесен серьезный удар, когда в 1894 году у Беатрис диагностировали рак. Промучившись два года, она умерла. По словам друзей, Уистлер будто постарел в одночасье. Он продолжал сражаться: то затевал публичную склоку со своим бывшим учеником Уолтером Сикертом, то судился с заказчиками. Но силы убывали, а боевой дух слабел, и 17 июля 1903 года Уистлер умер.
ЗАМУСОЛЕННЫЙ ОБРАЗ
Передряги в творческой карьере сына напрямую коснулись портрета его матери. В 1870-х, в период тяжкого безденежья, он отдал его в залог, а вернуть смог только в 1888 году. Однако он сохранил за собой право выставлять картину; в 1883 году она появлялась на парижском Салоне и дважды в Соединенных Штатах. В 1891 году это полотно купило французское правительство для Люксембургского музея.
Останься "Композиция в сером и черном" висеть в парижском музее, мало кто в Соединенных Штатах проявил бы к ней интерес. Ситуацию изменил Альфред Барр, директор-основатель нью-йоркского Музея современного искусства. Барру пришла в голову блестящая идея: показать картину в Америке во времена Великой депрессии. (Возможно, он решил, что американцы в те трудные годы как никогда нуждаются в мамочках.) Музей рекламировал картину как воплощение материнского достоинства и терпения, и американская публика с радостью увидела в ней универсальную мать, похожую на всех матерей на свете. Картина объехала двенадцать городов, привлекая толпы зрителей, которых часто называли "благоговейными паломниками". (Бойскаутам было особенно рекомендовано посмотреть эту картину.) В последующие десятилетия этому полотну нашли множество применений в массовой культуре – от плакатов, призывающих не скупиться на военные облигации, до обложек "Ньюсуика" и "Нью-Йоркера". Картина и сегодня пользуется международной популярностью, о чем свидетельствуют поздравительные открытки ко Дню матери.
Уистлер был бы взбешен статусом иконы, который приобрела его работа. Наверняка он забросал бы гневными письмами редакторов и вчинял судебные иски, оспаривая интерпретацию своего искусства. Но в итоге этот неуживчивый художник совершил то, чего старательно избегал: создал произведение, нагруженное чувством, – вопреки самому себе.
(!) ОСТРЯКИ-ЭГОИСТЫ
Дружба таких записных остряков, как Оскар Уайльд и Уистлер, не могла не породить многочисленных анекдотов. Один из них появился на свет благодаря заметке в журнале "Панч", в которой, по воле автора, Уайльд и Уистлер обсуждали актрис. Уайльд немедленно отправил Уистлеру телеграмму: "В "Панче" засели дураки. Когда мы с тобой встречаемся, мы говорим только о нас и больше ни о ком". Уистлер телеграфировал ответ: "Нет, нет, Оскар, ты забыл. Когда мы с тобой встречаемся, мы говорим только обо мне и больше ни о ком".
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПАВЛИНЬЕЙ КОМНАТЫ
В ту эпоху художники – например, Уильям Моррис, – много занимались дизайном интерьеров. Уистлер декорировал только одно помещение – и результатом работы богатый заказчик остался страшно недоволен. Ф.Р. Лейланд попросил Уистлера изменить цветовое решение столовой: Лейланду хотелось, чтобы художник изобразил нечто похожее на его картину "Розовое и серебряное. Принцесса фарфорового царства". Уистлер же расширил проект, полностью изменив декор комнаты, украсив ее великолепными павлинами в насыщенных синих и золотых тонах.
Друзья художника пришли в восторг, как и пресса, однако заказчику не понравилось. Лейланда разозлило то обстоятельство, что Уистлер устраивал в столовой пиры для журналистов, но более всего заказчика разгневал перерасход средств, допущенный художником, и он отказался возместить потраченное. Уистлер согласился на меньший гонорар, но увековечил разногласия, добавив еще одну сцену: драку двух павлинов, причем у более агрессивной птицы на груди белые перья – намек на белые рубашки с жабо, которые носил Лейланд.
К счастью, удрученный заказчик не стал переделывать комнату, оставив все как было. В 1904 году американский коллекционер Чарльз Ланг Фрир выкупил комнату, которую аккуратно разобрали и снова собрали в детройтском доме Фрира. Сейчас "Павлинья комната" находится в Вашингтоне, в Галерее искусств Фрира.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ВАЛЬПАРАИСО
Год 1865-й выдался самым причудливым в жизни Уистлера. Началось с того, что Джона О’Лири, старинного приятеля, с которым художник был дружен в Париже, арестовали за сотрудничество с Братством ирландских республиканцев, организацией, поставившей целью свергнуть британское правление в Ирландии. Похоже, Уистлер опасался, что О’Лири впутает и его в это дело, – возможно, за помощь в сборе пожертвований среди американцев, сочувствующих ирландским патриотам, хотя никаких документальных свидетельств подобной деятельности Уистлера не обнаружилось.
Уистлер сбежал, и не куда-нибудь, а в Южную Америку; точнее, в чилийский город Вальпараисо, где провел несколько месяцев. Решив, что уже можно возвращаться в Англию, Уистлер на обратном пути затеял потасовку с чернокожим гаитянином, который назвал художника "южанином", усмотрев в его поведении признаки расизма. На этом беды Уистлера не закончились: на вокзале в Лондоне его встречал разъяренный муж дамы, которую художник соблазнил по пути в Чили. Уистлеру тогда изрядно досталось.
ЭДГАР ДЕГА

19 ИЮЛЯ 1834 – 27 СЕНТЯБРЯ 1917
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК: РАК
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: ФРАНЦУЗ
ПРИЗНАННЫЙ ШЕДЕВР: ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛАСС (1874)
СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ: МАСЛО, ХОЛСТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ: ИМПРЕССИОНИЗМ
КУДА ЗАЙТИ ПОСМОТРЕТЬ: МУЗЕИ Д’ОРСЭ, ПАРИЖ
КРАСНОЕ СЛОВЦО: "НЕТ ИСКУССТВА МЕНЕЕ СПОНТАННОГО, ЧЕМ У МЕНЯ".
В 1870-х авангардные парижские художники были одержимы работой на пленэре – на улицах и на природе они писали маслом прямо с натуры. Для Камиля Писсарро и Альфреда Сислея пленэр стал пунктиком; Клод Моне целыми днями бродил с мольбертом в сельской местности; и даже убежденного домоседа Эдуарда Мане видели иногда в парке с палитрой в руке.
Эдгару Дега все это было решительно не нужно. Его нисколько не занимали ни пленер, ни пейзажи, ни передача на холсте тончайших изменений в атмосфере. "Будь я в правительстве, посылал бы жандармов приглядывать за людьми, которые пишут пейзажи с натуры", – ворчал он. Его друг Мане представлял Дега новым знакомым так: "Он пишет с натуры – кафе!"
Дега не желал иметь ничего общего со многими основными постулатами импрессионизма (это термин он ненавидел), и все же помогал создавать это направление в искусстве, организуя потрясавшие основы выставки, благодаря которым общество наконец обратило пристальное внимание на импрессионистов. Возможно, он и не хотел быть импрессионистом, но в историю вошел представителем именно этого движения.
ПОТАНЦУЕМ?
Илер Жермен Эдгар Дега родился в семье, члены которой расходились во мнение о том, как пишется их фамилия. Некоторые наиболее амбициозные родственники называли себя де Га на аристократический манер. Что же, мечтать не вредно. Но подлинное написание было более приземленным – Дега. Впрочем, богатством и властью они все-таки обладали: отцовская семья владела банком, а материнская управляла империей по торговле хлопком в Нью-Орлеане. Юного Дега готовили к карьере юриста, но он переключился на искусство, поступив в Школу изящных искусств, откуда вышел традиционным академическим живописцем.
Так кто же указал ему путь в импрессионизм? Эдуард Мане, кто же еще. Они познакомились в Лувре в 1861 году и сразу подружились. Бунтарская карьера Мане была уже в полном расцвете, и Дега непосредственно наблюдал, как Мане лихо обращается с творчеством старых мастеров, например, в своей картине "Олимпия".
Как и у всех прочих в его поколении, в жизнь Дега ворвалась Франко-прусская война. Он вступил в Национальную гвардию и во время военных действий защищал французскую столицу. Следующей весной, стремясь забыть черные дни войны и гражданских волнений, парижане бросились на поиски удовольствий, и Дега сделался завсегдатаем Оперы, где светские мужчины разглядывали чуть ли не в лупу хорошеньких танцовщиц. Дега был очарован как пышными постановками, так и грязным, тесным закулисьем, а особенно балетными классами, битком набитыми совсем маленькими девочками и девочками– подростками – "крысками", как их называли в театре.
Собственный стиль у Дега появился тогда, когда он взялся за танцевальную тему. В его "Танцевальном классе" (1874–1875) пожилой учитель, опираясь на длинную трость, наблюдает за репетицией группы девочек, прочие же ученицы в это время растягиваются, зевают или чешутся. Дега наслаждался контрастом между изяществом танцовщицы на сцене и ее обликом на отдыхе – неуклюжей, поникшей, усталой девушки. В манере, ставшей фирменной, он мастерски передает ощущение пространства: изображение заключено в строгие рамки, и фигуры некоторых танцовщиц как бы обрезаны краями холста, что только добавляет картине выразительности. Столь же типичными для него приемами Дега вызывает у зрителя иллюзию нечаянно подсмотренной сценки, словно художник писал картину с натуры; на самом деле композиция была тщательно выстроена, а танцовщицы по отдельности позировали ему в мастерской. "Не существует менее спонтанного искусства, чем мое", – признавался Дега.
ЗАПОЗДАЛЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Вернувшись из поездки в Нью-Орлеан, которую он совершил в 1872–1873 годах, Дега застал своих друзей Моне, Писсарро, Ренуара, Сислея и Моризо, горячо обсуждающими вопрос, как им избавиться от диктата официального Салона. Дега сразу принял сторону бунтовщиков, чем их слегка удивил: сам он к тому времени уже шесть раз выставлялся в Салоне, и его работы неплохо раскупались. Однако у Дега развилась глубокая неприязнь – почти ненависть – к одобренному государством искусству. Он чувствовал, что заигрывание с Академией заведет его в тупик, и он стал движущей силой первой независимой выставки. Когда в апреле 1874 года выставку открыли, любопытствующая публика заполнила зал – и в залах зазвучал громкий смех. Люди называли художников безнадежными сумасшедшими, искренне не понимая искусства, которое не имеет сюжета, ничему не учит в нравственном смысле и не воспроизводит действительность тем способом, к которому они привыкли. На Дега нападали особо за "неумение" рисовать и "нелепые" композиции.
Это не остановило группу друзей, которых вскоре нарекут "импрессионистами" – "впечатлителями". На протяжении последующих двенадцати лет Дега участвовал в организации шести из семи выставок, несмотря на частые споры по поводу того, кого следует выставлять, а кого нет. На шестой выставке, в 1881 году, он показал одну из своих наиболее необычных работ – скульптуру "Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица".
Позировала Дега "крыска" Мари ван Гетен; фигура вылеплена из воска в две трети роста девочки. Она стоит в четвертой балетной позиции с вывернутыми ступнями, ладони сцеплены за спиной, подбородок задран. Дега нарядил скульптуру в настоящий лиф, газовую пачку и атласную ленту, сшитые для него кукольником, а на голову водрузил парик из настоящих волос. Затем он облил все это горячим воском, под которым одежда и волосы затвердели, но по-прежнему обнаруживали свою текстуру. Публика была озадачена, но и ошеломлена: ничего подобного она прежде не видела. Для них "скульптура" означала отсылку к классическому образцу и тонкую отделку, но не эту чудовищную смесь – тощая девочка-подросток, изваянная из неподобающих материалов. Некоторые критики объявили девочку "зверьком" и прокляли Дега за то, что он насаждает уродство; другие утвержали, что Дега продемонстрировал "единственный подлинно современный подход к скульптуре".
Последняя выставка импрессионистов состоялась в 1886 году, но к тому времени их картины охотно раскупались коллекционерами, как европейскими, так и североамериканскими. В 1890-х у Дега начало ухудшаться зрение, а в 1908 году он совсем ослеп. Кроме того, он почти оглох – что ж, по крайней мере он не слышал грохота немецких пушек на окраинах Парижа в 1914 году. Когда в 1917 году в возрасте восьмидесяти трех лет Дега скончался, руководство Академии почтило его память надгробной речью.
Несмотря на все пертурбации в современном искусстве, работы Дега никогда не утрачивали популярности. Его странная скульптура юной балерины заметно повлияла на скульпторов двадцатого века, подхвативших идею комбинации различных текстур и средств изображения. В 1920-е годы по оригинальной восковой фигуре отлили двадцать восемь бронзовых копий, хотя многие настаивали на том, что Дега не одобрил бы "штамповку" его работы. Тем не менее бронзовые девочки пользуются огромной популярностью, на недавних аукционах их продавали за 10 миллионов долларов за штуку.
(!) КУДА ПОДЕВАЛАСЬ "ПЛОЩАДЬ"?
Почти пятьдесят лет один из шедевров Дега, "Площадь Согласия", студенты искусствоведческих факультетов изучали лишь по черно-белой репродукции. Оригинал картины был утерян во Вторую мировую войну, и никто не знал, что с ним стало. То есть никто, кроме избранных советских чиновников от искусства. В конце войны официальной советской политикой было изымать у немцев произведения искусства. Картина Дега оказалась в запасниках Эрмитажа в Санкт-Петербурге, но чиновники заявляли, что им неизвестно местонахождение работы.
И лишь после того, как рухнул СССР, картина "нашлась". Под давлением Германии и других стран Запада русские музеи открыли свои архивы, и в 1995 году шедевр Дега впервые после Второй мировой войны был явлен публике. Эрмитаж вступил в переговоры с наследниками прежних владельцев картины, однако на данный момент "Площадь Согласия" находится в России.
СРОДСТВО ДУШ
Мэри Кассат, дочь преуспевающего бизнесмена из Питтсбурга, познакомилась с Дега в 1877 году, и вскоре они начали тесно общаться; вместе делали гравюры, рисовали друг друга за работой. Их отношения были длительными и нелегкими; периодически Дега отпускал едкое замечание, обижавшее Кассат, и они месяцами не разговаривали, пока какая-нибудь картина опять не сближала их. Естественно, ходили слухи, что они – более чем друзья, но Кассат была слишком строга в вопросах морали и общественных приличий, чтобы стать любовницей художника. Что касается Дега, он однажды сказал своему другу: "Я бы женился на ней, но не смог бы заниматься с ней любовью". Странное заявление, но, возможно, оно указывает на сродство душ – то взаимное притяжение, которое оба не желали усложнять сексом.
НЕ ТО ЧТОБЫ ТАМ БЫЛО ЧТО-ТО ТАКОЕ
Кроме длительной дружбы с Мэри Кассат, у Дега не было сколько-нибудь тесных отношений с женщинами. Нам ничего не известно ни о подружках, ни о любовницах, и Дега никогда не был женат. Причины такого воздержания порождали жаркие дебаты еще при жизни Дега, друзья любили строить домыслы и догадки относительно его сексуальной жизни (или, скорее, отсутствия оной). Предполагали разное: женоненавистничество, гомосексуализм или импотенцию.
Сам Дега просто объяснял свое нежелание жениться. "Ну зачем мне жена? – сказал он однажды. – Представьте, я целый день корплю в мастерской, а вечером кто-то заходит туда, чтобы позвать меня к ужину, и мимоходом замечает: "Милая картинка, дорогой"".
ДА ОТВЕРНИСЬ ЖЕ!
Дега терпеть не мог женщин не первой молодости, упорно одевавшихся, как юные девушки. Однажды на званом ужине его посадили рядом с дамой в летах, облаченной в платье с оголенными плечами и глубочайшим декольте. Оторопевший Дега не мог отвести глаз от этого зрелища. Дама заметила его пристальное внимание и, внезапно повернувшись к художнику, спросила: "Вы меня разглядываете?" – "Ах, мадам, – ответил он, – я бы дорого дал, чтобы у меня был выбор".
КОДАК-ШМОДАК
В 1890-е годы Дега увлекся фотографией и немедленно стал заставлять всех своих знакомых позировать для него. Друг семьи вспоминает одну вечеринку, испорченную одержимостью Дега: "Он расхаживал перед нами, носился по всей комнате, переставлял лампы, менял отражатели, пробовал осветить наши ноги, опуская лампы на пол". Жертвы Дега были вынуждены замирать в срежиссированных позах минуты на две, и к концу вечера всем уже до смерти надоела эта забава с камерой – всем, кроме Дега. "В половине двенадцатого все разошлись. Дега нес свою камеру, гордый, как дитя с игрушечным ружьем на плече".

ОТОРОПЕВ ОТ ЧЕРЕСЧУР ОТКРОВЕННОГО ДЕКОЛЬТЕ ПОЖИЛОЙ ДАМЫ НА ЗВАНОМ УЖИНЕ, ДЕГА НЕВОЛЬНО УСТАВИЛСЯ НА НЕЕ. "АХ, МАДАМ, – СКАЗАЛ ОН, – Я БЫ ДОРОГО ДАЛ, ЧТОБЫ У МЕНЯ БЫЛ ВЫБОР".