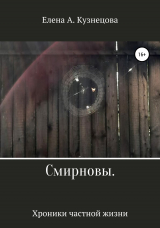
Текст книги "Смирновы. Хроники частной жизни"
Автор книги: Елена Кузнецова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Глава 2.
2.1.Правду говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. Ждала Матрена прибыли, а сплошной убыток вышел. Только в смирновском доме прижилась и временную регистрацию получила, как увезли Мишку в медицинском фургоне. Уехал целым человеком, вернулся инвалидом, обе ноги отрезали. Сказали, ели спасли, еще немного – и вышло бы общее заражение крови, а от него лекарства пока не придумано.
Все случилось быстро да не сразу. Сын давно страдал ногами, но к врачам не шел, заливал недомогание водочкой. Стопы у него отекали, кожа лопалась и воспалялась. Матрена заваривала ему лечебную траву зверобой, но тот выплескивал отвар в поганое ведро и ругался.
Шурка причиной болезни считала то, что муж отродясь не моет ног.
– Вот и гниешь заживо теперь, – с некоторым даже злорадством сообщала кряхтящему на кровати Мишке. И шла на работу. Муж кидал в нее подушкой, но промахивался, а она и не поднимала.
Шурка вообще волю взяла. Сашку сдала в круглосуточные ясли. Дуняша Лукиничева устроила ее работать посменно на текстильную фабрику Арманд. И пойди Шурке возрази, если всю семью кормит – Мишка-то давно нигде не работает.
Участковый Петр Жемочкин около них все вился ужом. Ему коли не прописка, то алкоголизм и тунеядство на территории. Приходил, сидел на кухне, пугал сына:
– За ум не возьмешься, выселю на сто первый километр. Поедешь в Александров прохлаждаться.
(Историческое образование у Петьки было, высшее. Случаем попал в милицию, да и прижился там.)
– А и в Александрове люди живут, – хорохорился Мишка после ухода участкового.
Дохорохорился. Стал как-то под утро орать не переставая. Пришлось бежать на почту к телефону-автомату, неотложку вызывать. Врачиха глянула на сочащиеся гноем ступни, побелела вся и говорит:
– Срочно в больницу! Гангрена обеих ног.
Матрена волком взвыла. А Шурке хоть бы хны – хвостом махнула и на работу ускакала.
…
При выписке докторица молодая строго-настрого приказала – не пить, не курить.
– Это вас до могилы доведет. Вся ваша болезнь от курения, – выговаривала она Мишке.
Тот сидел, присмиревший, в дерматиновом кресле-каталке времен то ли гражданской, то ли первой мировой войны, свесив обмотанные бинтами культи, кивал согласно. Но прибыв домой в том же облупленном фургоне с красным крестом, первым делом затребовал водки, а также цигарку зажженную подать.
И понеслось пуще прежнего.
А Матрена нянькой сделалась при возмужалом своем дураке.
Зато Жемочкин от них отстал, хоть должность обязывала к противному. Но даже ему не пришло на ум перевоспитывать безногого калеку, призывая его встать в строй и приносить пользу обществу, как это сделали писатель Николай Островский и летчик Алексей Маресьев. Все-таки участковый по опыту жизни склонялся более к критическому реализму, нежели социалистическому.
Зиму кое-как перезимовали, а к лету Мишка постепенно освоил способ передвижения на тележке с колесиками. Таким образом он укатывался аж в далекое Гущино, где посещал магазины и распивочные.
В заведениях скандалил и хвастался, назывался инвалидом войны.
– Ты вон целый, а я на фронте ноги оставил, – шумел, если кто пытался его вразумить.
Постепенно и сам в свои подвиги уверовал.
– Героя не уважаешь, – выговаривал он Шурке, которая приноровилась привозить его домой в древней детской коляске на высоких колесах, – а я за тебя, дуру, кровь свою проливал.
Шурка внимания на его речи не обращала, а случайные прохожие оборачивались, сочувствовали.
Матрена из сил выбивалась лежачего обслуживать, но с езжачим еще хуже стало. Мыть, кормить, горшки выносить, – куда ни шло, а теперь еще и обстирывать постоянно приходилось. Поскольку с посещением уборных Мишка затруднялся, то штанов особо не жалел.
Иногда она в тайной глубине жалела, что сын не отдал концы в больнице. И первый раз, и особенно второй. Хоть и живая душа, а такой груз тяжелый – тащи, Матрена, пока не надорвешься. Где тут на два дома разрываться!
Она так и сказала Владимиру с Лидией, когда они зашли передать «больному» кое-какие вещи и продукты:
– Готовить Савельичу буду и стирать тоже. Приберусь немного, полы помою, когда смогу. А более никак. Уж извините.
– Чего там, Матрена Ивановна, – махнул рукой Владимир, – мы понимаем, не в обиде.
– Хотим вам помочь, – согласно покивала пучком Лидия. – Мишу в санаторий отправить. Он подлечится, а вы отдохнете.
– Нет-нет, – испугалась Матрена, – не надо его никуда отправлять, у него дома санаторий. Шура зарплату хорошую получает, а я хожу за ним, как чужие ходить не будут.
– Ну, как знаете, – пожал плечами Владимир и Лидия следом за ним тоже плечами пожала. Сели в свою «Победу» и укатили, только пыль столбом, да от папирос дым коромыслом.
– От курения и помереть недолго, – сердито сказала Матрена вслед. Не то чтобы об их здоровье беспокоилась, просто разозлили они ее. Сытые, одетые, разговаривают свысока.
Владимир впоследствии, будучи нестарых еще лет, скончался от инсульта, его жена намного пережила его, но умерла от канцера легких. Правда, Матрены уже тоже на свете не было, и не могла она своей прозорливости порадоваться.
2.2.Николай Савельевич, когда Матрена съехала, нисколько о том не пожалел. Приободрился, распрямился, начал включать радио и достал из книжного шкафа «Детей капитана Гранта».
В этом году ему исполнялось круглых шестьдесят пять, и он начинал подумывать о том, чтобы уйти на покой. Годы берут свое, и ездить каждодневно в Москву и обратно становится трудновато.
Однако он плохо представлял, чем на покое следует заниматься. Может, прав Колос и надо приличную женщину найти, чтобы согрела его годы? Кандидатуры имеются, далеко ходить не надо.
Взять хотя бы библиотекаршу Джульетту Валерьевну, интеллигентную даму. Подходит по всем статьям, если бы не мама Виолетта, которую немолодая Джульетта всю жизнь нянчит. Соседка Татьяна была хоть куда, нынче больно богомольная сделалась. Замотает голову, глаза опустит, юбка длинная пол метет – и пробирается по стеночке, бочком, бочком. Разговаривает шепотом. Варвара Морковкина женщина симпатичная, но чересчур молода для старого пня.
Мысли эти утомляли, и он оставлял их на потом, как ненужный хлам, что жалко выбросить. Устраивался в кресле поудобнее, включал радио, открывал потрепанный том Жюль Верна.
«Слишком редко доходят мольбы до подножия трона, и кажется, что над входом царских дворцов начертаны слова, которые англичане помещают у штурвала своих кораблей: „Passengers are requested not to speak to the man at the wheel“ (пассажиров просят не разговаривать с рулевым)». – Шевеля губами, прочитывал он и удивлялся тому, насколько верно сказано.
…
Лето стремительно катилось к концу. Давно умолкли соловьи. Зелень, хоть и питаемая постоянными дождями, выцветала, изнашивалась. Но высокая трава стояла вровень с поясом. У дальнего забора склонив, отяжелевшие головы, ярко цвели золотые шары.
Тропинки чавкали грязью, бочка переливалась через край, лопушиный лес обдавал обильными брызгами. Желоба, забитые хвоей и опавшими листьями, не удерживали воду, роняли струи на голову проходящему. Николай Савельевич, возвращаясь из места отдохновения, где некоторое время обозревал окрестности через кокетливое отверстие-сердечко, привычно наказал себе:
– Желоба прочистить пора!
Недавно его проводили на заслуженный отдых, вручили грамоту и наручные часы «Рекорд», и он несколько маялся, не понимая, чем целые дни себя занимать. Дочитал «Детей капитана Гранта» с превеликим удовольствием, радуясь тому, что «яхта казалась доверху нагруженной счастьем. На борту больше не было тайн…» Книга еще и оттого отзывалась в его душе, что Милице нравился фильм, по ней поставленный. Будучи в хорошем настроении, она напевала насупленному мужу:
Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка – это флаг корабля.
Капитан, капитан, подтянитесь –
Только смелым покоряются моря!
И Николай Савельевич послушно улыбался драгоценной женушке.
Но сколько других книг он ни пытался начинать, не мог увлечься сюжетом, быстро уставал, и его начинало клонить в сон. Так и не составил он себе привычки к преполезнейшему занятию – чтению.
Сыновья бывали редко, хотя регулярно звонили по телефону – черный аппарат повесили на капитальной стене рядом с лестницей на второй этаж. Володя обеспечил, постарался для отца.
Обсуждать пустяки по телефону Николай Савельевич не привык, потому разговоры были короткие.
Часто спрашивал Николашу, когда они соберутся подарить ему внука. Рассуждал об именах для будущих деток.
– Николаем не крестите, – говаривал он. – Путаться будем. Лучше Савелием, в честь деда, он могучий был человек. А если Савелий для вас устарелое имя, тогда пусть будет Владимир, как дядька его, а также вождь мировой революции.
«А девочку можно Милицей в память бабушки назвать», – каждый раз хотел добавить, но останавливался.
– Берегите себя, обо мне не беспокойтесь, – закруглял он разговор.
Сыновья все звали его в город, погостить или на постоянное жительство, но Николай Савельевич неизменно отговаривался. Чувства к Москве были противоречивы. С одной стороны, он оставался в душе горожанином. Не хватало ему величавых зданий, стройных перспектив, уютных двориков, суеты, переменчивости, даже толпы незнакомой, чтобы ото всех затеряться. С другой – смотрел на столицу с опаской и недоверием. Не мог забыть, как бежали оттуда в смертном страхе. Мезня стала убежищем. Нельзя ее бросать теперь. Мало ли что.
– Мне и дома хорошо, – отвечал приглашающим.
…
Поначалу он частенько выезжал в город, шел мимо родимого почтамта к Кремлю, или на Сретенку, или налево, в Сокольники мимо Кедровской церкви к парку. Сидел там на лавочке, читал газеты, слушал духовой оркестр, что вальсы да марши наигрывал. Вальсы пели о чувствах, марши трубили о долге, напоминали про мужские обязанности.
Но как-то однажды на Рождественском бульваре стало ему нехорошо. Голова закружилась, присел на скамейку, откинулся на твердую спинку… И вот уже его трясет за плечо гражданин, немолодой, усатый, в форме с артиллерийскими нашивками и погонами капитана:
– Товарищ! Очнитесь! Вам плохо? Надо доктора позвать?
Еле отбился от заботливого капитана, тот все норовил проводить до ближайшей медчасти. А то и неотложку вызвать.
Николай Савельевич отговорился тем, что задремал. Капитан не поверил, но торопился по своим надобностям. Уходя, велел за здоровьем следить. Пальцем погрозил – тоже, командир нашелся.
– Капитан, капитан, улыбнитесь, – сказал себе Николай Савельевич, и это придало немного сил.
Первым делом он проверил паспорт – тот лежал в нагрудном кармане. Паспорт был новенький, солидный, с фотографией. Николай Савельевич, как его получил, всегда носил при себе на случай проверки. Или, не дай Бог, что случись, чтобы сразу личность установить. Удобный документ! Там и прописка – что имеет право в режимном месте пребывать, и род занятий указан.
Внезапно припомнилось одно давнее наблюдение, как железнодорожная милиция проверяла прибывшего в столицу колхозника. Двое серьезных парней его бумаги изучали, а служебная собака мужика сторожила – сидела рядом, желтых глаз с него не сводила. Тот пошелохнуться боялся. Стоял смирно, руки по швам.
Наконец милиционеры взяли под козырек и вернули владельцу потрепанные справки.
– Знатная у вас собачка, – искательно выговорил колхозник, пожилой, с вещмешком, в неизбывно грязных кирзовых сапогах.
– Знатная, – согласился тот, что держал зверя на поводке, – Франц Максимилиан Август барон фон дер Тренц по паспорту.
Уже и след их простыл, и милиции, и иностранного барона с желтым по-нечеловечески пристальным взглядом, а колхозник все стоял на том же месте. Качал головой, бормотал:
– Вишь ты! Фон барон! У людей паспорта нет, а у него, стало быть, есть. Вона какие в мире чудеса творятся…
Николай Савельевич отдохнул еще немного, после встал да побрел к площади трех вокзалов. Пошел мимо Сретенских ворот, бывшего Храма Успения Богородицы, ныне Музея советской Арктики, Последнего переулка, всегда тайно манившего его своим названием.
Прошел родные переулки: Ащеулов, Луков, Просвирин, пришел к Храму Троицы Живоначальной. Там барабанов с куполами не осталось, снесли подчистую, надстроили этаж, пользовали под казенное учреждение. Но полюбовался на фигурную кладку, плавные дуги закомар, приземистую устойчивость здания. Сухаревку миновал без остановки, на месте башни сновали машины, и сама площадь именовалась Колхозною.
Садовое кольцо переиначили, заставив большими неуклюжими строениями. Зато Шереметьевский странноприимный дом все так же раскрывал крылья широкой колоннады. Там расположилась больница Скорой помощи имени Склифосовского. Тоже приют скорбей.
Николай Савельич поежился и заторопился вниз по Большой Спасской. Что тянуть? Все, что хотел, повидал, попрощался.
…
После того он удаляться от дома не рисковал, боялся. Сыновья чаще бывать стали, чуть ли не каждое воскресенье, то один приедет, то другой. Ненадолго, но навещали, гостинцы привозили.
Коля Храмцов, Афанасия Хромова сын, зачастил из Гущина своего. (Храмцовым звался он по жене, чтобы не связывали его с отцовской фамилией, в Мезне и окрестностях чересчур известной.)
– Вот, оказия зайти вышла по отчаянию, – говаривал он.
Это он старинное паче чаяния в шутку на другой лад переиначивал.
Распивал чаи подолгу, беседовал обо всем. Поддерживал родственным теплом.
Мезенские обыватели также не оставляли Николая Савельевича вниманием, принимали в нем участие. Заходила председатель уличного комитета Жанна, уговаривала больше посвящать себя общественной жизни, следить за порядком на улице, отчитывать соседей за неправильное поведение. Он отговорился самочувствием, но обещал подумать.
Здоровье не улучшалось – кружилась голова, слабели ноги, кололо сердце, болела грудь – не вздохнуть. Однажды утром, резко встав с кровати, чуть не грохнулся без сознания на пол. Присел на краешек, потом прилег, долго пребывал в тягостной полуобморочной слабости. Испугался, конечно. Сходил в поликлинику, к молодой докторице. Свежеиспеченная эскулапша потыкала его унылую спину и впалую грудь холодным фонендоскопом, пожала плечами под белым халатом:
– Что вы хотите? Возраст. Больше гулять. Спиртного, табака не употреблять. Ландышевые капли в аптеке купите.
А когда он пожаловался на бессонницу, добавила:
– На работу же вам, дедушка, не ходить. Днем досыпайте.
– Какой я тебе дедушка, у меня имя есть, – хотел возмутиться Николай Савельевич, но промолчал. Шел из поликлиники, словно побитый пес, поджавши хвост. Ощутил себя обломком прежних дней, не пошедшим вовремя ко дну. И вот болтается по житейским волнам, мешает важным судоходным делам. А ему гудят, – тони давай быстрей, не путайся под ногами. Понятное дело, что в тот вечер он употребил, даже злоупотребил, хотя врачиха запретила. Потом сожалел о своей невыдержанности.
Вечерние посиделки с Колосом как-то сами собой сошли на нет. Иногда тот заглядывал в гости, они выпивали по рюмочке-другой, но к большему не тянулись.
Исай Абрамович зазывал на обед по выходным. Софа подавала куриную домашнюю лапшу и рыбу фиш, а на десерт – яблочный штрудель, пальчики оближешь. Но Николай Савельевич присутствием аппетита не отличался. Посидел раз-другой, а после все отговаривался – то сын приезжает, то самого дела требуют. Так и перестал соседей регулярно навещать.
Тяжело ему стало разговаривать с посторонними. Общался дни напролет лишь с Милушкой. Засыпая, с ней прощался. Но и во сне часто они встречались, гуляли по незнакомым местам.
Просыпаясь, приветствовал жену «добрым утром». Не спеша вставал, умывался, одевался. Пил чай, завтракал, чем Бог послал, а точнее – тем, что Матрена, по ее выражению, «сварганила». Ходил на почту за газетами, заглядывал на рынок, смотрел, чем у станции торгуют. Со встречными знакомцами раскланивался, некоторые с ним заводили беседы, он долготерпеливо выслушивал. Затем дома читал новости, записывал и планировал текущие расходы:
Уплата за электроэнергию – 86
На питание – 50
Табак, крючки и гуталин – 13
Баня и папиросы – 26
Пиво 0,5 и бутерброд с икрой – 15
В особенно длинные и пустые дни появлялись и такие строчки:
Капли для себя – Портвейн №11…
Милица такие эскапады не одобряла и обиженно удалялась, отказывалась с ним разговаривать.
Прочие записи становились все короче, превращаясь в подобие телеграфного сообщения:
Митина с мужем.
Починка каблука.
Радость! Приезд Вовчика!
Иногда Николай Савельевич выходил в сад, бродил бездумно. Коричные яблоки давно поспели, осыпались, антоновка же только набирала силу. Высыхали, чернели на ветках попорченные воробьями да скворцами вишни, поздняя малина, не доеденная червями, отваливалась с плодоножек и догнивала под раскидистыми кустами.
Синица, качаясь кверху желтеньким брюшком на тонкой ветке сливы, увлеченно расклевывала спелый темно-синий плод. Бесхозяйственный владелец сокровищ вместо того, чтобы прогнать бессовестную птицу, смотрел на этот грабеж средь бела дня и умилялся.
Даже хриплое карканье ворон в кронах сосен не тревожило его воображенья. При Милице он каждую весну, когда вороньи стаи вились в небесах, приискивая место для летнего гнездования, выходил с мелкашкой, палил в белый свет, как в копеечку – отпугивал. А то примутся орать по утрам, ссориться по вечерам, воровать что приглянется, семена из грядок вытаскивать.
Жена называла ворон хулиганьем и не терпела, чтобы в ее владениях кто-то, кроме нее, хозяйничал.
Теперь здесь веселилась и озоровала пернатая и мохнатая вольница. В дуплах сосен расплодились белки, скакали вверх-вниз по стволам, играя в догонялки, носились под кустами лещины, куда выпадали из фестончатых зеленых колокольчиков коричневатые орешки. Однажды рано утром большой серый заяц крупными шагами пронесся поперек участка и перемахнул через невысокий уличный штакетник. Когда-то они обмазывали стволики яблонь садовым варом, чтобы от заячьего набега не пострадала молодая кора. Теперь же Николай Савельевич, увидав гостя, посокрушался о том, что до леса тому далековато, опасно добираться.
Под сараем же поселилось семейство ежей, которых он, хоронясь от бдительного ока домоправительницы, подкармливал кашей да молоком.
Рачительная прежде Матрена за всем уследить не успевала. Ей приходилось хозяйствовать на два дома, обслуживать калечного пьяницу, нянчить внука, бегать по рынкам-магазинам, да за молоком, да по прочим делам. Так что остались в это лето и Шишкины, и Смирновы без запасов варенья (хотя никто особо об том и не горевал).
Из слив и яблок она понемногу подваривала «повидлу», но на большие заготовки никак не могла выкроить времени. Свежая «повидла» в мгновенье ока улетала, та же Шурка могла с чаем и батоном литровую банку умять. Матрена ей не препятствовала, старалась накормить получше. Побаивалась в глубине души, что невестка найдет себе кого-нибудь, и оставит ее вдвоем с Мишкой. Та бы, может, так и сделала, да не повезло, война женихов почти подчистую выкосила.
Нынче Матрена пирожков с той же «повидлой» напекла и понесла пяток в соседний дом.
– Здравствуйте вам, Николай Савельич, – церемонно приветствовала она сидящего на террасе хозяина, – пирожка теплого отведайте.
– И тебе, Матрена, не хворать, – Савельич отложил газету, глянул сквозь очки строго. – Благодарствую за пирожки, отнеси пока на кухню, позже чайку попью.
Как через губу разговаривает. Раньше бы она чайник вскипятила, сели бы рядком чаевничать, ладком разговоры разговаривать. А теперь и Матрене недосуг, и Савельича неизвестно какая муха укусила…
2.3.Муха, которая укусила, и пребольно, Николая Савельевича, называлась нехорошим словом «подозрения». Зловредное насекомое не унималось, все жалило сердце. Матренины хитрости и мелкое воровство не трогали его, пока он не застал ее у трельяжа. Та самовольно надела гранатовые бусы и сережки, навела румянец и губы накрасила Милицыной же помадой. После бусы сняла и на место в ящичек убрала, а сережки в карман спрятала. Николая Савельевича, заглядывавшего в щелку двери спальной, она и не заметила, он же дверь тихо притворил и ушел. а спустившись вниз, все не мог отдышаться, так в груди и кололо, и прыгало.
С тех пор постоянно ждал от бабы мошенничества, жульничества да очковтирательства. И лезет везде тихой сапой, и Милицыны вещички подтаскивает! Прямо возненавидел ее за это.
Сыновьям сказать не мог решиться. Те были за отца спокойны, пока Матрена его «обихаживает». Выгнать ее самому – со всеми Шишкиными поссориться, опрометчивый и чреватый поступок.
Хотел Миле пожаловаться, но та его не поняла.
– Плюнь, Николаша, это дурь бабья, – посоветовала она ему. – Все мы, как сороки, на побрякушки кидаемся. И женишок ты завидный, не старый, с хорошим приданым. Вот невесты и соблазняются.
– Ты меня женить собралась, что ли? – удивился Николай Савельевич.
– А почему бы и не женить, все б спокойней было, – отвечала Милица Петровна. – За тобой, мой дорогой, глаз да глаз нужен.
Тут Николай Савельевич сам обиделся и на какое-то время перестал с женой разговаривать.
За Матреной он стал приглядывать, и скоро много интересного узнал. Обнаружил, что та шарит по его карманам и в кошелек залезает, коробочку с деньгами регулярно ревизует и одну-две мелкие бумажки обязательно прихватывает.
Коробку он стал запирать на ключ в шкаф, там же складывал дневничок и тетрадь для записи расходов, а то еще прочитает то, что не следует:
М.И. таскала полотенца вафельные.
Лазила по книжному шкафу, ничего не взяла.
Матрене Ив. на хозяйство дал 100, она не отчиталась.
Принесла – на 75, самое большое.
Конечно, такая жизнь угнетала, но что поделаешь! Придется терпеть да следить за всем, иначе разнесет подлая баба дом по досочкам.
…
Минули один за другим два Спаса, Успенье прошло.
Зелень от холода и дождей этим долго держалась, но начали сквозить уже кроны, у березок заблестели в зеленых косах золотые прядки. Рябинки покраснели, зацвели георгины да астры. Под дремучей елкой выросло два боровика, пни покрылись опятами, пахло мхом, листьями и немного гнилью, но дни стояли безветренные, солнечные, словно прощальный подарок после тягомотного лета. Детишки в школу пошли, каждое утро проходили мимо забора, и их звонкие голоса скрашивали одиночество утра. Валя Морковкина, соседкина дочка, взяла привычку забегать после уроков, проведывать. Спрашивала – надо ли помочь, дедушка Николай, дров наколоть, воды натаскать? Вы только скажите, а мы с пионерами нашего звена мигом все сделаем.
Хозяйство рук требовало, но Николай Савельевич отнекивался, стеснялся. Не такой уж он бесполезный, чтобы ребятишек на себя работать заставлять. Сам справится как-нибудь.
Пошел в сарай лучинку на растопку нащепать, топор поднял – а замахнуться не вышло, в грудь вступило. Потихонечку-полегонечку положил инструмент на полку, да пошел домой, опустив голову. Куда ни кинь – всюду клин, называется.
Придется теперь о малейшей малости по знакомым взывать или сыновей просить, а тяготить посторонних, и тем более близких, своими заботами – ох, как не хочется!







