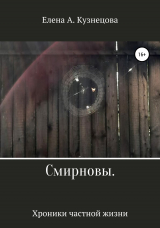
Текст книги "Смирновы. Хроники частной жизни"
Автор книги: Елена Кузнецова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Елена Кузнецова
Смирновы. Хроники частной жизни
Часть I. Моль и ржа. 1950-е гг.
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут» (Матф, 6:19-20)
Глава 1.
1.1.Дождь лил третий день подряд. Затихал, моросил, вкрадчиво шуршал по молодой листве, повисал легким туманом. Напор увеличивался неожиданно, словно срывало небесный кран, и тогда ливень вставал стеной. Порой посверкивали молнии и громыхало страшно и гулко. Струя водостока бодро выплескивалась из переполненной бочки, наливала у крыльца обширный болотистый водоем.
Николай Савельевич Смирнов, живущий одиноко почтенный человек, возвратившись к вечеру со службы, непорядок отметил. Однако заботой о бочке не утрудился, сидел в полукресле на веранде, пил чай, вел повседневные записи в книге расходов.
Канцелярские принадлежности он уважал, как всякий конторский работник (Николай Савельевич служил на почтамте). Тетради для личных нужд брал удобные, казенные, не стесняясь. Особо ценил твердые альбомчики, разграфленные для описи заказных, спешных и правительственных сообщений. Книга расходов была как раз из таких, толстая, с мозговидным рисунком на сером плотном переплета.
Он обмакнул перо в чернильницу, проставил число, ниже разнес расходы в два столбца:
Обед и папиросы – 16 рублей
Капли – 21 рубль
Бутерброды с икрой – 50 рублей
Коммерческая баня –
И не дописал, задумался, отвлекся.
Электричество Николай Савельевич экономил, лампы не зажигал и в дождевых сумерках террасы с трудом различал нацарапанные значки. Вздохнул, вытер перышко куском замши, убрал ручку на подставку, отпил остывшего чаю из стакана в серебряном подстаканнике, положил в рот кусочек колотого сахара. Зябко поежился, встал размяться, подошел к плохо застекленным рамам.
Сквозь щели сочились сырая прохлада и приторный цветочный аромат. Попирая все природные сроки, вокруг дома буйно, обморочно, истерично цвела набрякшая влагой ранняя сирень. Сирень любила и сажала под окнами покойная жена, Милица Петровна, теперь кусты разрослись и загораживали свет. Но вырубить рука не поднималась.
За сиренью виднелась заросль необычайно рослых лопухов с трубчатыми стволами, сквозь которую узкая тропинка вела к калитке. Николай Савельевич так представлял себе тропический лес или джунгли из книг, что приносили в дом сыновья.
В те давние времена он частенько находил в почтовом ящике рукописные послания на четвертушках тетрадных листов:
«Тов. Смирнов!
Несмотря на неоднократные напоминания, ваш сын Владимир до сих пор не сдал книги в школьную библиотеку. Прошу принять решительные меры!»
Тов. Смирнов педантично складывал листки в буфет и продолжал читать сыновние книги. Помногу не получалось, от силы выходило несколько страниц в день. Порой приходилось сдавать и недочитанное, если нарекания в записках сменялись угрозами и число восклицательных знаков фатально возрастало.
…
Лопуховый лес закачался, зашевелились, разбрызгивая воду, сиреневые кусты. Бесформенная в брезентовом дождевике с капюшоном фигура вынырнула из заводи у широкого крыльца. Постучала в дверь, покричала: «Савельич!» визгливым бабьим голосом
Николай Савельевич, человек осторожный, вечерами закрывался изнутри. Теперь откинул крючок, открыл дверь соседке:
– Чего тебе, Матренушка?
Матрена протиснулась мимо него внутрь.
– Ватрушек напекла. Дай, думаю, отнесу.
Сняла капюшон и оказалась нестарой, приятной лицом, с жидкими русыми косицами под розовой косынкой.
Распахнула полы плаща, поставила на стол глубокую тарелку с ватрушками. Стол был на фигурных ногах, большой, обеденный, на двенадцать персон. Стульев с резной же спинкой только восемь осталось, и те в плачевном состоянии, облезли, скособочились. Напольные часы Буре в дальнем углу веранды отказывались заводиться и который год упорно показывали половину второго.
– Савельич, слышишь, чего говорю…
(До чего же у бабы пронзительный голос!)
– Пойду завтра в магазин, заварка кончается, хлеба купить надобно, сахару, макарон. Гречу, может, привезут, молока захвачу, кашу тебе сварю.
– Гречки побольше возьми, – ответственно подошел к делу Николай Савельевич. – Понятное дело, ежели хорошая будет, чистая.
Из кармана пиджака вытащил вытертое портмоне, вынул купюру.
– Да, Савельич, – как будто спохватилась Матрена, принимая ее, – забыла главное сказать. Шура вчера вечером родила. Мальчик у нас, большой, здоровенький. Одна беда – Мишка запил на радостях, теперь долго не протрезвится.
– Поздравляю с внуком, пусть крепким растет, будущим воином, – расчувствовался Николай Савельевич. Снова раскрыл бумажник, достал еще деньги, протянул бабе.
– Дай Бог здоровья, – закрестилась та, и бумажки моментом исчезли в брезентовых недрах, – ватрушки ешь, пока теплые, тарелку завтра заберу.
– Хорошо, Матренушка, – кивнул седой головой Николай Савельевич.
Матрена напялила капюшон, свершив обратное превращение из бабы в брезентовый шалаш без лица, и скрылась в полумраке за хлипкой входной дверью.
Николай Савельевич глянул на ватрушки. Румяные и круглые, те беззаботно покоились в давно знакомом ему предмете кузнецовского фарфора. Фарфор вместе со столовым серебром постоянно кочевал, большей частью оседая за пределами родимых мест. Хозяин не то чтобы того не замечал, но не придавал значения в силу возраста и напавшей после смерти жены задумчивости одинокого человека. Взрослые же сыновья его жили в Москве. Проведывали редко, хоть и ехать до Мезни всего ничего, полчаса на чугунке с Ярославского вокзала. А на машине и того меньше.
От редких визитов оставались гостинцы – апельсины, коньяк, шоколад – и записи в книге расходов:
«Встреча Николеньки – 200 руб.
Николеньке с собой – 1500 руб.
Володе на отдачу долга 2000 руб.
Галочке на платье -150 руб.»
Николай Савельевич постоял, глядя на дождь, лопухи, гроздья сирени, набухшее теменью небо. Достал из буфета мерзавчик коньяку и серебряную рюмку. Накапал пятьдесят граммов, выпил, заел теплой сдобой. Повертел бутылочку, повторил действия, придвинул к себе книгу расходов, аккуратно вписал:
«Матрене, на расходы – 50 руб.
Шуре, приданое ребенку – 180 руб.»
Вскоре заветная бутылочка опустела. Николай Савельевич надел шляпу, пальто и галоши, взял зонт и вышел наружу. Запер террасу, ключ сунул в щель под широкими перилами крыльца, наступил в лужу, немного послушал трубное бульканье на крыше и решительно отправился прочь.
Вернулся он в состоянии приподнятом. Оставив галоши у входа, пальто, зонт и шляпу на вешалке, включил свет и присел в свое скрипучее полукресло. Раскрыл книгу расходов, внес новую строчку:
Ужин с Колосом в «Рябинушке» и капли с ним – 27 руб.
Промокнул чернила, подождал, пока окончательно просохнут, убрал письменные принадлежности в буфет. Достал полотняную салфетку, накрыл остывшие ватрушки, проверил дверной крючок, погасил свет и отправился почивать, как всегда, с чувством выполненного долга.
Дождь все стучал по крыше, сточная труба грохотала, бочка шумно расплескивала воду. И каждый раз, когда сон становился некрепким, Николай Савельевич строго наказывал себе не забыть прочистить желоба.
…
Утро было неожиданно сияющее, свежее, роскошное, как бывает только весной и ранним летом после дождей. Каждый листик и цветок, напоенный влагой и согретый мягким теплом, дышал жизнью, легкий ветерок трогал ветви деревьев, поглаживал кусты, по-отечески ерошил молодую траву. Ближайшая купа сирени отчаянно шевелилась и чирикала – в ней бурно выясняла отношения стая воробьев.
Николай Савельевич постоял на крылечке, порадовался красоте. Красоты было много, сорок соток земли в высоких соснах, огромное яркое небо, дом с кружевными башенками. На лужайке набирали бутоны ландыши, вдали у соседского забора теснились сныть, пырей, лебеда, глухая крапива, веселые одуванчики. Во времена жены там плодоносили ухоженные, сытно унавоженные грядки, теперь остатки огородной земли питали сочную сорняковую поросль.
Николай Савельевич поначалу пенял Матрене за то, что не занималась огородом, как было договорено. Та все кивала на дела, «кормила завтраками», и он махнул рукой. Сколько там ему одному надобно.
Зато раскидистый ягодник был на диво хорош. Недаром еще до войны он брал саженцы породистые по знакомству. Жилистые побеги давали обильные плоды – чистые, крупные, сладкие. Сам не ел, Матрена заготавливала малиновое варенье от простуды, коричневый переваренный «кружовник» и никем не любимый «витамин» – толченую смесь смородины с сахарным песком, каменеющую в зеленоватых трехлитровых банках.
Припасы частью отправлялись сыновьям в Москву, частью оседали в дальней холодной кладовке, где и оставались навсегда. Николай Савельевич из сладкого признавал только колотый сахар и в былые времена – наливочку домашнюю мастерицы на все руки Милицы Петровны.
–Зарастает все, и траву косить пора, – думал он, сходя с крылечка и направляясь через лопухи к стыдливо приткнувшейся в зарослях дощатой будочке с вырезным сердечком для внутреннего освещения и наружного обозрения. – Надо сказать Матрене, пусть Мишку позовет.
Матренин сын, однако, был мужик пьющий, бестолковый и криворукий. Приступы трудолюбия у него случались редко. И это было к лучшему, ибо результаты могли устрашить неискушенного наблюдателя.
– Ладно уж, покосить он покосит, сильно не навредит. В том году пионы Милицыны скосил, так они вон еще гуще отрастают…
Николай Савельевич закрепил калитку невысокого штакетника деревянной вертушкой, вышел на солнечную улицу с асфальтовой мостовой посредине. Узрел невдалеке личность в светлом пиджаке и соломенной шляпе, с тростью, при окладистой седой бороде. Раскланялся степенно с соседом, Исаем Абрамовичем Цукерманом, и поспешил по тротуару к станции, на свой обычный утренний поезд.
Служба его была на Мясницкой бывшей, ныне Кирова, от «трех вокзалов» он шел пешком, мог бы и на метро проехать две остановки, однако средства экономил. Да и любил глядеть на Москву, старую, маленькую и современную, громадную, строящуюся.
1.2.Матрена с утра ходила навещать невестку. В родильный корпус не пустили, но приняли передачу – молоко в пол-литровой бутылке, банку толченой с топленым маслом картошки, ватрушки, зеленый лук и кулечек магазинных карамелек к чаю. Чтобы сама не оголодала и младенца питала как следует.
Покричала Шуру под замазанными белым окошками, но ответа не дождалась. Курившая вонючую «беломорину» у входа пожилая санитарка сказала ей уходить. Сейчас обход врачей и никаких разговорчиков. Тем более роженицы на третьем этаже лежат, да и рамы заколочены. Вставать на стол и через форточку кричать можно только вечером, когда начальство по домам разойдется.
Пришлось Матрене вернуться несолоно хлебавши.
Больница находилась в райцентре Гущино, крюк немаленький, от ходьбы она взмокла вся. Отправилась сразу к Савельичу, разожгла керосинку, накипятила воды и уселась пить чай. Вчерашняя заварка была крепкая еще. Матрена уговорила четыре чашки вприкуску. Заодно прикидывала, что сегодня сделать, что до завтра подождет, а что и вовсе отложить на потом. Навести порядок на скорую руку, настругать мыла и белье замочить, кашу приготовить и поставить упревать под старое одеяло. После бежать домой, там тоже стирка, готовка. Мишка пьяный лежит, на работу не идет, через товарищей сказался больным, хоть бы к выписке протрезвился, Господи.
К выходному Шурку надо забрать домой, до того комнату помыть, кроватку детскую из сарая достать, за приданым в Москву съездить, это целый день, придется у Савельича отпрашиваться. Старый к мелочам не цепляется, но пора бы на веранде стекла помыть и второй этаж прибрать, неровен час, нагрянут городские, греха не оберешься.
«Городскими» Матрена именовала не столько сыновей Николая Савельевича, сколько его невесток, Евгению с Лидией, одна в кудрях и в очках, а вторая с пучком и папироской. Слова худого, правда, ни разу не сказали, только все кажется, что они за спиной ее осуждают. Что хозяйствует спустя рукава, и ложки серебряные пропадают.
– Хоть бы и так, – возразила Матрена невидимым врагам, – вы тут на все готовенькое. От безделья отдыхать. Трудились бы с мое, не особо стали бы ракетками махать и мячиками кидаться.
Утешив себя этим рассуждением, она допила чай, сполоснула чашку под рукомойником, поставила вариться кашу и отправилась разбирать белье. Глядишь, простынки мягонькие приглядит на пеленки-подгузники, сейчас только успевай стирать, тряпок не напасешься.
1.3.Фамилия Вали была Морковкина, и все звали ее Морковкой. А как еще звать конопатую девочку с рыжей косой и овощной фамилией? Та к двенадцати годам притерпелась и не обижалась. Тем более что мать Варвару тоже все по фамилии называли.
– Эй, Морковкина! – так соседи окликали и на работе обращались.
Отца у Вали не было, и в глубине души она подозревала, что на свет произошла ботаническим способом почкования. Маленькая Морковка – от большой. Хотя теорию деторождения Морковка знала, да и практику часто наблюдала.
Совсем недавно у соседки тети Шуры Шишкиной сын народился. Дядя Миша неделю пьяный ходил и на разные лады хвалился своим в этом деле участием. Валя младенчика видела – красненький, сморщенный и кряхтит во сне, как маленький старичок. Тетя Шура хотела дать ей его подержать, но пришел дядя Миша, и она передумала. А Валя и сама– бочком-бочком к выходу. Дядю Мишу она боялась, трезвым он был хмур, пьяным задирался, а последнее время норовил, проходя мимо, больно цапнуть за грудь. И называл он ее противно – Морквой.
– Что, Морква, – вперил он в нее маленькие злобные глазки, – поиграться пришла? Вон какая вымахала, пора своих куклят заводить.
И нехорошо ухмыльнулся.
Валя выскочила за дверь словно грязью облитая. Пошла на кухню умыться холодной водой. Там Матрена Ивановна старинные ложки считала. Большие, тяжелые, с чернеными вензелями. Шесть штук насчитала, обратно в тряпицу завернула, в кухонный шкаф убрала.
Повернулась, Валю увидала и кричит:
– Нечего подсматривать!
А после добавила мирным голосом:
– Я пироги спекла с капустою, возьми вон с протвиня под полотенцем. Себе и матери возьми.
Валя взяла два пирога и ушла к себе неумытая.
– Вот девчонка! Везде-то подскочит, все-то разглядит, проныра глазастая! – Возмущалась про себя Матрена Ивановна.
Да. Тут она маху дала. Но в комнате Мишка шарит. Колечко золотое в штаны нижние завернула, спрятала, все равно нашел, пропил.
В кухню он не ходит, считает, немужское дело. Еду и то подавать в комнату требует, а там не повернуться, на пятнадцать метров трое взрослых и грудной младенец.
Матрена вынула сверток с серебром, подержала, подумала. И убрала вниз, к ветоши уборочной, куда никто, кроме невестки, не полезет, побрезгует. А той сейчас не до полов, только успевай ребенка обихаживай. Туда же вилки с ножами перепрятала.
Скатерти-простыни льняные-полотняные с кружевными прошвами – в белье лежали, тарелки фарфоровые с чудными картинками – открыто на полках стояли. В этом Мишка не разбирается, ему что миска щербатая, что тарелка с позолоченным краем – все одно. Матрене же стоящая вещь сама просилась в руки, приговаривая: «пригрей-приюти, Матренушка, сиротинушку, никому не нужную».
Савельичу до того и дела нет.
Он пожилой, грамотный, шляпу с очками носит, книги-газеты читает да в облаках витает. А дом разваливается, добро пропадает.
Сердце и о часах старинных болело, и о мебели темного дерева с атласным блеском и разными финтифлюшками. Но это так просто не возьмешь к себе, все чужое, хоть и хозяину ненужное.
– Вроде и революцию сделали, – рассуждала Матрена, – а все равно несправедливость осталась. Савельич один в целом доме живет, богатствами владеет, а у них на четверых комната в бараке и ни гроша за душой. Мог бы Мишка невестку с жильем найти, не подбирать с улицы голь перекатную. Вот только злой он, когда выпьет, и дерется сильно, такое не всякая жена терпеть станет. Шура терпит, деревня безропотная, молодая, здоровая еще.
… Шура Шишкина кормила маленького грудью, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Солнечный свет падал на крашеные суриком широкие половицы. Над оконной створкой отдувало ветерком беленькую марлечку. Снаружи цвела сирень, сладкий запах напоминал о духах и прочих вещах легкомысленных.
Молока было много, но и Сашенька сосал сильно и жадно, покушать любил, весь в мать. Крепенький, растет быстро, щеки круглые, пухлые, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Скоро она будет его свекрови оставлять и на работу ходить, в магазин, а то и в кино удастся пройтись. Хочется на волю. Да и тесновато им вчетвером в одной комнате.
На кирпичном заводе, где Мишка работает, все обещали квартиру в новом районе Гущино. И каждый раз он то работу прогуляет, то с начальством поругается. Вот и оставались с носом, даром что профсоюз. Но теперь уж точно дадут, никуда не денутся, ребенок появился, хоть откуда возьми – а жильем обеспечь…
В этих приятных мыслях под жужжание мух и шелест листьев за окном она задремала на высокой кровати, привалившись спиной к горе пуховых подушек. Очнулась от громкого гомона в коридоре.
– С дороги, старая! – кричал муж и продолжал матерно. Вслед за тем что-то летело, стучало и падало, – Попадешься на глаза еще раз, убью!
Шура проворно слезла с кровати, оставив на ней мирно сопящего Сашеньку, осторожно отворила дверь и попыталась выглянуть в щелочку. Дверь тут же захлопнулась силой отброшенного на нее тела.
Раздались звуки мерных ударов, судя по всему, били ногами. Шура попятилась, ни жива, ни мертва. Муж все чаще являлся пьяным и принимался порядок наводить. Соседи и свекровь безответными были, но сама она всегда могла отпор дать, да. Только за Сашеньку боялась.
Шум стих, Мишка протопал куда-то тяжелыми ножищами. Шура и облегчение испытала и разочарование какое-то.
Вот если б тот убил кого, сел бы в тюрьму надолго, а то и навсегда, сразу всем бы облегчение вышло. Ну кроме убитого, конечно. И то неизвестно, может и покойному бы жизнь облегчил.
1.4.Прошел Никола Вешний.
С именинами Николая Савельевича никто не поздравил, пирога не пек – так это привычное дело. Праздники другие стали. Вот у него день рождения скоро, может, сыновья приедут проведать отца. А то по-модному, телефонируют, и будет тебе, старый.
В последнее время он все чаще проводил вечера с Андреем Александровичем Колосом в местном ресторанчике «Рябинушка». Они брали салат столичный, котлеты по-киевски и небольшой графинчик беленькой, чего хватало часа на два неспешной дружеской беседы.
Вернувшись засветло, бродил по дому. Потом устраивался в темной верхней спальне, в громоздком кресле с подголовником. Глядя на трельяж с туалетным столиком, вспоминал Милицу у зеркала, хрупкую, молодую, с пшеничными бровями и косами венком, в скромном платьице с белым воротничком. После – солидную пышную даму, что носила серьги, бусы и перстни на обеих руках, красила волосы, губы и брови, раз в неделю делала укладку в парикмахерской. Прыскалась обильно Белым ландышем или Красной Москвой, шила у портнихи по журналам красоты. В мезенском обществе пользовалась авторитетом, лучше всех знала, как солить огурцы, как детей воспитывать. Николай Савельевич жену любил беззаветно, все прихоти и желания исполнял, называл Милушкой и рассчитывал на старость вдвоем. Но несколько лет назад начал у нее побаливать живот, пока к врачам собралась – вырос рак, стал пожирать заживо. Сыновья устроили в лучший госпиталь, Николай Савельевич каждый день навещал, невестки варили бульон и пюре протирали. Но из госпиталя Милица Петровна уже не вышла. Оставила сиротствовать одного.
В окне с отодвинутой тяжелой гардиной виднелись стволы и кроны сосен, вечернее темнеющее небо, бортовые огни самолетов, идущих на военный аэродром в Панино.
Николай Савельевич был об этом осведомлен. Младший сын у него – по летной части, а старший занимается ракетами и так засекречен, что даже самые близкие ничего о его работе не знают.
В тот вечер, редкий случай, Николай Савельевич в «Рябинушку» не пошел, а открыл книжный шкаф и достал с полки книгу «Дети капитана Гранта». Отправился с добычей на терраску, куда еще попадали лучи позднего солнца, и открыл изрядно потрепанный том.
К этой книге Николай Савельевич приступался несколько раз и один раз дочитал почти до середины. Каждый раз начинал с самого начала и, завороженный первыми же словами, плыл по волнам повествования, пока не отвлекали насущные дела.
В тот вечер, как и всегда, «26 июля 1864 года по волнам Северного канала шла на всех парах при сильном норд-осте великолепная яхта. На ее фок-мачте развевался английский флаг, а на голубом вымпеле грот-мачты виднелись шитые золотом буквы «Э.» и «Г.». Яхта эта носила название «Дункан» и принадлежала лорду Эдуарду Гленарвану, виднейшему члену известного во всем Соединенном Королевстве Темзинского яхт-клуба…»
Читал Николай Савельевич увлеченно, но медленно, проговаривая про себя слова и шевеля губами. Солнце уже почти зашло, когда лорд Гленарван расшифровал таинственный документ, извлеченный из недр гигантской рыбы, и озаботился судьбой трехмачтового судна «Британия», потерпевшего крушение 7 июля 1862 года «гони южн берег» на неясной долготе и вполне определенной широте.
По наступлении темноты он решил отправиться «на боковую», но твердо обещал себе прочитать роман до конца, сколько бы времени на это не понадобилось. Даже не стал убирать книгу в шкаф, хотя все в нем противилось подобному непорядку, так и оставил на столе. Запланировал каждый вечер читать до темноты, пока не пора будет спать ложиться. А утром вставать, не залеживаясь, для бодрости включать радио и делать утреннюю гимнастику.
Хороший был план. На деле же он забуксовал в неожиданностях, происшедших паче чаяния, или «по отчаянию», как выражался Николай Савельевича родственник, Коля Храмцов.







