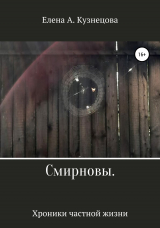
Текст книги "Смирновы. Хроники частной жизни"
Автор книги: Елена Кузнецова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
В воскресенье наступила жара, настоящая, летняя.
Исай Абрамович Цукерман надел полотняный пиджак и соломенное канотье с лентой. Взял неизменную тросточку, для солидности и устойчивости.
Софа выглянула из кухни, спросила недовольно:
– Куда это, позволь узнать, ты собрался?
– К Николаю Савельевичу собрался, нужда у него во мне лично есть, – не без ядовитости ответствовал Исай Абрамович. Жену он любил и ценил, но ее страсть везде совать нос не приветствовал. Потому договорились с соседом совершить моцион для приватной беседы. И организму польза, и никаких глаз, носов и ушей, длинных языков.
Возразить Софа не нашлась, но указания дать не преминула:
– К обеду не опаздывай, и Николая Савельевича с собой приводи.
– Всенепременно, Софочка, сделаю, – кротко отозвался Исай Абрамович. Он без нужды спорить не любил, всегда со всеми соглашался и имел репутацию человека орлиной прозорливости и голубиной скромности. Занимал же хлебное, почетное и опасное место мезенского нотариуса.
Николай Савельевич ожидал уже у зеленого штакетного забора, одетый, как близнец Исая Абрамовича, в прогулочный наряд – канотье и белый полотняный пиджак. Только что без тросточки. Степенно поздоровались и отправились неспешно к речке, через широкие, в распустившейся зелени улицы. Беседовали о житейском – детях, здоровье, погоде, природе, которая ранним летом казалась особенно хороша. Так незаметно дошли до Абрикосовского сада.
Местность интриговала своим названием, поскольку несмотря на прогресс садоводства в подмосковном климате абрикосы пока не росли. Однако тут был не сад вовсе, а улица, где до революции простирались огромные владения купцов Абрикосовых. После земельной реформы, когда казенный массив распродавали большими площадями, акрами, гектарами, тут золотая жила образовалась. Абрикосовы-братья ухватили огромный кусок задешево, после – нарезАли дачные участки, строили деревянные хоромины на продажу, прорубали улицы-просеки такой ширины, что два экипажа разъезжались запросто. А цены все росли. Скоро каждый надел стоил больше, чем вся целиком покупка.
Ныне Абрикосовский сад представлял собой аллею, засаженную идущими под откос каштанами. Николай Савельевич помнил их еще подростками, тонкими как тростинки. Вопреки прогнозам злопыхателей деревья достигли почтенного возраста и обрели внушительную внешность. Из года в год они украшались канделябрами соцветий, растопыривались резными листьями, осыпались колючими шариками плодов с блестящими орешками внутри. Милица из них настоечку целебную делала – от подагры, ревматизма и расстройства желудка. Еще где-то остался флакон. Большой, оранжевого ферейновского стекла, никому не нужный.
Дома здесь почти без изменений сохранились, со всеми архитектурными излишествами. Многие чудом остались в частном владении, когда хозяева канули в Лету. Теперь здесь дачи творческих работников – художников, писателей. Один дом – певцу Соболеву принадлежал, другой журналисту Кравцову. Говорят, сюда сразу после войны сама Шульженко в гости приезжала, пела на дворе про знаменитый платочек, и вся улица слушала, затаив дыхание.
На другом же конце Мезни дачи в двадцатые-тридцатые годы подчистую коллективизировали. Жактовские коммунальные дома сделали. Индустриализация шла полным ходом, жилья катастрофически не хватало. Рабочие, кому комнаток не досталось, строили в усадьбах дощатые засыпные домики, валили на участках корабельный лес, для дела и без дела. Что-то детским домам отошло, санаториям, летним лагерям, казенным дачам. Особняк мецената и фабриканта Ветошкина достался Обществу старых большевиков, и вся деревянная резьба уцелела, и вокруг красоту навели – насадили голубые ели, разбили клумбы, поставили фонари, соорудили мраморную чашу с фонтаном.
Да и повсюду новая жизнь кипела. За шоссейной дорогой в кооперативе Здоровый Быт вырубали лес под волейбольные площадки и летний театр, в поселке Политкаторжан появлялись новые фруктовые сады, ягодные кусты, клубничные грядки. Ближе к старому ярославскому тракту бывшие пашни и выпасы закрылись высоким ограждением. Там разбили учебный аэродром. Легкие У2 с утра до вечера взлетали и садились, стрекотали над верхушками сосен, тревожили тишину…
– Помнишь, Исай, здесь лес стоял вековой? – вопросил Николай Савельевич.
– Как же, Николаша, – отвечал в тон Исай Абрамович, – на участках до сих пор белые грибы корзинами собирают…
В полном согласии они сошли по бетонным ступеням к реке.
Мезня изгибалась, образуя полукруг и широкую пойму, вдали виднелись высокие кручи, поросшие травой, кустами, соснами. Внизу был песчаный пляж с остатками старинной купальни, небольшая лодочная станция. На противоположном берегу расстилались казавшиеся бескрайними заливные луга соседнего колхоза.
Мезня, неширокая в этих местах, раньше была судоходной. Смирновы приходили к пристани летними вечерами, когда жара спадала. Брали лодочку в прокат, неспешно выплывали на стремнину. В камышах засыпали утки. Распевали лягушки, рыба всплескивала, поддразнивая рыболовов, звенели комары. Проходил пароходик «Витязь», гудел, поднимал волну, лодка качалась, Милица притворно пугалась. Зыбь успокаивалась, течение несло их под склоненными ивами, жена опускала руку в воду и запевала романс. Сопрано ее было маленькое, но верное и приятное.
После стали каналы строить, плотины, водохранилища. Речка обмельчала, заболотилась, заросла ряской и кувшинками, местами затерялась в густой прибрежной зелени, проблескивая только быстрой нитью стремнины. Но стала еще живописнее: тихие омуты и заводи, поникшие ветви, стрекозы над сонной водой…
Пойма пышно зеленела, вся в веснушках одуванчиков, брызгах чего-то мелкого, голубого. Высоко и неспешно плыли кудрявые белые облака. Николай Савельич вздохнул – от полноты чувств и воспоминаний. Миновали ажурную довоенную еще ограду санатория ВЦСПС, вышли под дубы к древним курганам, тянущимся вдоль железной дороги.
Здесь на скамье присели, и Исай Абрамович велел:
– Ну что же, Николаша, не тяни кота за хвост, говори.
И Николай Савельевич все рассказал, как на духу. Иноверцу, можно сказать, исповедовался. А что делать, если этот иноверец ближе тебе и роднее, чем некоторый крещеный русский человек.
1.9.«Июнь нынче по большей части дождливый и прохладный», – записал в дневнике Николай Савельевич.
Матрена ворчала: льет, будто из ведра, холодрыга, какой свет не видывал.
Впрочем, свет этот чего только не видывал – и уже ничему не удивлялся. Ни войнам, ни революциям, ни тем более серенькому подмосковному июню.
Ночная температура опускалась почти до нуля, а дневная с неохотой преодолевала от того же нуля две большие верхние черточки на уличном термометре. Молодая дикая зелень – лопухи, подорожники, крапива, сныть, пырей – достигала невиданных размеров. Листья на деревьях полностью развернулись и упруго шелестели, и шептали непрестанно, радуясь избыточной влаге. Поспели травы – тимофеевка и мятлик, ежа и овсяница выбросили колосья и метелки, отрастали розовая и белая кашка, ядовитый чистотел, блескучий курослеп. Порядка навести было некому. Мишка Шишкин кочевал из запоя в похмелье и обратно. Через знакомых Николай Савельевич нанял пришлых мужиков, те деньги взяли, а работу не доделали, бросили на полдороге.
Как-то выходило, что народ стал умственные занятия за безделье держать, а физическим трудом гнушаться. Господа пролетарии, не говоря уж о колхозниках, поглядывают на служащих и интеллигенцию с пренебрежением, но не без злобы. Вроде как те деньги ни за что получают, а ты вкалывай с утра до вечера, а ведь «мы не рабы» учили по букварям с младых ногтей. В результате эдакой философии меж забором и проезжей дорогой трава оказалась выкошена небрежно, клочьями, словно плохо побритые мужские щеки, свалена кучами в водоотводную канавку. Запущенный сад вольно и живописно зарастал, так что не везде пройдешь.
– Троица в этом году будет поздняя, – записал Николай Савельевич.
Он привык исчислять, что течение года, что вехи жизни, церковным календарем. Это утешало, как все не приземленное. И вера его была – житейская, обыденная. Храм от случая к случаю посещал.
Любил отцом Иоанном Кедровым отстроенную во славу Воскресения Христова церковь в Сокольниках. Кедровская церковь напоминала мезенского Спаса Нерукотворного – необычным летящим и нарядным обликом, яркими мозаиками, но в отличие от него не закрывалась ни на день. Спаслась сначала благодаря попам-обновленцам, а после войны попущение вышло, гонения поутихли. Верующий люд понес печали к темным ликам над мерцающими лампадами, к Иверской Божьей Матери и святому целителю Пантелеимону.
Хаживал Николай Савельевич на Разгуляй, в кафедральный Богоявленский собор, который по имени площади называли Елоховкой. Но чувствовал там себя неуютно, хотя чудотворную Казанскую икону Божьей Матери очень уважал и к мощам святителя Алексия каждый раз прикладывался.
…
Погода немного наладилась, серая сочащаяся водой завеса отступила ввысь, просохла, просветлела, стала просвечивать синевой и проблескивать жарким солнышком. Мигом просохла лужайка перед домом, Матрена развесила между елкой и березой откипяченные до синевы простыни и пододеяльники, сварила геркулесовую кашу и ушла по неведомым делам, не докладываясь. Так частенько случалось в последнее время. Разговаривать они почти перестали, жили, словно парочка поднадоевших друг другу супругов. Николай Савельевич исправно деньги на хозяйство выдавал, Матрена тратила на свое усмотрение. Отчитываться перестала, а Николаю Савельевичу неловко было спрашивать. Потому порой приходилось писать наугад, как пальцем в небо тыкать.
Баня коммерческая – 25
Табак и метлы – 37
Москва – 14
Обед и капли 25
Починка сапог (каблук) 40
Матрене Ив. – 100
Принесено – свинина, картошка, капуста, лук, молоко 1 литр…
1.10.Распускался жасмин, затмив изобилием цветов и сладким благоуханьем белые и розовые махровые розочки шиповника. А вот пионы не радовали, стояли почти без бутонов, Николай Савельевич насчитал на пять кустов всего три шарика.
В воскресенье к обеду нагрянули гости – сыновья с женами. Николай Савельевич порадовался, что не пошел в неблизкое Черкасово, посетить церковь и примыкающее кладбище. А до их прихода все в слабости и лени себя упрекал. Главное сожаленье было не о том, что пропустил великопраздничную службу, а что с Красной Горки не навещал Милицыной могилки.
В последний визит принес жене букетик нарциссов, купленный на станции, да крашеное луковой шелухой яичко. Прибрался немножко, посидел на лавочке у оградки, посетовал привычно на одиночество, пожаловался. Милица велела бодриться, питаться, как следует, каплями не злоупотреблять, с Колосом не засиживаться. Николай Савельевич обещал. С тех пор, а уж больше месяца прошло, все никак не мог к ней выбраться, хотя раньше чуть ли не каждое воскресенье бывал. Все отговорки находились – то голова закружилась, то сердце колет, то ноги слабеют и отнимаются будто. Сплошная безалаберность!
Сыновья приехали с гостинцами, привезли стерлядь, икру, салаты, заливное. Кстати получилось, что Матрена с утра принесла свежий хлеб и масло домашнее. Накрыли на веранде, Лидуся постелила столовое белье – скатерть, салфетки, в китайскую синюю с росписью вазу поставила наспех собранный букет, и получилось, как всегда у нее – красиво. Женечка, ходившая тенью за ненаглядным Николашей, сегодня совсем тушевалась, вина не пила. Николай Савельевичу подумалось – уж не в интересном ли невестка положении. Да и пора бы – скоро год как замужем.
– Николашу расспрошу, – решил, – если и вправду радость такая, свечку надо поставить да молебен заказать за здравие.
Милица тут над ним посмеялась бы. Сказала бы – полон ты, милый друг, старорежимных предрассудков.
– Я и сам – старорежимный предрассудок, Милушка, – ответил ей Николай Савельевич, – свыше сил стараюсь, тянусь за новым, а все зря. Рад бы в рай, да грехи не пускают.
Милица еще посмеялась и пропала, зато пришла Матрена, которую видеть Николаю Савельевичу совершенно не хотелось. Он думал было прогнать надоедную бабу, но сыновья усадили ее за стол, налили рюмочку, а когда узнали, что в дом переселилась, обрадовались.
– Все к лучшему, Матрена Ивановна, – говорил Владимир, а Николай согласно кивал. – Отцу постоянный пригляд нужен, а дома у вас Шурка одна справится. Если что нужно, только скажите, мы мигом управим. Дивчины помогут, да, Лидуся?
– Дивчины-то помогут, – досадовала про себя Матрена Ивановна, – скатерть загадить с салфетками, посуду изгваздать да пепельницы, а я потом стирай-убирай…
– Участковый ходил-интересовался, – подпустила она пробный шар, – уличкомша ему донесла, что не по месту прописки проживаю.
– С Петром уладим, – отмахнулся было старший, но тут нежданно-негаданно младший брат вступился:
– Прописку сделаем. Живите с полным правом. Отец стареет, ему постоянный пригляд не помешает.
– Что это они обсуждают, как будто меня и нету, – удивился и обиделся было Николай Савельевич, но тут же оказался на каштановой аллее с Исаем Абрамовичем.
– Ты, Николаша, носишь фамилию Смирнов, что значит – человек смиренный, долготерпеливый, – говорил тот ему. – Моя же фамилия Цукерман означает «сахарный человек», а жена моя Софа – урожденная Киршенбаум, в переводе «вишневое дерево» …
(– Женюра, принеси одеяло укрыть папу, – приказала Лидия, – здесь сыровато, как бы не простудился.
Женя, глянув на седенького старика, прикорнувшего на диванчике, тоже увидала почему-то в нем ребенка. И послушно пошла за одеялом.)
– Дочь моя Фаня вышла за Мотю Ярошинского, и все дети их, и мальчики, и девочки, будут зваться «наследники», – продолжал втолковывать Николаю Савельевичу старый Исай.
– Так-то, Николаша, populus, populi ad vitam resurgit, – заключил он на латыни.
Николай Савельевич хотел сказать, что латынь подзабыл и сказанного не разумеет. Но Исай исчез, оставив его на бесконечно уходящей вдаль аллее, усыпанной осенними каштановыми листьями, с плавающими в синих лужах колючими шариками плодов…
…
Если бы Николая Савельевича спросили о возрасте, он бы сильно задумался. Вроде и лет не так много. Но столько всего промелькнуло, словно и не с ним было. Из мальчишки, бегавшего босиком вокруг избы в Черкизово он превратился в товарища в отцовском торговом деле, после – в добросовестного советского служащего. Детство почти забыл, помнил себя городским обывателем. Помнил первую встречу с женой, дочерью вылечившего его от инфекции легких доктора Петра Виноградова. Милица была вольнолюбивой девицей, собиралась учиться на курсах. Но любовь закрутилась, она бросила свои идеи, свадьбу сыграли поспешную. Возражать было некому, мать умерла рано, а отец ей потакал и ни в чем не отказывал.
Квартиру молодые сняли на Сретенке с видом на монастырь да дальние кремлевские башенки. Ходили в театры и концерты, синематограф посещали… Ресторации, извозчики, холеные цирюльником усишки мужа, парижские наряды жены – все было таким модным, современным, городским.
Милица заявила, что в Москве летом душно, а у Николаши слабое дыхание. «Надобно дачу!» – сказала, а для Николая Савельевича ее слово было закон. Он приобрел участок земли в Мезне, где шло большое строительство. Двоюродный дядя его Афанасий Хромов состоял в Мезенском попечительском комитете по благоустройству и в выгодной покупке поспособствовал.
К тому времени, как дом был готов, Милица к теме природной жизни охладела. Шла война и вечный праздник беспечный поблек. Грянули беспорядки, а после революция.
В городе опасно, голодно, тревожно стало. Николай Савельевич хорошо запомнил, как дежурил ночами в подъезде с соседом, Никитой Потаповичем Окунёвым. У обоих при себе был заряженный револьвер. Ждали мародеров, бандитов и грабителей. После такой ночи велел Милице вещи собрать и бежали они от трудных кровавых будней города. От греха подальше, в Мезню. Мезня – рядом, рукой подать, а в ней тишь, гладь, благодать, никаких потрясений. Полк солдат на даче Олексеенко расквартирован, да и то – настоящие революционные солдаты, а не переодетые разбойники.
Первое время сидели ниже воды, тише травы. Постепенно окрепли, крылья расправили. Кто бы поверил, корову завели! Милица сама, ручками своими доила, возила бидоны молока в Москву на продажу. Квартиру, понятно, сдали государству, в доме прописались. Жизнь стремительно менялась. Сыновья росли новыми, другими людьми. Оба закончили школу с отличием, один за другим без экзаменов поступили в Московский университет. Владимир закончить образование успел, жениться. И тут пришла война.
В ее трудные годы они не так бедствовали телом, как душой.
Война чуть не отняла младшего сына, красавца и Милицыного любимца. Николай ушел с университетской скамьи на военную учебу и вскорости уже летал на истребителе. Опаснейшее занятие! Письма редко приходили, Милица от переживаний исхудала, потемнела вся.
Старший сын жил в Москве, на фронтах не воевал, работал на оборону, имел бронь и воинское звание. Помогал, чем мог. Младшенький тоже офицерский аттестат родителям оставил. Два раза был ранен, лежал в госпиталях, но долетел до Берлина и с победой домой вернулся. Живи да радуйся, но недолго времени спустя Милушка ушла.
Прошлое мелькало, как калейдоскопические картинки. И казалось Николаю Савельевич, что оно было не с ним, а с кем-то другим. Будто бы большой мир сузился до коридора, которым он пробирается почти наощупь, а остальное видится отдельно, словно за стеклами. Да и время стало совершенно неуправляемым. То тащится, как старая кляча, то вдруг несется паровозом, так что все мелькает на ходу. Иногда неделя проходила, а как прошла, Николай Савельевич и вспомнить не мог. Выручала привычка вести дневник. Писал кратко, но скрупулезно, тетради хранил под замком, подальше от чужих глаз.
… Днем этим выспавшись, к ночи никак не хотел уснуть и записывал аккуратно, царапая немного затупившимся перышком:
«Троица. Теплая, ясная погода.
У станции торгуют земляникой.
Радость! Были гостечки из Москвы: Володя с Лидусей, Николаша с Женечкой.
Галочку отправили к Лидусиным родителям кушать ягоды и фрукты, набираться здоровья.
Матрену Ив. будут прописывать. Так решил Володя…
1.11.Поздний вечер раскидал розовые облака по темной синеве, цветы запахли сильнее, соловей выводил фиоритуры. Только бы дышать, смотреть и слушать – но гости отбыли в город. Николай Савельевич задернул в комнате плотные гардины. А Матрена Ивановна воспринимала явления природы лишь через бедствия или практическую пользу.
Но даже смерч и ураган не поколебали бы восторга, которым она сейчас щедро делилась с соседкой по коммунальной кухне. Татьяны Степановны она не стеснялась, знала, что не донесет, не сглазит, не разболтает. Звала ее про себя овцой беззубой и рыбой бессловесной, но открыться порой только ей могла.
Она могла торжествовать. Владимир сказал, что сам насчет прописки телефонирует и никаких проволочек быть не должно. Кроме того, сыновья обещали ей тайную прибавку к жалованью – чтобы неусыпно блюла здоровье и удобства старика-отца.
Татьяна Степановна говорила мало и тихо, всего и всех опасалась. Старая дева с сомнительной родословной (отец священник), вела фортепиано и сольфеджио в гущинской музыкальной школе. То есть была овца и рыба не простая, а ученая.
Тридцать-сорок лет назад она была – красавица. Служила гувернанткой у богатейшего купца Олексеенко, выезжала с семьей на дачу, за границей бывала. После Октябрьской купеческую дачу-дворец под постой революционного полка реквизировали, Олексеенко застрелили прямо на ступеньках высокого крыльца с резными балясинами. Семью арестовали. Татьяна спаслась у соседей.
После гражданской войны дачу передали детскому дому Всероссийского общества слепых. Детишки в детдоме были разные, от воспитанников богоугодных заведений до беспризорников, но все жалкие сироты, инвалиды – кто слабовидящий, кто и совсем незрячий. Татьяну Степановну взяли преподавать слепым нотную грамоту и фортепьяно, а также вести хоровые занятия. Она выучилась пользоваться брайлевскими нотациями и с детишками занималась хорошо, терпеливо. Еще их учили играть на духовых инструментах – флейте, трубе. Через годик-другой Мезенский хор и оркестр слепых детей славился не только в поселке. На летние концерты для населения с классической программой приезжали гости издалека, один раз даже из самой Германии, слушали, восхищались.
Директором детского дома был Иван Петрухин, музыкант от Бога и дирижер, тоже слабовидящий, выпускник Императорского института слепых, вдохновенный гений музыки и пламенный революционер. А Татьяна, как пушкинская тезка, – сама душа, поэзия, русая коса, глазищи в пол-лица. Возник роман, тайный и страстный, но недолгий.
Детский дом расформировали, решили, что слепым деткам нужно больше трудовых навыков прививать и передали их в учебно-производственные предприятия. Иван Петрухин сгинул, как не было, поговаривали, что оказался враг народа, но никто точно не знал. Татьяна осталась без работы, да под подозрением в порочащих связях. Какое-то время перебивалась с хлеба на воду, добрые люди помогали; после, когда народ стал зажиточней, ходила по домам со своей нотной папочкой, учила местных и приезжих на лето недорослей по клавишам барабанить. После войны в Гущино музыкальную школу открыли, туда она неожиданно легко трудоустроилась. Тогда уже не так смотрели на происхождение и партийную принадлежность.
С годами она высохла, от бывшей красоты лишь глаза во все лицо остались. Волосики седые жиденькие, остатки богатой косы, забирала в шишку на затылке, прикрывала беретиком или шарфиком. Тайком бегала в церковь Черкасовскую, истово молилась, свечки ставила. Дома ходила бочком по стеночке. Мишка Шишкин приучил.
– Главное, мне Сашку прописать, Степановна, – говорила Матрена, – я свое отжила, а ему только начинать. Савельич старый уж, детям его ничего не надобно, а сколько добра пропадет, ежели хозяина не будет…
– Подождите, Матрена Ивановна, – робко возражала умудренная жизнью «овца», экономно разбавляя чашку кипятку каплей жидкой заварки, – с чего вы Николая Савельича хороните раньше времени? Да и имущество-то, небось, у него в собственности, хоть земля и государственная, а к дому приписана, дом, стало быть, детям достанется, если что… не дай Бог.
– А прописка на что! – горячилась Матрена, – если что, и в суд могу пойти. Неважно, кто ты по званию. Мое – мне по закону вынь да отдай.
Татьяна Степановна не отвечала, но смотрела будто с жалостью.
– Что взять-то с нее? – подумала Матрена, – овца, она и есть овца. Да еще и паршивая. Но все ж порой и от такой нужен шерсти клок.
Матрена вздохнула и подвинула блюдечко с вареньем.
– Ешь варенье-то, – ворчливо сказала она, – а то скоро ноги таскать не будешь.
Татьяна Степановна благодарно закивала и взяла варенья на кончик чайной ложечки.
Обсудили кому мыть коридор и кухню на этой неделе, а также новых соседей, недавно въехавших и живущих с другого входа. Пришли к выводу, что люди вроде неплохие, тихие, хозяйственные.
– Погуляй, Степановна, завтра с утра с мальцом, – в окончании беседы не то попросила, не то приказала Матрена, – Шурке на работу выходить, а мне по делам отлучиться надо бы.
Татьяна Степановна помолчала. Назавтра был Духов день, и она собиралась к заутрене в Черкасовский храм. Но состояние ее после сегодняшней праздничной службы было возвышенное, просветленное и ссориться ни с кем не хотелось.
– Погуляю, отчего не погулять, – отвечала кротко, – постучите мне в дверь, как Сашеньку соберете.
– Ладно, – подытожила Матрена, – спаси тебя Бог, соседушка.
Интеллигентское «выканье» ее раздражало, но она никогда не оговаривала за него Татьяну Степановну. Была неизъяснимая сладость в том, чтобы слушать эту почтительную речь, а в ответ – по-свойски, по-простому – отвечать на "ты". До революции в семействе, где прислуживала Матрена, господ называли только на «вы», обращались по имени-отчеству, или «барин, барыня». Прислуге же «тыкали» без малейшего стесненья, поди туда-сюда, подай то-се. Теперь она сама стала, как та барыня, – а где они, ее господа хорошие?
…
Татьяна Степановна представила, как она пойдет неспешно с колясочкой, погожим утром, по широкой зеленой улице. Свернет налево, к бывшей даче Олексеенко. Хорошо, что не отдали ее под рабочее общежитие, взяли под свое крыло художники-писатели.
Они с Сашенькой постоят у ворот с расписными райскими птицами, посмотрят сквозь замысловатые прорези забора на бревенчатый особняк с остроугольными башнями. Жаль, что ближе не подойдешь. Потому что стены снизу доверху украшены резными панно с завитушками. Там чу́дные растения, чудны́е животные. И летит над деревянными кудрями волн Царевна-лебедь, похожая то ли на крылатую русалку, то ли на сирин-птицу в вычурной короне. Татьяна Степановна возьмет младенца на руки, покажет ему дом, познакомит с единорогами, семарглами, жар-цветами и самой царицей Дома, Лебедью.
– А после пойдем с ним Спасом Нерукотворным любоваться, – решила про себя Татьяна Степановна. – Чтобы подрастал ребеночек уже с красотою в памяти.
А что до службы – так встанет рано, да сама дома по Уставу помолится. Попросит за себя, за знакомых и незнакомых. За странствующих и путешествующих, за воинов российских, за отца Федора из Черкасовской церкви, за святейшего патриарха Иосифа. За девочек Морковкиных, Смирнова Николая Савельевича, Матрену Ивановну с семейством, отдельно – за Мишку бесноватого:
«Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят.»







