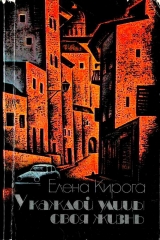
Текст книги "У каждой улицы своя жизнь"
Автор книги: Елена Кирога
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Ты же знаешь Эсперансу. Она очень добра к своим подругам. Они из нее веревки вьют.
Эсперанса сама пригласила Рейес:
– Если хочешь, заходи, только у меня сеньоры.
Рейес рассмеялась, а потом так откомментировала:
– Эти дамы такие чопорные, и вдруг я, представляешь? Даниил во рву со львами.
И они захохотали как одержимые, хотя у Эсперансы немного свербило на душе, поскольку она была искренне к ним привязана, а они со своей стороны любили ее и заботились об Агате.
Рейес интуитивно угадывала правду и говорила:
– Эти сеньоры очень кстати в твоем положении. Они превозносят тебя до небес. А так как у них повсюду родственники и они только и делают, что говорят, то ты можешь спать спокойно...
Эсперансу задели ее слова.
– Я и так могу спать спокойно. Ты не хуже меня знаешь, – она сделала ударение на последнем слове, – все, что я делаю, я могу делать, ни от кого не таясь. И не потому, что мне не подворачивается случай...
– Вот-вот. Ты только и делаешь, что ходишь туда-сюда, почти не бываешь дома, где-то ужинаешь, возвращаешься домой бог знает когда, путешествуешь со своей дочкой или же одна отправляешься в Париж... одним словом – сама себе хозяйка... И не будь ты самой собой, то давно бы пропала!
– Кто и что может сказать обо мне?
– Кому ты рассказываешь! Ты же холодна как лед.
Эсперанса не выдержала и ехидно заметила:
– Знаешь, Рейес, все дело не в холоде, а в принципах.
Натянутость в их отношениях длилась недолго: Рейес любила Эсперансу и знала, что дело и в том, и в другом.
XI (Продолжение)
Мать Фройлана, будучи в своей усадьбе в Эстремадуре, получила исчерпывающую информацию от своей племянницы, которая общалась с Эсперансой.
"Разведенная. Ее бывший муж вступил в гражданский брак с другой женщиной, и у них есть сын. Они ни с кем не общаются в отличие от Эсперансы, которая вхожа в самые изысканные круги".
– Мне это не нравится.
– Мама, но чем они-то виноваты?
– Мне это не нравится, сын. Мне не по душе это внебрачное сожительство. Семья есть семья, она должна быть с отцом и матерью, как богом положено.
Впервые сын отдалился от матери... Потом высказал свои доводы отцу:
– Взваливать вину на девочку. . Она и без того достаточно несчастна.
Отец ответил ему, отводя взгляд в сторону:
– Ты же знаешь маму. Да и в чем-то она права. Все же пример...
– Но ведь Эсперанса для нее хороший пример... Превосходная женщина, осталась совсем молодой без мужа, хуже, чем без мужа... ее бросили ради какой-то другой женщины... никто не может сказать о ней дурного слова.
– А ты не перечь матери... Если все так, как ты говоришь, поверь мне, со временем...
Но Фройлану не терпелось жениться. Сложившаяся ситуация подталкивала его к этому.
– Я тебя прошу только об одном, мама: поедем в Мадрид, я тебя с ними познакомлю.
– Где это видано? Из-за какой-то пигалицы... Ты с ума сошел! К тому же сейчас я не могу, священник на целый месяц наложил на меня епитимью.
Фройлан, потеряв всякую надежду и ничего не сказав родителям, уехал в Мадрид.
В тот день в Махада-ла-Реал родители за обедом хранили молчание. Их младшие дети – Себастьян и Анита – пытались, как могли, оживить разговор, не упоминая Фройлана. Под вечер Ремедиос в сопровождении мужа заняла фамильную скамью в приходской церкви. Закончив молитву, все встали и запели гимн пресвятой деве.
"Я не могу уехать. Людям нравится видеть нас здесь, молящимися вместе с ними. На нашей скамье. Если бы мы не приходили сюда, возможно, многие тоже не пришли бы. Ну что за сын, пресвятая матерь божья... Мне не по душе эта свадьба. Здесь, в Севилье, предостаточно хорошеньких девушек! Взять, к примеру, хотя бы дочь Анхелиты... Так нет же. Все норовят сделать по-своему. Нельзя их отпускать отсюда ни под каким видом. Конечно, они должны вступать в брак, но разве заставишь жить в глуши девушку, которая привыкла жить в Мадриде и разъезжать по заграницам. Правда, она занимает в обществе завидное положение. Живет под присмотром матери... С этой стороны вроде бы все в порядке. Но отец... От него можно ждать любой неожиданности".
Вокруг головы пресвятой девы сверкал маленький нимб. "Как я уеду? А Анита? А Себас?
Хорошенький пример подает им старший брат! Дочь Анхелиты так бы ему подошла. Ее мать – моя подруга с юных лет, еще в девичестве".
Себастьян и Анита молили бога, чтобы Фройлан женился. Агата была для них новым человеком. Сулила им новых друзей, подруг. .
Они никому не говорили, что у Фройлана в ящике ночного столика хранилась фотография Агаты в купальнике. Анита позвала Себаса и показала ему ее, а мальчик отпрянул назад, словно ему в лицо полыхнул огонь.
– Это его дело. Вдруг он войдет. .
Но Анита продолжала разглядывать фотографию, и Себас снова заглянул через ее плечо, чтобы рассмотреть Агату получше.
– Она очень красивая, верно?
Себас не ответил. Ему было совестно смотреть на невесту своего брата, любоваться тем, что принадлежало не ему. И он разглядывал ее украдкой.
На другой фотографии Агата, стоя за спиной Фройлана, обнимала его за шею и улыбалась молодой, победоносной, вызывающей улыбкой. Анита сказала:
– Пусть уж лучше поженятся.
Они осторожно убрали фотографии в ящик и тихонько закрыли его так, чтобы он не скрипнул.
И вот теперь Фройлан по дороге от почты к дому думал о своих родителях. В нем поднималась гордость от сознания, что у него именно такие родители, какие они есть. Его мать была просто матерью. Никто не мог бы сказать: "Они как брат и сестра". Его матери, разумеется, это не понравилось бы. Ее гладко зачесанные спереди волосы, собранные на затылке в тугой пучок, уже начали седеть. Она никогда не подкрашивалась и, если хотела хорошо выглядеть, обильно пудрилась рисовой пудрой и легким движением, немножко растянув губы, подмазывала их помадой натурального цвета. Глаза у нее были кроткими, девственно чистыми, материнскими.
Она всегда сидела на высоких стульях, потому что сильно затягивала себя корсетом, и грудь ее выпирала. Если она надевала платье с высоким стоячим воротничком, то вместо корсета пользовалась белоснежным бюстгальтером... Фройлан почувствовал детское наслаждение при воспоминании о матери. И вдруг ясно осознал, что иметь такую мать, как у него, значило прийти к жизни с жезлом в руках и с крыльями за спиной...
Кроткий отец, возвращаясь из своих владений домой, усаживался подле жены у горящего камина. Он всегда сопровождал ее на все праздничные богослужения и ездил с ней в Севилью, чтобы нанести визиты бесчисленному множеству знакомых. Только иногда вырывался на часок-другой в казино. "Мне нравится, сын, что у тебя столько хороших друзей..."
Иногда во время престольного праздника в Махада-ла-Реал он нес носилки со статуей Христа – покровителя их селений. Деревенские ребятишки смотрели, как несли носилки, засунув палец в рот или ковыряя им в носу. "Сеньоры..."
Зрелище это поражало своей красотой: балдахин удалялся по сухой пыльной дороге, по обеим сторонам которой росли низкорослые, разлапистые оливковые деревья – богатство тех мест. Господь бог всегда любил оливковые деревья: он молился среди них, у него на лбу выступил кровавый пот. И люди славили бога, который породил на их земле оливковые деревья. Солнце искрилось в золотых нитях, которыми монашенки украсили края балдахина, и на позолоченных носилках.
Сельские жители обнажали головы, преклоняли колени, когда мимо них проносили всевышнего. Балдахин отбрасывал тень на священника – благостную тень в тех золотистых лучах, которыми искрились бриллианты изнутри дарохранительницы. (Мама дарила бриллианты всякий раз, когда у нее рождался ребенок.) И рядом с оливковыми деревьями, пыльной выжженной тропой, плюмажами участников процессии, сверкающим золотом простота Пана – удивительное воздействие! – казалась более величественной, более трепетной.
Фройлан много раз сопровождал процессию, будучи мальчиком и юношей... Свеча нагревалась в руке. Всевышнего сопровождали одни мужчины. Женщины стояли на коленях по краям дороги, а придя в усадьбу, сооружали в просторном патио алтарь под балдахином, пока всевышний отдыхал какой-то миг в доме. И его мать готова была первой из сельских женщин преклонить колени и дать приют всего на несколько минут Тому, в кого беззаветно верила, кому скромно служила, потому что научилась этому с самого рождения, как научилась говорить, улыбаться.
Фройлан видел материнские глаза, обращенные к нему: "Когда-нибудь ты займешь мое место". Но вряд ли он смог бы когда-нибудь поселиться с Агатой в Махада-ла-Реал, идти вместе с процессией по утрамбованной дороге и нести носилки. Разве что его младший брат Себас.
(Себастьян собирается жениться на дочери Анхелиты. В свое время мама, очевидно, прочила ее в жены мне.)
Папа хотел произвести раздел имущества. Он никогда не говорил об этом с ним, но понял, что отец принял окончательное решение оставить имение младшему сыну. Мама не одобряла такого нарушения правовых норм.
"Да, мама с Агатой никогда не поймут друг друга. Они всегда будут сохранять между собой дистанцию, потому что обе любят меня. Их связывает любовь ко мне, но между ними нет общих точек соприкосновения. Их специально не создашь. В душе каждая из них защищается. Мама, наверное, думает, что если мне нравится Агата и я ее люблю, то это направлено против нее. И Агата рассуждает точно так же..."
Фройлан улыбнулся. Агата была его благом. Его настоящим сокровищем.
"А девочки... Девочки будут жить".
Он подумал о Вентуре, о дедушке, который только что умер, так и не увидев внучек.
Бедняга! Они могли бы подружиться. Что-то подсказывало ему, что Вентура и он могли бы поладить между собой.
Теперь уже поздно.
И вот Агата собралась пойти туда. Делая над собой усилие. Он это знал. Но на сей раз, может быть первый и последний, не намеревался избавлять ее от страданий, отступать, ибо не хотел, чтобы Агата переживала потом еще и от того, что не пришла проститься с телом покойного, а это уже само по себе значило бы молча простить и признать его отцовство.
Мысль о том, что его дочери сказали, будто он умер, должна была убить его при жизни. Он так и носил бы в себе этот печальный труп.
Но это было бы лучше, чем узнать теперь, что пришло время, когда Агата узнала правду – вернее, полуправду – от Эсперансы. В ту же минуту, повинуясь внутреннему зову, он неистово захотел не быть похороненным навечно. "Мертвый. Мертвый. Уж лучше мертвый".
XII
Половина первого. Полдень. Полдень в квартале Латина, на улице Десампарадос.
Короткая, неровная улица, ни просторная, ни тесная, мощенная каменными плитами во всю ширину, вполне достаточная для того, чтобы поодиночке идти навстречу приключениям или опасностям. Или вдвоем, тесно прильнув друг к другу, как хорошо пригнанные полы запахнутого плаща. Вдоль улицы тянется канавка из прочно утрамбованных в землю камней, со стоком, выложенным плитками посредине. По улице Десампарадос никогда не смог бы проехать автобус, а если какому-нибудь грузовику и вздумалось бы решиться на подобную авантюру, то его гигантские толстые колеса тут же вздыбились бы. Ребятишкам, которые смотрят на него, спрятавшись в подъездах, эти колеса действительно кажутся гигантскими, поскольку улица не предназначена для движения транспорта.
Древняя спокойная улица, с присущими ей горделивой скромностью и возвышенной простотой. Дома с короткими навесами под покровом изогнутых черепиц и каморками привратников. Таинственная, укромная, удивительно молодая улица, которую не успели затоптать.
Поскольку она слишком коротка – сразу же обрывается, и непонятно, то ли кончается, то ли поворачивает, – здесь живет мало народа, и, вероятно, именно поэтому про нее можно было бы сказать, что тут умирает меньше людей, чем на любой другой улице, хотя детей рождается на свет столько же. Все жители принимают участие в ее жизни, во всех ее происшествиях.
Эта мадридская улица находится всего в нескольких шагах от Королевского Дворца, который прекрасно обозревается сверху среди зелени парков с тисовыми деревьями, туей и серебристыми тополями, рядом с небольшой площадью Санта-Мария-ла-Реал на пути к Виадуку и к улице Дон-Педро.
К улице Десампарадос имеются два подхода.
Справа туда ведет крутая лестница по семь ступеней в пролете, которая наверху круто изгибается над рощицей и газонами Байлена. В углу улицы возвышается старый, проржавленный фонарь с жарким, зеленоватым газовым пламенем. Чудесное, таинственное, трепетное, продолговатое пламя над улицей светится, словно неусыпный маяк.
И совсем как артерия от организма от улицы Десампарадос идет вниз улица Канонигас, которая, минуя перекрестки, устремляется к другой лазейке. Двери домов выходят на улицу Донселес. Надо только подняться по площади Ромалес, оставив в стороне приходскую церковь Сантьяго и улицу Лемос, слегка поднимаясь – едва-едва ощущая подъем при ходьбе, поскольку с этой стороны он пологий и широкий. Среди старых кварталов и убогих домишек с проржавелыми брусьями балконов, возвышаясь или опираясь на эти домишки, стоят два солидных дома с каменными колоннами по краям подъезда, выложенного гравием. С самой вершины улицы Донселес видны церковь на улице Сакраменто, маленькая площадь Санта-Мария-ла-Реал, старые дома в глубине извилистых улиц.
Справа улица Донселес сливается с улицей Десампарадос, которая тут же обрывается на спуске. И делает это самым элегантным образом – благодаря лестнице с пролетами и балюстрадой, по краям которой растут серебристые тополя, туя, кедровые деревья. Вдали за зеленым Кампо-де-Моро, с его густой ветвистой растительностью, раскрывается суровый, дикий пейзаж с бесплодной, пустынной, желтоватой пересохшей землей. Новая автострада отделяет район Эстремадуры от строений ярмарки Дель-Кампос с ее провинциально-городским пейзажем, устремляющимся ввысь в ночи. Справа от нее на горизонте буро-зеленые заросли Ретамарес с его охотничьими угодьями и коптильней в глубине. А чуть ниже прохладная и густая зелень Каса-дель-Кампо. Северный вокзал. Боковые очертания горных хребтов Вильяльбы, Эскориала... Слева от автострады, на линии горизонта – Куатро-Вьентос. А немного ближе – кипарисы среди мраморных гробниц древнего Сакраментала.
Но те, кто живет на улице Десампарадос, уже не замечают отсюда этой части Мадрида. В домах есть подвалы, куда проникает дневной свет сквозь зарешеченные проемы на тротуаре. Здесь обитают спокойные, мирные люди. Но время от времени молодежь будоражит привычный покой улицы своей непокорностью или страстями. И тогда жители с присущими каждому темпераментом и эмоцией наблюдают за теми, кто нарушил устоявшийся здесь извечный покой. В нижней части улицы нет никаких торговых точек, кроме угольного ларька, сапожной мастерской в подъезде и пекарни на улице Канонигас. Им здесь негде расположиться. Торговцы пристроились по другую сторону домов – в основном тех же, но уже выходящих на улицы с иными названиями.
Недавно улица была потрясена неожиданным событием: в одном из подвалов обнаружили подпольную типографию фальшивомонетчиков. Мужчины в штатском бродили по кварталу, заходили в магазины, заводили знакомства, а ночью устроили облаву. Собралась толпа, чтобы посмотреть, как вели к машине Маноло, Криспина и Феликса. Просто не верилось: их хорошо знали, с ними общались, вместе ходили в таверну пропустить по рюмочке. Теперь они не смотрели в глаза соседям и казались совсем не такими, как обычно, а хмурыми, мрачными, напуганными. Да и сами жители были напуганы не меньше. "Кто бы мог предположить..." Ни о чем другом в квартале не говорили, а если говорили, то шепотом. Потом они увидели, как втаскивали на грузовик станки, ротационные машины и опечатывали дверь. Подвал превратился в пещеру.
Жители этого дома, проходя мимо, косились на опечатанную дверь, а ребятишки подходили поближе посмотреть на нее.
– Уж они там поработали.
– А может, там есть чем поживиться!
– Феликс у них был за кассира.
Взрослые со страхом разглядывали на свет купюры, опасаясь, что они фальшивые: "Ну уж, это было бы свинством по отношению к соседям..."
Из таверны выскочила Пака, жена трактирщика, – и, потрясая в воздухе бумажными деньгами, закричала:
– Сукин сын! И это после того, как мой муж иногда продавал им в кредит. .
Пресенсия, глядя из окна на мужчин, которых увозили, вспомнила слова Вентуры:
– Они научились нетерпимости и честолюбию...
Их лишили радости.
Он терпеть не мог пересудов соседей. И она ничего не рассказала мужу, не желая распространяться впустую.
Однажды зимой из семьи, проживавшей на седьмом этаже, исчезла старшая дочь. Сначала родители никому ничего не сказали. Но потом, когда всем стало известно, соседи вспомнили, что последнее время она уезжала на машине в сторону шоссе и едва отвечала на их расспросы.
( – Подумаешь, какая важная...
– Как будто бы мы никогда не были молодыми и такими же хорошенькими.)
Но об этой истории Пресенсия ничего не знала.
Словно порывами шквала обрушивались иногда на старую улицу отзвуки и скорбные отголоски послевоенных лет. (Муж портнихи жил во Франции и не мог вернуться назад, поскольку ушел туда с красными. Портниха всю свою молодость провела в таинственных сборах в путь, которого так никогда и не совершила: "Не знаю, смогу ли сшить вам что-нибудь в будущем году, донья Пура. Я уже подготовила все нужные документы... Один друг сказал мне, что муж там неплохо устроился – он ведь настоящий мужчина – и ждет не дождется, когда я к нему приеду".
Зато соседки комментировали это иначе: "Разве не странно, что муж не вызывает ее к себе?
Наверное, нашел себе другую. А бедняжка здесь мается...")
По ночам на улицу Десампарадос выскакивают коты. Днем они греются на солнышке, сворачиваясь клубком, или же в каморках привратников, а ночью прыгают по ступенькам лестниц или же устремляются к рощице, пугая прохожих. Влюбленные парочки, которые кружат по площади Орьенте или приходят сюда с улицы Байлен, находят себе пристанище на городской стене рядом с деревьями. Маленькое пламя газового фонаря не достигает их. В ночи фонарь кажется смутным, близким, человечным. Детям квартала говорили, будто по ночам он отворачивается от домов и его не видно из-за городской стены. Пресенсия каждый день поднималась по уличной лестнице, но, сколько бы он по ней ни ходила, ей бы и в голову не пришло никогда, что за стеной, совсем рядом, что-то могло произойти – у алчного пламени фонаря, там высоко, у ее окон. Ей нравилось смотреть отсюда на свой дом: "Там, за балконом Вентура..."
Здесь, на этой интимной, безмолвной улице их любовь струилась бы широким, глубоким потоком. Разве можно любить при ярком свете ламп?
Вентура говорил, что любить можно всегда, любовь не нуждается в укрытии.
Как-то раз они отправились посмотреть на новое освещение бульваров. Шли под руку, но, как только достигли проспекта Принцессы, отделились друг от друга. Они шагали под этим антисептическим, ослепительным освещением как две тени – одна из них совсем ничтожная, – как два лунатика, затерянных в Мадриде. Шли молча, постепенно осознавая свою значимость.
Дойдя до перекрестка Сан-Бернардо, они одновременно оглянулись, но не увидели за собой теней при ярком отвесном свете, излучаемом вереницей склоненных стеклянных ламп. Пресенсия сказала:
– Как в операционной.
– А может быть, так оно и есть. Может быть, мир сейчас – это огромная операционная, и, чтобы жизнь сохранилась во время операции, следует избегать теней.
Она посмотрела на него с улыбкой.
– У тебя лицо как у привидения. У меня, наверное, такое же при этом освещении.
Пресенсия подняла голову и посмотрела на Вентуру: губы его имели белесый оттенок, бледность лица стала голубоватой... Она в отчаянии прижалась к его руке.
– Вот так хорошо. Надо идти, пока идется.
Жить, пока живется, Пресенсия. Нельзя замыкаться в себе.
А потом добавил, печально улыбнувшись:
– Наш фонарь состарился в одну ночь.
Он показался им еще более теплым, чем всегда. Жаркое конусообразное пламя отбрасывало тусклый свет, уважая тени. Их лица заполнились тенями под фонарем. Прекрасными человеческими тенями: у ноздрей, вокруг глаз, где-то у рта, где-то у висков...
Они возвращались из водоворота цивилизованной части города в свою тихую заводь.
Вышли из метро на площади Оперы и направились к площади Орьенте по улице Энкарнасьон: Вентуре нравилось здесь ходить. Мирт, кипарисы, камень, решетки. Площадь Орьенте показалась им более внушительной, волшебной в ночи. Пресенсия намеренно не заметила, что тень от руки мужа укоротилась, потому что низкие зеленые тени едва угадывались и невозможно было понять, заросли это или кустарники. Статуи стали призрачными и застыли, словно в старинном танце.
Только несколько ступенек лестницы отделяло их от Мадрида времен Бурбонов, от мрачных улиц церемониального Мадрида времен австрийцев.
Под сенью платанов на скверах улицы Байлен Пресенсия всем своим существом ощутила присутствие мужчины рядом. Они вместе жадно склонились над перилами Виадука, словно под сводами его бежала река. Этот мост открывал вид на старый Мадрид, объединял пышное великолепие и нищету, без каких-либо контуров или очертаний. Едва уловимые звуки, голоса, шум исходили от всех этих домов и переплетенных улиц: жизнь, старость, смерть – человеческая турбина, способная привести в движение народ.
Пресенсия и Вентура смотрели и слушали. Как вслушиваются в шум волн, разбивающихся о скалы. Им всегда нравилась эта прогулка. Только во время такой прогулки и в скверах Куэсты-ла-Вега они могли побыть вдвоем.
Пресенсия жила на улице Калатравас. Она выходила из дома легкой походкой, избегая чужих взглядов: ей казалось, будто все замечали, что с ней происходило. Они не назначали свиданий, а встречались по пути. Он брал ее под руку. И так, рядом, они шли к Виадуку или сидели в скверах Куэсты-ла-Вега. Няни всегда следили за влюбленными парочками. Но эти двое их удивляли. Они способны были просиживать часами на каменной скамье у ворот, среди деревьев, а не на скамьях посреди сквера, ибо жаждали уединения, и почти не разговаривали между собой, а она улыбалась... Они не заглядывали беспрестанно в глаза друг другу, а смотрели вдаль, в глубь зеленых проспектов.
Постепенно няни расходились, уводя с собой детей. И скверы оставались только для них.
(Разве что какой-нибудь старик дремал на скамейке или рабочий, надвинув на глаза берет, отдыхал на лестничной ступеньке.)
Пресенсия думала: "Уже половина первого. Пора возвращаться". Но не могла заставить себя встать, потому что цепенела от солнца, красоты, счастья и от того, что когда сквер становился пустым, Вентура обнимал ее рукой за плечи, привлекал к себе. И они целовались в губы, горячие от солнца, прищурив глаза, ослепленные ясной далью. Вентура задерживал ее немного в своих объятиях, такую маленькую в его руках.
Он ни разу не сказал ей:
– Пора покончить с этим. Мы должны...
Теперь, когда его уже нет, она знала: он никогда бы ее не бросил.
XIII
Солнце начинало согревать комнату. (Никогда уже ее губы не смогут почувствовать тепло солнца через губы Вентуры.) Оно смягчало белизну савана, угадывалось по пересохшему носовому платку. Сидя в кресле, Пресенсия повернулась к окну и увидела вдали все тот же чудесный, суровый пейзаж, которым они могли бы еще столько раз любоваться. Она встала и закрыла створки окна.
Раздался звонок входной двери, послышались шаги. Пресенсия не могла больше отказывать соседям. Раньше, пока здесь находилась Эсперанса, она приказала служанке никого не впускать.
( – А что я им скажу? – С ним его семья.)
Но теперь Пресенсия не могла им отказать. Она едва замечала, как они проходили словно хотели, вопреки всему, отдать ему последний долг, и становились на колени перед гробом.
Смотрели на Асиса, говорили ему слова соболезнования. Но Асис не слышал их слов: они заглушались его внутренними голосами.
Женщины приходили не поодиночке. А вдвоем, втроем или же с мужьями. Доставали четки и молились. Зеленщик тоже стоял здесь, неуклюжий, и робко смотрел на Пресенсию. Но Пресенсия, по-видимому, никого не видела и не осознавала их присутствия здесь.
– Хоть бы слезинку проронила, – должно быть, скажет потом какая-нибудь из них, спускаясь по лестнице. – Ты заметила? У этих женщин нет сердца.
– Бедняга. Он жестоко поплатился.
Одна из соседок шепнула на ухо другой:
– Ты заметила? Она даже не преклонила колени.
Пресенсия сидела, сложив руки на подоле, недвижная, утопая в мягком зеленом кресле.
"Сын мой..."
Ее вдруг охватила усталость. Смертельная усталость обрушилась на нее всей свой силой.
Голова раскалывалась от бесконечных мыслей. Чувства пронизывали все ее существо, мысли преследовали ее, навязывая свою волю. Она стойко сохраняла в себе мужество, пока не пришел Асис. Но когда, охваченная горем, встретила его в коридоре и хотела поцеловать, он отстранил ее.
Она решила: "Сейчас ему не до меня. Он идет поцеловать отца". И вошла вслед за сыном в ту комнату. Она увидела, как мальчик рухнул на гроб, исторгнув из своей груди не крик, а сдавленный стон, и обвил руками бездыханное тело.
"Нет, – хотел он закричать. – Нет!"
И сын позволил себе то утешение, в котором она отказывала себе. Асис рыдал так исступленно, что она поняла: плачет не мальчик, а мужчина. Он положил голову возле его рук и плакал, касаясь их губами, не в силах отвести от них глаз, будто не мог наглядеться. А потом перевел взгляд на лицо отца и, увидев, что оно скрыто, сорвал платок.
Пресенсия закрыла глаза и опустилась рядом с ним на колени. Она не увидела, но почувствовала, как он снова накрыл его лицо платком и весь дрожал. Эта дрожь передалась ей. В горле пересохло, глаза тоже были сухими. Женщина должна быть как вода. Но она не могла плакать. "Хоть бы мне заплакать", – молила она. И не могла.
И стала утешать сына, чтобы смягчить его боль:
– Он не страдал, – сказала она, не смея взглянуть на него, ибо боялась, что сын прочтет в ее глазах ложь. – Все произошло так быстро... Он сразу потерял сознание.
И она, точно слепая, протянула руку, желая прикоснуться к телу сына – плоть от плоти Вентуры, – но руку ее отстранили с такой очевидной преднамеренностью, что она посмотрела на него широко раскрытыми, обезумевшими глазами и увидела, что мальчик спрятал голову за краем гроба. Жестокая правда пронзила ее.
–Ты обладаешь способностью восприятия. Ты улавливаешь наши мысли и чувства, точно приемник звуковые волны.
"Он знает правду. Кто-то сказал ему правду. Асис знает".
И в ту же секунду почувствовала, как на нее обрушилась усталость, лишив последних сил.
Встала, подошла к креслу и провалилась в него, убитая горем. А те, кто приходили и говорили принятые в таких случаях слова, принимали подавленность этой маленькой, беспомощной женщины за дрему или полное равнодушие.
Пресенсия мысленно взывала: "Вентура!", но Вентура не откликался. Молила: "Бог мой!"
– и роптала. Звала: "Сын мой! Сын мой!" – и сотрясалась от боли, словно ее били хлыстом.
(Кто сказал тебе об этом? Кто посмел? Я же тебя предупреждала: "Пора поговорить с мальчиком". А ты отвечал: "Потом. Еще рано". Я настаивала: "А вдруг он узнает? Вдруг ему что-нибудь скажут?" Я не могла жаловаться тебе – не имела права – на то, что соседи окидывали нас оскорбительными взглядами и косились на меня, когда я проходила. "А вдруг он узнает?" "Я расскажу ему, когда он повзрослеет. И сможет понять нас". Я промолчала, хотя подумала: он никогда не поймет нас, Вентура, не обманывай себя. Ты, наверное, хотел сказать, когда он будет в том возрасте, чтобы не понять нас, а простить... Вы уходили вдвоем на вокзал, когда он уезжал в коллеж, но я не ходила вместе с вами. "Мама, а разве ты не идешь с нами?" – "Нет, сынок. Тебя проводит папа". Я смотрела вам вслед с балкона и всякий раз испытывала такое чувство, будто рожала заново, но не для того, чтобы иметь, а чтобы потерять. И думала: "Сейчас они прощаются".
Я знала, что Асис, должно быть, с нетерпением ждет, когда ты обнимешь его, чтобы поцеловать тебя с уважением, восхищением и той нежностью, которая меня в нем всегда пугала. "Чего ты боишься? Ведь это же прекрасно, что у него такая чувствительная душа..." Но твои слова не утешали меня. Мать нельзя утешить тем, что у ее ребенка легкоранимая душа... Ты возвращался с вокзала. Я слышала, как поворачивался ключ в замочной скважине, но не могла пошевельнуться, охваченная тревогой. Ты подходил ко мне, прижимал к своей груди, слегка покачивал из стороны в сторону и целовал в губы. Когда Асис уезжал из дома, ты снова становился моим возлюбленным.
Присутствие Асиса в доме заставляло нас с тобой хранить целомудренные отношения.
Предаваться любви под одной крышей с сыном – хотя мы с тобой никогда не говорили об этом – значило бы сделать его соучастником нашего счастья, а мы ему в этом отказывали. Но когда он уезжал... "Ты думал о том же, о чем и я. О том же самом". "Если бы ты видела, как спокойно он уезжал в школу со своими приятелями... – И, смолкнув на минуту, заметил: – Он становится упрямым". Ты тоже становился упрямым. И когда подходил ко мне и обнимал, то делал это не столько для того, чтобы меня утешить, а потому что сам нуждался в утешении. Мне казалось, что сын чем-то похож на тебя, потому что ты, несмотря на свой возраст, мудрость и мягкую настойчивость, по сути своей всегда оставался для меня ребенком. Думаю, таким ты мне и полюбился. Сначала ты вызывал во мне восторг: профессор столь возвышенной, чистой науки, как словесность. В твоих словах я обнаружила для себя то, о чем лишь интуитивно догадывалась. Что таил в себе неведомый для меня мир, о существовании которого я лишь подозревала. Твои слова служили мне путеводной звездой. Но когда я познакомилась с тобой поближе, меня потрясло твое безграничное одиночество, разъедаемое нежностью. Я увидела, что для твоих идей, для твоей работы тебе необходима взаимная нежность, та отдушина, которая позволила бы тебе обрести духовное равновесие, чтобы мысли твои стали светлее. И когда ты овладел мной, именно я дала тебе все это.)
Какая-то женщина, проходя мимо нее, задела ногой и извинилась:
– Простите.
Пресенсия подняла вверх затуманенные глаза и посмотрела на нее из того далекого мира, в котором жила: "Они мешают мальчику. Асису хотелось бы побыть одному. И Венту ре тоже..." Нет, Вентуре они никогда не помешали бы. Ему нравилось слушать простые, задушевные разговоры других. Он умел внимательно, с уважением выслушивать собеседника. Каждый считал, что Вентуре интересно слушать его. И не ошибался. Вентура не мог оставаться равнодушным к чужим заботам.
(Асис не такой, как ты. Хотя ты считал, что он похож на тебя, и следил за собой, чтобы избавиться от своих недостатков, видя, как он тебе во всем подражает. Как-то я заметила тебе: "Он не такой, как ты". А ты ответил: "В его возрасте..." – "Но разве ты когда-нибудь был таким прямодушным и пылким, как он?" А в другой раз я сказала тебе: "Для него не существует полумер". А ты рассмеялся и воскликнул: "Тогда он не мой сын!" Я призналась: "Мне страшно, " – и сложила в мольбе руки. Ты притянул меня к себе, потому что понял, чего я страшусь. И успокоил: "Не бойся". На какой-то миг я забыла обо всем, слушая, как громко бьется твое сердце в грудной клетке. "Какое огромное сердце!" Едва ты переступал порог дома, вернувшись из университета, сразу же бросал взгляд на маленький комодик в прихожей – не было ли там письма.








