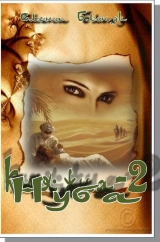
Текст книги "Нуба (СИ)"
Автор книги: Елена Блонди
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Он не узнал. Второй причины, по которой ей не нужен никто из мужчин. Не узнал. И хорошо, потому что как пережила бы она сама оскорбление, нанесенное прекрасному безжалостному наставнику, с мраморным лицом и яркими, как ледяные листья, глазами. Если он узнает, что Нуба взял ее сердце.
Выйдя, она закрутила петли, растягивая штору, замкнула узлы на бронзовые замки и ключ повесила на шею. Прислушалась к тому, что происходило на верхней платформе. И стала спускаться, аккуратно ступая босыми ногами с накрашенными охрой ногтями и подошвами.
Она шла к Нубе, где перед входом в темницу ее ждал жрец Садовник, рассеянно перебирая белыми пальцами большие кованые ключи на кожаной петле.
Глава 15
Время потеряло себя, устало, плутая в сочных зарослях пышных кустов, увенчанных сладкими колокольцами, в белом нутре которых возились испачканные пыльцой толстые пчелы. Время надышалось плотного, как еда, запаха желтых тычинок и, сворачиваясь клубком, легло на упругую траву, смеживая глаза, что до того никогда не спали. Ушло в сон, бросило, забывая, вяло отмахиваясь. Замерло.
Нуба остался один. Наедине с невидимыми стенами, бьющими по плечу, кулаку и коленям, с неизменными пчелами, медленно снующими среди цветов. Наедине с грохотом бронзового замка, впускающего полосу рассеянного света, в которой появлялись фигуры жрецов, окутанные белыми покрывалами в серых складках. Наедине с их непонятными вопросами и ожиданием ответов. С черными рабами, мускулистыми и молчаливыми – за них говорили огненные в своем мелькании плети, обжигающие его спину и шею, пока лежал, туго связанный, как жертвенная коза. Он пил и ел, и если после еды падал в сон, из которого просыпался связанным, то, скручиваясь как огромный черный боб, уже знал – плети будут.
Но побои не нарушали его одиночества и жрец, вольно раскинувшись на принесенном рабами креслице, досадливо махал рукой, прекращая бесполезное наказание. Черные слуги забирали кресло, и тяжелая дверь захлопывалась, скрежетал ключ в замке. А Онторо-Акса, отставив к стене корзинку с едой, стояла на коленях, развязывая узлы на его запястьях и щиколотках. Залечивала раны. Омывала мокрое лицо губкой, смоченной травяным отваром. Кормила, разламывая лепешку сильными пальцами. Поднося к потресканным губам, заглядывала в глаза своими – черными и блестящими. И он, видя в них сострадание, жевал и трудно глотал, чтоб сделать ей приятное.
Он молчал, пока она тихо говорила о пустяках. Следил, как бережно ходит по его роскошной темнице, трогая цветы и гладя листья, садится на корточки у стены, где из трещины торопились одна за другой яркие капли тайного родника. И разглядывая их, смеется, поправляя длинные черные косы. Однажды, устав засыпать от еды, в которую явно намешивали сонную тяжкую отраву, он стиснул зубы и покачал головой, отворачиваясь. И она, обойдя, присела на корточки рядом, заглядывая в его лицо, чтоб видел слезы, бегущие так же, как родниковые капли.
– Меня убьют, – сказала шепотом. Оглянувшись на запертую дверь, быстро прижала к мокрым глазам широкий рукав, весело засмеялась, рассказывая пустяки дрожащим от страха голосом. И он открыл рот, ожидая лепешки.
Иногда сон не приходил. И Нуба, садясь, где велела девушка, следил за ее передвижениями, готовясь не пропустить, куда уйдет, не слыша слов от тяжелого стука своего сердца. Но всякий раз она исчезала внезапно, лишь качались резные листья, скрывая босую ногу и край полосатого подола. Пленник вставал, покачиваясь, брел на слабых ногах (еда, приносимая девушкой, не насыщала и силы оставляли его с каждым днем) к зарослям, ворошил листья, обрывал и швыряя на пол цветы, разыскивая тайный ход, через который скрылась. Ни разу не нашел, только обдирал лоб и кулаки о невидимые стены.
Однажды, когда она закончила кормить и встала, вцепился руками в подол, вклещился в лодыжку – из последних сил, до красных кругов перед глазами, повалил и стиснул тонкую горячую шею. Прохрипел:
– Не выпустят – убью. Сейчас.
И тут время проснулось, на самый короткий срок, только чтоб он ощутил, как под его все еще сильными пальцами замирает дыхание и утекает жизнь. Время стучало его сердцем, раз раз и еще раз, медленно и равнодушно. И Нуба еще перед тем как понял – никто не придет, дрогнул и отпустил, жалея узкое лицо с выпуклыми скулами и полураскрытыми пухлыми губами, тяжелые веки над закатившимися черными глазами, теряющими свой блеск.
Отползя, сел и завыл, раскачиваясь из стороны в сторону, пока она, кашляя, держалась за свое горло. Потом ушла, не сказав и не посмотрев. Он думал – никогда не увидит больше. А когда вернулась, подумал другое – лучше бы не увидел. Женские плечи были исполосованы свежими рубцами, а один глаз заплыл тяжелым мешком. Молча села, двигаясь скованно, превозмогая боль, развязывала узлы, срываясь пальцами. И после, отвернувшись, заплакала, прижимая ко рту край рукава. Он протянул было руку, погладить тугие косы, но увернулась в ужасе, и тут же, задавив крик, улыбнулась, поворачивая лицо к невидимым стенам, заговорила старательно о пустяках.
Тогда он поклялся себе – никогда не обижать ее больше. Послушно ел, слушал, как говорит, много и ни о чем, старательно обходя все, что нужно бы знать ему – что здесь, сколько людей, для чего это все. И что будет с ним. Но был благодарен ей за то, что и она не спрашивает. Лгать не хотел, а за его молчание вместо ответов, был уверен – ее накажут.
Потом она исчезала, и Нуба оставался один. С непрерывно звучащим в голове голосом княжны. Будто она не жила, не спала и не ела, а только, стоя у края воды, все звала и звала, и голос полнился тоской и безнадежностью. Потому что он не отвечал ей.
Иногда, просыпаясь в одиночестве, пытался прогнать сны, навеянные медленной отравой. В них он шел и шел, степными тропами, каменными лабиринтами, проселками, утоптанными копытами коней. Шел к Хаидэ. Но остатки сил, собираясь на донышке души, как медленно собирается влага на дне пустого кувшина, удерживали от встречи. Говорили еле слышным шепотом – встреча опасна. Даже внутри головы нельзя кинуться к ней, показывая себя. Если княжна увидит его сейчас, то ее обнаружат сновидцы. Потому всегда между собой и зовом княжны оставлял тонкую перепонку, прозрачную, как лед на предзимней воде. Мучился ее неведением и печалью, больше всего на свете желая дотянуться, сказать – жив. Не собирается умирать. Выберется и больше никто не остановит его. И всякий раз почти бессознательно останавливаясь, в смутном отчаянии осознавал: скоро сил на остановку не хватит, и он проломит лед, пропуская к Хаидэ темноту.
А потом снова приходил сон, гнал его по дорогам и тропам. Редкие пробуждения были полны плывущих картин, он просыпался из одного сна в другой, и не всегда понимал, выплыл ли на поверхность, или все еще поднимается из глубин, тяжело останавливаясь на очередном уровне. Везде его встречала княжна. Девочкой, какую помнил, живя рядом в маленькой палатке, где спал на входе, завернувшись в облезлую шкуру. Молодой женщиной с яркими глазами и скулами, обтянутыми гладкой кожей с лихорадочным блеском – эту хотелось, и нужно было защитить еще сильнее. Сердце, воспитанное старым маримму, стукало всякий раз, подсказывая – до нее теперь есть дело всему миру и это не опасности дикой степи, где можно наткнуться на змею или отряд скифов, ищущих пленников, чтоб продать в рабство… А иногда видел картины из своих юношеских снов в деревне маримму, казалось ему, забытые. – Видел всю ее жизнь, от рождения на залитой зноем поляне до их встречи на морской реке. День за днем прожитую им во снах, в ее степи, то плошкой, из которой Фития кормила орущую крохотную девочку растертыми пареными зернами, то первым детским луком, закинутым за спину. Или – золотым гребнем, подаренным ей отцом.
Лучше бы ему умереть, как и было назначено, думал, выплывая из очередного сна. Потому что быть частью ее, такой частью, что и разговор мог идти из головы в голову, от сердца к сердцу, минуя язык, а потом стать изгнанным и скитаться, без места в жизни… И не суметь вернуться, услышав ее зов…
Но теперь умирать нельзя. Пока он жив, есть надежда, что выберется и ответит. Там, за пределами черного острова. А пока нельзя говорить с ней. Нельзя!
И он снова проваливался в сон, чтоб слышать, как она зовет его.
Время спало вместе с ним, никак не отмечая своего хода. Но время не останавливается даже во сне.
Жрец-Пастух, выйдя из своих покоев, чистых и просторных, полных рассеянного света (свет был очень ценим тут, в обители темноты, особенно такой – послушный и мягкий), еле заметно кивнул стражам, и пошел по круговой галерее, мимо колыхающихся расшитых занавесей покоев других жрецов.
Как в каждой точке темноты, в горме на пересечении нитей темной паутины, жрецов было шестеро. И, уходя из послушного света в нижний мир, жрецы дотягивались мыслями до другой шестерки и еще до одной, а те спали дальше, держа сеть все время живой и натянутой. Может быть, его грузному большому, еще полному сил телу повезет, и он в земной жизни увидит, как ячеи становятся чаще, образуя между черными точками новые гормы. И сеть, наброшенная на мир, покажет, как будет смыкаться над ним темнота.
Увиденное в голове зрелище, как всегда, заставило его передернуть плечами, прогоняя сладких мурашек под белой тогой. Это как брать девочку, которая боится и плачет, но огромнее. Будто черный свет из одной точки кинулся, расширяясь, и, не изменившись цветом, стал размерами в сотни раз больше источника. Насилие, причиненная боль, тайное и после вскрытое предательство – лишь слабые отблески упоительного наслаждения темнотой. Когда-то она станет всеобъемлющей. Но до того времени все они должны трудиться, не покладая рук. Зло – такая же работа, как любая другая, – строго напомнил себе жрец. И эта мысль тоже несла в себе удовольствие.
Галерея, на которой жили жрецы, была просторна и пуста. Шестеро могли переходить из одних покоев в другие, стоящие в ожидании. Тут же были камеры для изысканных удовольствий с пленниками. Залы для пиршеств. Комнаты с небольшими бассейнами, полными ароматной свежей воды. Входы с лестниц охранялись безъязыкими убийцами, лишенными мозга. Огромные, с толстой рукой, всегда положенной на рукоять короткого меча, они провожали идущего пастуха преданными глазами над чешуйчатой маской. И их жизнь была полна удовольствий – исполнить наказание, когда жрецы утомлялись и хотели просто смотреть, прихлебывая вино. Съесть мяса, много, им не жалели, чтоб силы не покидали стражей. Убить. Выпить резкого быстрого вина. Спать, прижимая к мягкому матрасу подаренную на ночь рабыню, проходящую первый круг испытаний.
Сейчас, поедая Пастуха глазами, двое испытали еще одно удовольствие – коротко звякнув мечами о ножны. Он милостиво кивнул, принося радость безмозглым. Его путь лежал вниз, мимо жилых уровней, мимо рабочих галерей, где трудились ткачи, ремесленники и повара. Мимо тяжкого приглушенного грохота рудников, вгрызающихся в недра черных скал в поисках серебряной и железной руды. По лесенкам, зигзагами опускающимся ниже и ниже, чтоб в самом низу закончиться перед небольшой дверью, за которой каменный лабиринт вел в сердце острова – небольшую шестиугольную комнату, расположенную под центром гигантской воронки. Толща камня отделяла потолок комнаты от площадки самого нижнего уровня. И подумав о нем, пастух прищурил от удовольствия холодные глаза. Райский сад, светлая радость темноты, место для вечного удовольствия избранных из избранных. Те, кто жил на внутренних сторонах скал, смотрели перед собой в рассеянный столб света, мешающий увидеть противоположную сторону, и не знали, что именно скрывает белесый туман. Мало кто из пришедших поклониться злу понимает, что прячется за зыбкой пеленой. Им хватает сытной еды и простых удовольствий. И только четырежды в год люди Острова могут пройти серую пелену и насладиться нижним эдемом. Обратно, в галереи вернутся не все. Кто-то останется там – мухой в сверкающей паутине, кормя собой трудолюбивого паука, и после выпитую шкурку выбросят с верхних скал на дальнюю сторону острова. А кто-то, напитавшись сладким ядом, будет отправлен в большой и светлый мир с особенным заданием.
В темнице черного великана, что так нужен сейчас жрецам – сверкают сонные отблески этого рая. Чтоб ему труднее было собрать остатки сил, чтоб цветы своим запахом отравляли сильную волю. Такие красивые, полные томного желания. И такие злые.
Стоя у маленькой двери, жрец еще позволил себе подумать о сладкой пышности созданного ими эдема и о том, что скоро место в центре его займет мальчик, он уже почти готов вкусить все предложенные удовольствия. Хорошо, что скряга Карума вовремя привез его на остров, еще мягкого в своей молодости, податливого. Но, послушно принимая новую форму в руках умелых сновидцев, мальчик не должен вернуться обратно в свет. Им надо закалить то, что получилось, чтоб он сумел выстоять и не вернуться в истинный свет. Что ж, для этого и создан цветущий сад нижнего уровня.
Под нажатием белой ладони дверь тихо отошла, пропуская его в шестиугольное помещение, устланное мягкими цветными коврами. Пастух сел на ковре, скрестив ноги, расправил тогу, распахнул ее на груди, позволяя серому глазу смотреть. И, положив руки на колени ладонями вверх, сосредоточился, прикрывая глаза. Плавая в безмыслии, слушал, как отдаленные шаги становятся ближе, и тихо ступая по мягкому, жрецы входят, усаживаются, каждый на свое место. Когда шестой затворил дверь и сел к ней спиной, пастух поднял руки, смыкая ладони с ладонями сидящих рядом.
Шестеро, проговорив нараспев положенные ритуалом фразы, погрузились в общий сон, ощупывая быстрыми пальцами темных мыслей окружающее пространство, ныряя в прошлое и поднимаясь к будущему, пролетая по черным пещерам нижнего мира мимо чудовищ и монстров, огибая мельком увиденных посланцев, каждый из которых искал там свое – шаманы, колдуны, провидцы и ведьмы. А еще – глупцы, держащие в кулаке ума случайные заговоры и приемы колдовства, чтоб сотворить свое мелкое зло. Полезные глупцы, мясо для армии тьмы, жалкие избранные, сами сующие головы в черный мир. И женщины были там, скакали и вертелись, разевая рты, ненавидя молодую подругу или богатую соседку…Куры, с заранее свернутыми шеями. Что ж, женское мясо не так сытно, но много слаще.
Разум, связанный маленькой комнатой и сомкнутыми ладонями, летел дальше, без остановок. Глупцы сами позаботятся о себе. Сказав «да» темноте, они уже не вернутся в свет. А добираются вниз уже сами, туда катиться легче, чем карабкаться.
У жрецов была другая миссия, более важная и великая.
– Мальчик… – сказал пастух, нарушая светлый покой мягких ковров.
– Мальчик, мальчик… – отозвались пять голосов, внимая.
– Он послужит последней соломинкой, что сломит волю черного пленника.
– Сломит…
– Он задержит его в последнем рывке, оставит тут, лишит надежды, отнимая силу для выхода на свободу.
– Лишит… надежды…
– Но нужно все рассчитать. Перенаправить усилие. Пусть черный, казнясь, принесет себя в жертву, увидев, что мальчик почти поглощен темнотой.
– Почти… – в согласном шепоте прозвучал еле заметный вопрос, и пастух кивнул, прижимая ладони.
– Почти – для его мысли. Пусть потратит на извлечение Маура свою последнюю надежду. И будет предан и им тоже.
– Предан! – в голосах жрецов звучало торжество.
– Тогда он откроется. И откроет нам путь. Тогда в сердце вершительницы зазияют кровавые дыры. Мы войдем в них. И заберем сильную.
Ладонь, прижатая к его ладони, дрогнула.
– Не убьем?
– Нет, Рыбак. Она слишком ценна. Уловив ее, мы приблизим темноту сразу на огромный скачок.
– Сразу… сразу…
– А перед тем пусть она испытает горе. Скорбь. Вероломство. Предательство. Пусть тьма источит ее душу, ослабит ее. И шаги тьмы должны быть большими, как ночное небо. По величине ее души.
– Горе… Вероломство. Предательство, – в шепоте жрецов шелестело удовольствие.
– Но это требует труда, – предостерег Пастух:
– Вести черного к цели, заставив испытать то же самое. Пусть слабеет с каждым ударом.
– Да! Пусть слабеет.
– Сновидец, все знаки его снов толкуй и используй.
– Да, мой жрец, мой Пастух…
– Если он слышит ее зов, то и ты увидишь, что происходит там. Пусть смутно и обрывисто. Не мне учить тебя толковать сны тоски.
– Да, мой жрец, мой Пастух.
– Отдели тех, кто рядом с ней, кто слаб и податлив. Мы потрудимся над ними, пока сама женщина не доступна. Но не ошибись. Нет нужды тратить силы на светлых упорных глупцов, увидь тех, кто беспокоен, обуян сомнениями, кто жаждет и не получает.
– Да, мой жрец.
– Оставим ее одну. А черный пусть видит, как вокруг его песни собирается тьма. Тем быстрее укажет нам путь.
– Да мой жрец… мой жрец… мой Пастух… – шепот жрецов отлетал от неподвижных лиц и стихал, увязая в мягких коврах.
В наступившем молчании Пастух напрягся, стискивая мысленным кулаком шесть злых клубков, сплетенных из силы, уверенности и намерений. И кинул общий разум так далеко, как сумел. Швырнул его из темноты в яркое небо, повернул руку, показывая направление. И темный клубок, отскочив от небесной тверди, упал вниз, растекаясь по летней траве еле заметными струйками темного дыма.
* * *
– Я поеду с тобой, сестра.
– Тебе лучше остаться в стойбище, Ахи.
Хаидэ спрыгнула с белой Цапли и, потрепав теплую шею лошади, кинула поводья. Ахатта возвышалась над ней, держа поводья рукой в черной рукавице, обшитой воронеными бляшками. Смотрела хмуро, готовясь возразить.
– Со мной поедет Техути. А вы с Убогом соберите палатки к утру, мы вернемся из лагеря мальчиков и сразу двинемся к стоянке шаманов.
– И не отдохнешь? Из лагеря ночь скакать.
Хаидэ положила руку на живот. Звякнули под рукавицей бляшки кольчужной рубахи. И тут же опустила руку, рассмеялась досадливо.
– Перестань, сестра. Я степнячка, а не изнеженная рабыня в покоях. Сокровищу Теренция ничего не грозит, поверь. Его, – она шутливо и ласково похлопала себя по животу, – его охраняет моя клятва. Что это?
Расширив ноздри, втянула в себя степные запахи, оглянулась, прищуривая затвердевшие глаза.
– Запах. Ахатта, ты чувствуешь?
– Верно, лиса не доела зайца, – отозвалась Ахатта, оглядываясь, – да вон смотри, – показала рукой на черные силуэты птиц на склоне холма. Те кружились, ниспадая и снова взмывая вверх, как черные листья на ветру.
– Мертвое не пахнет злом, – возразила княгиня, всматриваясь в птиц.
– Хаи, ты не носила ребенка, поверь мне, сейчас весь мир для тебя станет одной огромной кучей запахов. И все они отвратительны.
Хаидэ оглянулась на Техути. Тот сидел на мышастом жеребце, похлопывая того по шее. В ответ на ее взгляд кивнул успокаивающе. И Хаидэ улыбнулась ему, не замечая, как потемнело лицо Ахатты.
– Хей-го-о! – внезапно крикнула та, развернув коня, ударила в его бока пятками кожаных сапог. Вороны на склоне, хрипло кликая, поднялись редкой тучей, усеяв небо черными точками.
Княгиня, ведя Цаплю в поводу, подошла к египтянину, оглянулась вслед подруге.
– Она злится…
– Она любит тебя. И ревнует.
– Да, – печально согласилась княгиня, – она думает о своем сыне, глядя на мой живот.
Техути улыбнулся. Его конь бережно переступал ногами, фыркая, тянулся светлой мордой к черным ноздрям белоснежной Цапли. Жрец подождал, когда княгиня снова вспрыгнет в седло. И, поворачивая коня, чтоб ехать рядом, сказал, глядя на ложащуюся под ноги рыжую траву.
– Она ревнует тебя ко мне. Вы женщины. Ей грустно и немного завидно, от того что происходит между нами.
Хаидэ ехала, тоже сосредоточенно глядя перед собой. Не смотрела на собеседника, боясь покраснеть. Не сказал нового, но так не хотелось ей, чтоб это было проговорено словами. Будто пока оно до слов, то можно отбросить подальше, сделать вид, что его не существует.
– У нее есть Убог, – возразила княгиня, – он…
– Он любит ее, – подхватил Техути, – но она не любит его.
– Ты хочешь сказать…
– Да.
Не желая слушать дальше, она крикнула, таким же птичьим голосом, как недавно кричала Ахатта.
– Хей-го-о!
И Цапля, радостно фыркнув, рванулась вперед, мелькая стройными ногами. Из травы взлетали, брызгая красками, мелкие птицы, проскочил, закидывая на широкую спину уши, заяц, кося безумным круглым глазом. Техути дернул поводья и поскакал следом за Цаплей, не пытаясь догнать. Нельзя добиться всего и сразу. Тем более женщины, взявшей на себя мужскую заботу о племени воинов. Она вождь. Но и женщина. Она все время занята, вершит мужские дела. Но сегодня сама захотела поехать только с ним и, может быть, услышать от него то, что говорят мужчины женщинам, когда хотят их. А услышала о том, что любовь пришла к ней самой. Пусть скачет и думает об этом.
Темные струйки дыма, просачиваясь сквозь трещины в глине, проросшей сухими летними травами, текли вниз, в темноту и там, собираясь в шевелящийся клубок, летели назад, камнем, отскочившим от скалы. Ахнув, вернулись в головы жрецов, расплетаясь на ходу, втекая жизнью в остекленевшие глаза.
Сглатывая сухим горлом, Пастух разомкнул ладони и медленно положил их на колени. Осмотрел возвращающихся жрецов. Садовник согнулся, прижимая к животу отпущенную руку и хыкая, извергал на ковер и колени дурно пахнущие остатки дневной трапезы. Пастух сокрушенно покачал гудящей головой. Его тоже мутило, но, зная о предстоящем полете, он благоразумно перенес чревоугодие на вечер. Садовник слаб, но радость от узнанного велика. И он сам наказал себя грязью и вонью.
– Итак, их двое. Это большая удача.
Пастух переждал стон и звуки рвоты.
– Если еще раз ты проявишь подобную слабость, Садовник, я найду себе другого. Жизнь в острове так хороша, что любой поменяется с тобой местами.
– Жрец мой, Пастух мой, – прохрипел виноватый.
Но тот махнул толстой рукой.
– Прощен. Сменишь ковер. Сам. И поможешь жрецу Песен с праздником Черного песка. Рядом с ней двое, оспаривающих ее любовь. Женщина ядов – от нее исходит зависть, скорбь. Мужчина, желающий ее и стоящий на грани соблазнов. Наша вершительница носит ребенка – это ослабит ее без меры. И она влюблена! А влюбленные полны безрассудства. Такие вести надо отпраздновать!








