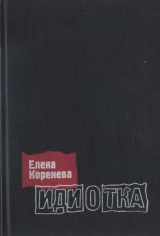
Текст книги "Идиотка"
Автор книги: Елена Коренева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
«Меж высоких хлебов затерялося-я-я небогатое наше село-о-о… Горе горькое по свету шлялося-я-я… и на нас невзначай набрело-о-о!» – у нас в гостях были любимые актеры. «Дочура, ты уже носом клюешь, марш в постель!» – «Ну, мамусь, ну пожалуйста, Гера еще будет петь „Зачем мы перешли на „ты“…“, он обещал, а завтра ребята уезжают с театром на гастроли…» Вечер, переходящий из ночи в утро, продолжался…
Наблюдая за приходящими в дом актерами, я отмечала, что это люди другого сорта. Их смех веселее и звонче, а печаль глубже и ярче. Любая мелочь серых будней для них событие. «Сегодня сломала каблук на улице», – рассказывает маленькая блондинка, актриса ТЮЗа, и лицо ее изображает отчаяние. «А потом решила: где наша не пропадала, – сняла туфли, пошла босиком!» На последних словах она уже сияет, как Буратино. А это бледная, худая героиня из «Современника», она печально вздыхает: «Дождик пошел, вот и лету конец». Все бросают взоры за окно и с удивлением замечают, что октябрь на исходе. В разговор включается губастый брюнет, исполнитель характерных ролей: «Н-да-а, что-то чеховское в настроении. А я весь день в бегах – из дома на улицу и снова в дом. И все мне на глаза старушка попадается, божий одуванчик! Стоит в дверях своей квартиры и смотрит, – чего смотрит? Я бегу мимо, а она пальцем манит: „Подождите, я вам что-то скажу!“ Ну, думаю, надо узнать, может, плохо с кем, „скорую“ вызвать. Подхожу, она встает на цыпочки, тянется прямо к уху и шепчет заговорщически: „Колбаски не хотите… Не хотите?“ У самой еле на ногах тапки держатся, а в глазах серьезный вопрос: не хочу ли я колбаски? Откуда взялась эта колбаска, ума не приложу – Достоевский, чистый Достоевский!» Он смеется, смахивая слезу. «Это Гоголь скорее, чем Достоевский», – наперебой кричат собравшиеся, называя каждую зарисовку именем одного из классиков. «Островский – нет, Булгаков». Но чаще всего что-то чеховское или достоевское: в погоде, атмосфере, в характере.
Актеры общались с жизнью как с живым существом, и только им открывались гримасы некоего титана, которые они расшифровывали как радость или отчаяние. Они были подключены напрямую к всемирному источнику чувств, тогда как все остальные образовывали длинную очередь, чтобы получить свою долю. О профессии актрисы я не мечтала. А вот пройти актерскую школу, которая позволит освободиться дремавшей во мне индивидуальности и превратит в более полноценного человека, вроде тех мужчин и женщин, которые плакали и смеялись заразительнее всех других, – мне представлялось жизненно необходимым. «Поучусь на актерском, а потом займусь философией!» – сообщила я родственникам и отправилась поступать в Школу-студию МХАТа.
«Почему ж ты, Испания, в небо смотрела, когда Гарсиа Лорку увели для расстрела», – читала я профессору Манюкову, набиравшему курс, стихотворение Асеева. Голос дрожал, и в горле стоял ком – вот-вот разрыдаюсь – подсказывало чутье, но я продолжала: «Андалузия знала и Валенсия знала, что ж земля под ногами убийц не стонала». Тут я всхлипнула, из глаз потекло и из носа тоже. «Увели… его не на площадь, увели убивать к апельсиновой роще!» Меня уже душили горькие рыдания и за Гарсиа Лорку, и за Цветаеву, и за расстрелянного дедушку, и за всех сразу. Манюков нахмурился, серьезно взглянул на меня и потом как-то философски заметил: «Вы или очень талантливы, или больны… Почему вы плачете?» Я и сама не знала точно почему, впрочем, всегда подозревала, что жизнь нужно на всякий случай оплакивать.
Высморкавшись и утерев слезы, я перешла к прозаическому отрывку. Отчитав диалог «просто приятной дамы» и «дамы, приятной во всех отношениях», попеременно поворачивая голову то вправо, то влево, – я была допущена к третьему туру. Однако пройти этот решающий тур мне так и не удалось. Вердикт экзаменационной комиссии звучал так: расхождение внутренних и внешних данных. Это напоминало скорее диагноз, но на профессиональном языке означало, что я по внешним характеристикам походила на травести, а внутренне – на героиню. О том, что эти качества могут совпадать, не могло быть и речи в таком заведении, как Школа-студия МХАТа, где придерживаются традиционных взглядов на амплуа. Высокие и красивые должны страдать, а маленькие и смешные – веселить. Тут бы и заняться философией, поразмыслить над парадоксом противоречия внешнего и внутреннего. Но я, в свои неполные семнадцать, погрузилась в водоворот личной жизни, нарушив тем самым традиционные каноны.
Тем временем моя первая любовь, мальчик по имени Саша, благополучно поступил в МГУ. Я часто поджидала его в скверике возле института, ревниво поглядывала на вываливающуюся после лекций на улицу оживленную толпу студентов и боролась с подкатывающим волной комплексом неполноценности. Пошутив напоследок с друзьями, среди которых я всегда замечала хорошенькую рыжеволосую девушку, он наконец подходил ко мне. Мы сворачивали на улицу Герцена, заглядывали в кафе, чтобы перекусить и поболтать, а потом отправлялись домой. Его родители начали свыкаться с мыслью, что я «та самая» девушка их единственного сына, и медленно, но верно стали воспринимать меня как будущую невесту. Сашина мать ревниво приглядывалась ко мне и объясняла, что нравится, а что – нет ее горячо любимому сыну. И однажды, поигрывая на запястье гранатовым браслетом и таким же перстнем на пальце, заметила как бы невзначай: «Эти украшения достанутся моей невестке». Своенравный, властный характер моей потенциальной свекрови и тот культ, который она создавала вокруг сына, вызывали во мне чувство противоборства, и я делала вид, что речь идет о неизвестной нам обеим будущей Сашиной жене. И все же я была во власти своих чувств и постепенно втягивалась в репетицию предполагаемой семейной жизни: училась по первому зову мужского желудка бросаться к плите и готовить омлет, добавляя в него молока и соли ровно столько, как желал мой избранник, и ничуть не меньше.
Впрочем, Саша был настолько же ненасытен, насколько всеяден. Наши отношения приобретали все более страстный характер в области плоти (мои чувства подогревались ревностью к его новым знакомствам), а в сфере эмоций – некоторый садо-мазохистский характер. Я безоговорочно признавала приоритет его интеллекта и интимного опыта и впопыхах усваивала науку быть женщиной для своего мужчины – что означало потакать его вкусам. Я радовала своего возлюбленного, когда носила туфли на каблуках, но отчего-то вызывала крайнее раздражение подростковыми гольфами. Он предпочитал развитую женскую грудь маленькой девической – и я подбирала лифчики пообъемнее и потверже.
Несмотря на мое усердие, я чувствовала, что не поспеваю удовлетворять требовательному и саркастическому характеру своего жениха. Как-то раз, когда мы прогуливались по улице, он подвел меня к аптеке и попросил купить противозачаточные средства – строго заверив, что это тест на взрослость и пройти его я должна в одиночку. Избегая смотреть в направлении нужного мне прилавка, я сделала несколько кругов вокруг безобидного аспирина, затем вылетела на улицу, где поджидал меня грозный любовник. «Ну вот, а еще делает вид, что взрослая женщина!» – укорил он меня и в мгновение ока заполучил то, что требовалось. Я потерпела фиаско, причем в такой ответственный момент! Мои терзания усугубились после нашего визита к одному его знакомому, который, как я теперь понимаю, представлял собой доморощенного наивного плейбоя. За незначительной болтовней я вдруг отчетливо услышала, как он, понизив голос, прокомментировал впечатление обо мне: «Она какая-то убогая!» Эти слова в устах двадцатилетнего мужчины звучали как приговор.
Когда-то, классе в восьмом, я начала прогуливать школу. Выходя из дома, брела без цели. Иногда садилась в игрушечный домик на площадке для детей и прислушивалась к своему дыханию. А еще раньше, года в три, залезала на полку в тумбочку, и там меня находили родители спящей. Странно… Узнав недавно, что мой дед по материнской линии когда-то был заперт в шкафу (где чуть не задохнулся, но только так, в конечном итоге, спас себе жизнь во время вооруженной потасовки), я решила, что мое инстинктивное желание спать на досках и в то же время страх замкнутого пространства – это генетическая память. Что мною двигало, когда я брела наугад, я точно не знаю. Но состояние отрешенности и прострации завладевало мной, и я не могла ему противиться. Я буду предаваться такому бродяжничеству и в Нью-Йорке, и в Париже, да и само путешествие в Америку – одно из его проявлений. Уж не тяга ли из запертого шкафа была тому причиной? Мое поведение воспринималось некоторыми как странность. В доме моих родителей она считалась своеобразием, признаком индивидуальности, атрибутом творческой натуры. Но многими отвергалась с насмешкой. С того самого дня, когда я пришла в детский сад не в юбке, как у всех девочек, а в брюках, любое проявление инаковости в коллективе себе подобных оборачивалось для меня плохо. Теперь, в семнадцать лет, на импровизированных смотринах, я получила новый удар: моя нетипичность была принята за неадекватность. Что означало отторжение от мира красивых и полноценных – тех, кто имеет шанс в любви.
Однажды, желая выяснить с Сашей отношения и обидевшись на его мать за резкий тон, которым она сообщила, что его нет дома, я залезла в строительный фургон, что стоял у них во дворе, и просидела в нем, глядя на его окна, пока не стемнело. (Мне и потом была свойственна эта внезапная упертость – я приходила на место «травмы» и сидела там, пока меня не отпустит.) Не помню, сколько времени прошло, но кто-то меня заметил и вызвал милицию. Оказавшись в коляске участкового, я чуть было не попала в отделение. Моя попытка объяснить, что я здесь делаю – а что можно объяснить? – не возымела успеха. Меня подвезли к Сашиному подъезду на всеобщее обозрение и начали разбираться с жильцами дома: «Кто знает эту девушку? Она говорит, что здесь живет ее знакомый». На счастье или на беду, меня «опознала» Сашина мать. Так я избежала детской комнаты, а может, и психиатрической помощи с носилками.
Итак, представители порядка сочли мое поведение социально опасным. Теперь у «странности» появился новый аспект – за нее можно было угодить за решетку.
Приезжая к Саше на Клязьму – он отдыхал там во время зимних каникул – или выходя с ним в компании, я чувствовала себя «черной овцой» среди женщин, роящихся вокруг мальчика с гитарой. Они были старше меня, веселее, дороднее или разговорчивее. Мне казалось, что многие из них уже побывали в телесном контакте с моим любимым, который сидел на полу и кричал: «Мы – половые люди!» Впрочем, это были только мои предположения, но от этого было не легче.
«Разве, разве я не лошадь, разве мне нельзя на площадь, разве я вожу детей хуже взрослых лошадей?» – цитировала я слова песенки про пони, которую любил исполнять Саша. Однако состязаться с ним в остроумии было бессмысленно, особенно в вопросах секса. Он вывернул все детские игрушки в своем доме хвостами вперед, и я изумленно взирала на зеленых крокодилов с фаллосами и зайцев с резиновыми членами. «У него пушкинский темперамент», – успокаивала я себя. А приходя домой, изливалась в стихах: «Ты моею силою жив – будешь и есть, ты мою юность испив, приобрел чувств – шесть…» и так далее. Трагическая нота любви звучала сильнее и чаще, нежели лирическая, умиротворенная.
Мои родители заметили, что первый роман их дочери начинает принимать крайние формы: я постоянно находилась в подавленном или взвинченном состоянии. Могла выбежать зимой раздетая, чтобы что-то прокричать вслед уходящему Саше, сбросив при этом туфли, мешавшие бежать по снегу. Однажды я собралась к нему в три часа ночи: поссорившись со мной, он поставил условие: придешь – или все кончено. Мама подняла с постели папу и попросила проводить меня на такси. Отговорить или воспрепятствовать поездке они не смогли: я была убеждена, что вся моя жизнь поставлена на карту. Папа выполнил свой долг перед мамой, но сказал, что не простит мне такой глупости. «Никогда не бегай за мужиками, никогда!» – наставлял он меня. Когда после очередного свидания я появилась с фингалом под глазом, родители забили тревогу – хоть я и объясняла им, что случайно врезалась в столб… «Я его спровоцировала, он говорил, чтобы я не задавала ему вопросов, а я задавала. Тогда он предупредил, что может ударить, если я не замолчу. „Ударь попробуй“, – ответила я… и стукнулась головой о дверь в прихожей, но он тут же стал просить прощения и очень испугался, когда…» – пересказывала я маме свою балладу позднее. Мои близкие дружили и с Сашей, и с его семьей, но с некоторых пор стали мечтать о скором разрешении моей слишком бурной любви. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы судьба не предоставила мне шанс, один из многих, которыми она меня наградит: от любовных страстей меня стали спасать страсти кинематографические. Я получила возможность сняться в картине у своего отца.
Глава 11. Боевое крещение кинематографомЕсть множество невероятных историй о том, как никому не известные девушки попали в кино… Робкое юное создание приезжает в Москву из маленького провинциального городка и, не успев донести документы до кулинарного техникума, присаживается в скверике перевести дух. Тут откуда ни возьмись – мужчина в пиджаке и свитере или в телогрейке и кирзовых сапогах протягивает ей телефончик: «Позвоните на студию, в вас что-то есть, юная красавица… Никто не знает, а вдруг?» Она робеет, боится, но звонит… И правильно делает! Впоследствии из нее получается всеми любимая Наташа, Оля или Жаклин.
Поистине звездный час внезапен и парадоксален – он пробивает в самый непредсказуемый момент и застигает врасплох. И «никто не знает» – это точно! В том, что я, дочь режиссера, снялась у своего отца, конечно, нет ничего невероятного. Более того – этого следовало ожидать, так подумает каждый. И все-таки ни я, ни мой папа тоже «не знали», как и та девушка, что присела на скамейку, потому что никто не может знать наперед, что он сделает и к чему это приведет.
Папа проводил кинопробы для своего будущего фильма по сценарию и пьесе Александра Галича «Вас вызывает Таймыр». Он уже утвердил основных актеров – Евгения Весника, Инну Макарову, Юрия Кузьменкова, Евгения Стеблова… Но вот на роль Дуни – деревенской девушки – никак не мог найти подходящую актрису. «Добрый гений» Леня Платов, работавший на картине художником и к тому же наш сосед по дому, предложил папе попробовать дочь, то есть меня: а вдруг? Пока я месила ботами осеннюю слякоть, прогуливаясь с возлюбленным, папа с мамой обсуждали предложение Лени и все вытекающие из этого последствия.
При кажущихся преимуществах для дочери режиссера, снимающейся у своего отца, существуют и явные минусы. В случае неуспеха как режиссер, так и его дитя обречены на пересуды с обвинениями в семейственности, в том, что «папенька сует своего недоросля», а также на лицемерие и косые взгляды. Чтобы отделаться от клейма блатного ребенка, порой приходится совершить не один кульбит на радость публике, стать знаменитым и только в конце жизни признать, каков был твой истинный мотив: доказать себе и другим, что кроме папиного носа и фамилии у тебя есть кое-что еще. И это в лучшем случае, а в худшем – потерянная жизнь. Точно так же, как девушке из провинции требуется освободиться от комплекса «человека из ниоткуда», дочери (или сыну) известного человека приходится постоянно доказывать, что он оказался там, где есть, по праву. Потому, наверное, в Америке, где люди, сделавшие себя сами (selfmade men), возведены в статус национальных героев, дети знаменитых родителей скрывают свое имя, меняют его на другое и терпеливо борются за независимость от легендарного родственника. Однако и в том и в другом случае дерзает смелый, а трудности разного рода только бросают вызов самолюбию и порождают амбиции. «Где бы найти эти трудности, чтобы отшлифовать себе отличную биографию?» – втайне думают гордецы.
Итак, мои родители посовещались и решили, что коль скоро я собираюсь будущим летом снова поступать в театральное, то почему бы не рискнуть. Мне сделали фотопробы. Круглое, щекастое лицо и приколотая к волосам косичка произвели нужный эффект: на снимке я выглядела вполне деревенской девушкой. Затем наступили пробы с актером Юрой Кузьменковым, который по роли должен был быть в меня влюблен. Юре поначалу было нелегко войти в образ, уж больно детский был у меня вид. Но, учитывая, что это все-таки комедия, причем откровенно наивная, почти шарж (один из первых фильмов «ретро» в то время), Юра вскоре адаптировался к своей партнерше и к условностям жанра. Худсовет меня утвердил.
Откровенно говоря, работа на площадке не показалась мне очень сложной, я испытывала скорее чувство ответственности перед профессиональными актерами и боялась подвести папу. Если говорить о наших отношениях, то они мало чем отличались от общения дома. Ему свойственно было впадать в некоторую пафосность, рассуждая о моей жизни, да и о жизни вообще. Однажды он сказал: «Ты – как Пушкин для русского народа!» Нет, мой папа не сошел с ума, таким образом он провоцировал чувство ответственности, скорее завышая, нежели занижая барьер, который нужно было преодолеть. На съемочной площадке он подстрекал меня: «Дочь, тебя ждут великие артисты, вот они сидят – Инна Макарова, Евгений Весник – и ждут, когда ты сыграешь дубль как надо!» Я мобилизовалась и играла, как могла.
Все шло гладко, за исключением одной сцены, где мне надо было заплакать. Играла я и так не плохо, но папа добивался моих слез. А тут-то они у меня и не текли! Срабатывала обратная реакция. Надо? А я вот не могу! Папа применил тот же прием, что всегда – отведя меня в сторонку, сказал, что меня все ждут, но вдруг залепил пощечину и быстро скомандовал: «Мотор!» Я зарыдала как миленькая, и дубль был снят. Конечно, если бы в моем доме было в ходу рукоприкладство или вместо отца был кто-то другой, я бы не сыграла ни дубля, просто оскорбилась и ушла из павильона. Доверие и взаимопонимание – единственные условия, при которых возможна подобная провокация.
Фильм был снят и хорошо принят начальством. На заключительном банкете я произнесла тост: «За человека, который постоянно вызывает себя на Таймыр!» Это было о папе. Как любящая дочь, я видела в отце героя и завышала его достоинства, так же, как и он мои. Пиршество в тот вечер было долгим. Мне налили водки в граненый стакан, папа увидел и сказал: «Пей, дочь, ты должна знать, что это такое». Я выпила. Выйдя спустя какое-то время в туалет, я обратила внимание, что меня заносит то вправо, то влево… Так я и шла по длинному коридору, ударяясь, словно теннисный мяч, о мосфильмовские стены. Я наверняка была далеко не единственным мячиком, которым играли эти бесконечные студийные лабиринты за всю историю их существования. По окончании банкета кто-то из группы предложил поехать к нему домой: там в сарайчике хранились настойки и разносолы. Разгоряченная компания приняла предложение – празднование продолжилось среди хозяйственной утвари и банок. Я наравне со всеми дегустировала квашеную капусту и наливки. Тот вечер закончился для меня вниз головой на плече у Юры Кузьменкова – меня вскинули и понесли, идти я была не в состоянии. Мама ахнула, когда премьершу внесли в дом и положили. Она еще долго сидела на кровати и спрашивала: «Доченька, тебе плохо?» Так закончилось мое первое крещение кинематографом: после той ночи я лет десять не могла думать о водке без содрогания.
Фильм «Вас вызывает Таймыр» был показан по телевидению и получил хороший резонанс в прессе. Однако вскоре его постигла та же участь, что и первые папины картины – его надолго убрали из эфира. Причиной тому явилась эмиграция Александра Галича во Францию. Увы, как тут не поверить в судьбу? По русской примете, рожденные в мае – будут маяться. Папин день рождения второго мая… Интересно, в каком месяце родился Александр Галич?
Глава 12. Свое местоФильм сослужил мне хорошую службу. Когда следующим летом я пришла в Щукинское училище на первый тур (на этот раз я обошла стороной Школу-студию МХАТа), меня окликнули: «Вы девочка из „Вас вызывает Таймыр“»? Передо мной стоял рослый блондин и приветливо улыбался широкой улыбкой. «Вы мне очень понравились. Костя, иди сюда. Помнишь, мы недавно смотрели комедию?» К нему подошел забавный брюнет и взглянул на меня с профессиональной актерской непосредственностью. «Поступаете?» – весело спросили они хором. «Угу!» – промычала я, все еще теряясь в собственной безликости. Они хитро переглянулись: абитуриентская нерасторопность – явление временное, ей на смену приходит одержимое самоутверждение «неповторимой индивидуальности». «Успехов, будем за вас болеть!» – бросили они напоследок и удалились. То, что меня – бледную спирохету, трясущуюся где-то на лестнице, узнали и поддержали выпускники «Щуки» – Юра Богатырев и Костя Райкин, – было добрым знаком. Впоследствии они станут моими друзьями и коллегами по театру «Современник».
Вторая попытка поступить в театральное училище оказалась успешной – меня приняли! Однако и здесь не обошлось без интриг. Людмила Владимировна Ставская, набиравшая свой первый курс в качестве мастера, ко мне благоволила, я ей понравилась. Но перед третьим, решающим туром она позвонила моей маме и конфиденциально сообщила, что было бы очень кстати, если бы какой-нибудь влиятельный друг семьи позвонил проректору Борису Евгеньевичу Захаве и замолвил за меня словечко. «У вас есть такие знакомые?» – строго спросила она. Мама замялась, начала прикидывать, кто бы это мог быть, и тут вдруг вспомнила: «Ну, если я попрошу Олега Николаевича Ефремова, то как?» – «Олега Николаевича?! – недоуменно воскликнула мамина собеседница. – Да где ж вы раньше были с такими-то друзьями, лучшей кандидатуры и быть не может. Пусть звонит, и дело в шляпе!» Как выяснилось позднее, на третьем туре меня могли «срезать», так как за одно место со мной боролась еще одна претендентка – девочка моего плана: маленькая, худенькая, вроде как и я, травести. По мнению проректора Захавы, у нее было больше шансов – затем и понадобился «тыл» в решающей схватке.
Олег Николаевич Ефремов – наш «тыл» – дружил с моими родителями еще в юности, они с папой учились в одном классе, когда школы разделили на мужские и женские. Они даже сыграли вместе в студийном спектакле «Горе от ума»: Олег Николаевич – Молчалина, а папа – Чацкого. Более того, они чем-то удивительно были похожи внешне: не той манерой, которую заимствовали у Ефремова работавшие с ним актеры, а лицом и духом печального оптимизма, свойственным всем обитателям Староконюшенного переулка. Между «другом юности» и проректором состоялся забавный разговор. Захава отнесся к просьбе спокойно, но посетовал, что, мол, принять-то я приму, а что она дальше делать будет? Их же всех, выпускников, надо в театры устраивать, в театрах вакантных мест мало, а их – выпускников – предостаточно! Вот что волновало проректора. Олег Николаевич не растерялся и ответил: «Я ее не только в театр возьму, я на ней еще и женюсь, если понадобится!»
После того как я рассказала этот эпизод в одном из интервью, мама, с чьих слов я впервые услышала эту историю, вдруг засомневалась: а был ли этот диалог именно таким, в частности про женитьбу. Ну что ж, если он и приукрашен, то талантливо. Звонок возымел действие – я поступила на первый курс Театрального училища имени Щукина, правда, условно. Это означало, что я должна была доказывать свою профессиональную пригодность и завоевывать право стать студенткой. Если в течение полутора лет я не оправдаю доверие – меня отчислят. В Щукинском училище существует поверье, что те, кто был принят условно, как правило, оказываются самыми работоспособными, если не самыми талантливыми, и выпускаются лучше других. Психологически это объяснимо: тот, у кого есть только один шанс, использует его по максимуму. Этот принцип применим и к провинциалам, приехавшим делать карьеру в столицу, и к иммигрантам, завоевывающим место под чужим солнцем. К слову сказать, девочка, с которой я боролась за место, не пострадала и благополучно училась вместе со мной. Особым проворством я не отличалась, однако уже через три месяца, после показа самостоятельных работ – это были «Последние» Горького, – с меня сняли «клеймо» и сделали студенткой. И с другими условниками произошло то же – они оказались первыми при выпуске. Щукинское поверье сработало – все пятеро устроились в московские театры, и одной из них была моя подруга, Светлана Переладова, игравшая после училища в Театре имени Вахтангова, но о ней я скажу немного позже…
«Щука» отличалась от Школы-студии МХАТа большей демократичностью и даже фривольностью в отношениях между профессорами и студентами. А также самим подходом к искусству. Если МХАТ – это академия, классицизм и традиция, то «Щука» – новаторство, либерализм и диссидентство. Это и закономерно. Обе школы наследуют стиль и образ своих основателей, в одном случае создателя «системы» Станиславского, в другом – его ученика и оппонента Вахтангова. Последний отошел от жестких принципов школы переживания в пользу более формалистического театра представления. Может быть, поэтому многие из тех, кого «завернули» при поступлении в Школу-студию МХАТа, находили понимание в «Щуке». Здесь все нетрадиционное, в контрапункте с общепринятым, получало благодатную почву. Неспроста любимовская Таганка была создана из выпускников Вахтанговского училища, то есть «Щуки».
Вот и я пусть не без сложностей, но в конце концов оказалась там, где было мое место.








