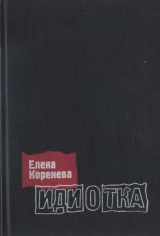
Текст книги "Идиотка"
Автор книги: Елена Коренева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Спустя много лет, году в 1970-м, знакомые обнаружили старую фотографию – групповой портрет работников газеты «Правда», сделанный по случаю десятилетнего юбилея. На ней среди таких людей, как Лариса Рейснер, Мария Ульянова, Николай Бухарин, Михаил Кольцов, есть и мой дедушка, Андрей Андреевич. Помню тот день – в руках у меня фотография, бабушка не может сдержать волнения: «Ну, ищи своего деда!» Я тыкаю пальцем в одного, другого, не могу угадать. Наконец мне указывают на молодого улыбающегося мужчину, и я впиваюсь в него глазами. Потом часто буду разглядывать его портрет, единственный из уцелевших, пытаясь представить, о чем он думал в тот момент, улыбаясь фотографу. И еще о том, как его расстреливали… Однажды мне приснилась эта сцена. В последний момент дедушка раскидывает в стороны руки, медленно-медленно, и уже на выдохе или вздохе протягивает: «Эх!!!» Э – ээээээээээх!.. Между той улыбкой на фотографии и этим «Эх!» он что-то сделал такое, за что его в конце концов уничтожили.
Мы точно не знаем, где это произошло. Получили две повестки, указывающие на разные места. Посмертно он был реабилитирован. Несколько фраз на листке бумаги: «За отсутствием состава преступления…» Э-ээээээхххх… От этих бумажек можно упасть в обморок.
Моя драгоценная бабушка выстояла, как и многие из тех, кто прошел ее путь. Сильным людям выпадают испытания под стать. Хотя годы, проведенные в лагерях и ссылках, не могли не сказаться на ее характере. Она мгновенно взвинчивалась, доходила до крика, отстаивая свою точку зрения. И каждый раз было ощущение, что речь идет о мировой катастрофе, даже при решении вопроса, ехать ли нам городским транспортом или на такси. Она категорически отказывалась ездить на такси! Было много трагикомичного в ней, если учесть, что она была еще и очень маленькой, миниатюрной женщиной. Это несоответствие роста и темперамента, в котором я узнаю свои черты, было подчас уморительно. Для друзей моих родителей Мария Рафаиловна являлась магнитом, ударным номером любого застолья. Она часто рассуждала на политические темы, без которых не обходился ни один московский дом, тем более «богемный». В один из таких вечеров гости долго обсуждали положение в стране, и, раскритиковав окончательно все, кто-то спросил ее мнение: «Подскажите, что делать?» Без секунды промедления она ответила: «Уходить в подполье!» Что еще мог предложить опытный борец, истинный коммунист? Однако она была совсем иной коммунисткой. По возвращении из ссылки ей предложили восстановиться в партии, вернуть отобранный партбилет, что означало надбавку к пенсии и всяческие привилегии. Она отказалась, сказав, что «не в эту партию вступала…».
Глава 5. Групповой портретТаково мое семейное пространство, таковы характеры, его населяющие. Все, как положено в хорошей пьесе. «Человек-легенда» – мамин отец, мой расстрелянный дедушка. «Наша совесть» – мамина мать, моя отсидевшая бабушка. «Неприкаянный самоед» – мой папа. «Голубоглазый ангел» – моя мама. «Гимназист Шура» – папин отец, мой дедушка. «Строгая Марусенька» – папина мать, моя бабушка. «Красавица Галина» – папина сестра, моя тетя. «Настоящий мужчина» – Гриша, ее муж, мой дядя. «Дети» – мои двоюродные братья, рыжий и брюнет, ну и мы с сестрой. Теперь представьте всех вместе за праздничным столом, включая семейные пары дедушкиных братьев: дядя Ваня, тетя Лиля, дядя Миша, тетя Нина, дядя Коля, тетя Катя и их дети – Таня, Нина, Юра, Надя, Ира, Гера, Марина, а там и внуки… Предположим, это Первое мая или Седьмое ноября. Хозяйка дома, «строгая Марусенька», одергивает «гимназиста» дедушку, наливающего себе рюмку: «Шура, я сказала?!» Тот, продолжая наливать себе и соседям по столу, защищается: «Марусенька, ну еще одну, сегодня же праздник!» В ответ слышен глубокий вздох бабушки и ее демонстративный уход на кухню. Муж Галины, «настоящий мужчина» Гриша, рассказывает анекдот, желая разрядить обстановку. После его слов воцаряется гробовая тишина. Все молча жуют – то ли не поняли юмора, то ли игнорируют Гришу, солидаризируясь с бабушкиным уходом на кухню. В итоге Гриша не выдерживает и смеется в одиночку. Все постепенно теплеют, начинают улыбаться: дошло и до них – смешно! «Красавица Галина» приводит с кухни успокоившуюся немного бабушку. Они усаживаются за стол, и теперь Галина наблюдает за очередным наполнением рюмок с нейтральным лицом, облокотившись на спинку стула сидящего рядом мужа: чем закончится на этот раз? Все пытаются заставить что-нибудь съесть «нашу совесть», отсидевшую бабушку – безуспешно. Она просидит весь обед с горсткой зеленого горошка, одной шпротой и ломтиком сыра. Наконец кто-то обращается с вопросом «о кино» к «неприкаянному самоеду» папе: «Ну что, Алеша, снимаешь?» «Не снимаешь?!» «Закрыли?» «Закрывают?» «Могут закрыть?» «Ах, запускают, ну давай, давай… Когда увидим-то?!» «Ангел» мамочка нервничает, стесняется, сидя с краю стола, и часто выходит покурить. Вскоре «гимназист» дедушка тоже хочет покурить. Ему разрешают, но только в туалете. Вернувшись оттуда, он предлагает всем разгадать шараду, которую придумал, пока курил. В ответ его одергивает знакомое: «Шу-р-р-ра!» А в это время «дети», то есть мы вчетвером, наевшись и оставшись незамеченными, ползаем по полу, связывая ножки стульев леской, да так, чтобы она скрипела, раздражая «строгую Марусеньку». Цель нами не достигнута – мы разоблачены, за что получаем сильные затрещины. Одна такая оплеуха как-то погрузила лицо двоюродного брата в дымящуюся манную кашу. Как сейчас вижу его лицо в белой стекающей маске – острое, должно быть, ощущение! Но вот мы собираемся и уходим. Бабушка – «наша совесть» – скандалит, отказывается ехать на такси: «Транжиры, откуда у вас деньги?» В конце концов все едем на метро. Нашим воспитанием каждый из них занимался соответственно своему характеру. Папа объяснил, что «воровать счетные палочки у учителя нельзя», а также что «косить глаза опасно, можно дернуться и остаться косой». Отсидевшая бабушка считала, что танцевать детям при свечах непозволительно, это «пробуждает низменные инстинкты». Однажды она продезинфицировала мне рот тройным одеколоном: вернувшись с прогулки, я сняла мокрую галошу и, заглядевшись на такую красоту, лизнула ее языком. (Каждой бабушке по достойной ее внучке!) «Гимназист» дедушка цитировал «Евгения Онегина» и Ключевского. «Строгая Марусенька» советовала «научиться шить и не балбесничать». Мамочка отвечала на все мои вопросы о целующихся воробьях, а сестре Маше объясняла, когда та играла «во врача», что писать «серцо бецо и серца не беца» неправильно, хоть и красиво.
Обе бабушки, дед и отец уже умерли. «Гимназиста» за день до смерти помыли в ванной, и когда Гриша взял его на руки, чтобы донести до постели, дед запел «Гаудеамус игитур» – знаменитый гимн студентов. Бабушка «Марусенька», его жена, умерла на десять лет позже. Все вздыхала о «Шуре», лежа на диване, повторяла: «Какой хороший был человек, что я без него?» Бабуля, «наша совесть», умирая, подняла правую руку и сжала кулак – так ее и держала, пока были силы, сказав: «Умирают только раз!» Папа… О папе потом.
Глава 6. Неореализм по-русски
Что волчьему – звериному,
а что людскому – слабейшему дитю
всегда из дома холодно,
а в дом – всегда тепло!
Кто-то сказал, что человек – это его пейзаж. То есть все, что нас окружает, и есть часть нашего существа, и наоборот. Потому, наверное, в отсутствие самого хозяина нас так притягивают дома и улицы, принимающие его черты.
Нашим первым семейным приютом стал дом на Гоголевском бульваре. Огромная пятикомнатная квартира когда-то принадлежала папиному деду, его тезке – Алексею Александровичу Кореневу, служившему в городской управе. Про него рассказывают, что в старости он заболел раком и ему пришлось ампутировать язык. Сломавшие как-то раз дверной замок воры столкнулись лоб в лоб с «привидением» – мычавший старец в исподнем белье отчаянно жестикулировал. Потрясение грабителей было настолько велико, что они тут же бросились наутек, забыв, зачем приходили. После смерти старика квартиру заняла вся его многочисленная родня. Но дом, как и его почивший хозяин, тоже был немолод и требовал ремонта. В комнате, где расположилась наша семья, пол покосился, поэтому шкаф приходилось привязывать веревкой за крючок, вбитый в стену. Мебель распределялась по всем углам, чтобы избежать фатального перевеса одной из сторон. Такая обстановка порождала внезапное перемещение незакрепленных предметов по комнате: раскладушка с моей сестрой, бывало, сползала к моей кровати, начав свой путь накануне вечером от закрепленного шкафа. Не лучше обстояло дело и в туалете – там в полу зияла дыра, позволявшая всем, справлявшим нужду, наблюдать особенности поведения соседей нижнего этажа. Но для детей весь этот хаос был настоящим раем! Мы вчетвером – я с сестрой и двоюродные братья – постоянно гоняли по длинному коридору в поисках «преступников», чертили прямо на обоях «план местности», а когда игра заканчивалась триумфом, пели, подпрыгивая на резиновых мячах: «Я сижу на лавочке, продаю булавочки, как дам по башке, так уедешь на горшке!» В конце концов всех из дома выселили в связи с аварийным состоянием жилища. Дом, правда, и теперь стоит в конце бульвара, с правой стороны, если спускаться к Кропоткинской.
Наше второе обиталище было на улице Веснина, напротив итальянского посольства. Когда только что отстроенный дом заселялся, мимо проходила актриса театра имени Вахтангова Цецилия Мансурова, жившая неподалеку на улице Щукина. Увидев людей, заносивших в подъезд мебель и всякую утварь, она вдруг разразилась речью, театрально воздев к небу руки: «Дорогие мои, вы въезжаете в такой замечательный дом, будьте же в нем счастливы!» И пошла дальше. Воистину большая актриса – великая душа. Кому еще придет в голову благословлять незнакомцев по пути из магазина, скажем, в прачечную?
Квартира наша была хоть и новой, но все еще коммунальной. Делили мы ее с одной татарской семьей. Помню, как подглядывали с сестрой в замочную скважину за молящейся во время Рамадана старенькой тетей Розой. Она сидела на коврике, поджав под себя ноги, бормотала на непонятном языке и клала поклоны, как неваляшка. А папа однажды отличился: поднялся ночью и пошел спасать дочь тети Розы, Софу, которая была на девятом месяце беременности. Тут же выяснилось, что спасать ее не от чего – она спокойно спит возле мужа Бори, а папе просто приснился сон. Легко же он отделался – мог бы и получить от законного супруга по физиономии!
Мои двоюродные братья, по обыкновению, поселились в том же доме. Все мы вместе ходили в один детский сад, а потом пошли в одну школу. Говорят, я все время что-то пела и здоровалась с милиционерами, которых полно в арбатских переулках. Многие годы у меня, взрослой, был беспричинный страх конфликта с властями, возможно, это шло от сидевшей бабушки. Так вот, я заблаговременно начала «умасливать» служителей закона! Итальянское посольство было для нас постоянным объектом развлечений. Когда там устраивались приемы, мы висели в окнах и наблюдали, как подъезжают машины, из них выгружаются дамы в длинных вечерних платьях и мехах, а за ними – мужчины в смокингах. Иногда эти приемы посещали члены правительства, я запомнила Анастаса Микояна, на него указывали пальцами: «Вон-вон Микоян!» – «Не вижу, какой из них?!» – «Да вон, маленький, черный!» – «Ой, уже зашел в ворота…» Посольство всегда охранялось, и это побудило меня и одного из братьев поставить эксперимент. Заключался он в следующем: оставленную от обеда сардельку, по нашим представлениям напоминающую гранату, мы выбросили в форточку, и она опустилась прямо на проезжей части узенькой улочки, перед носом охранника посольства. Тот осторожно приблизился к ней, склонился и какое-то время изучал, затем к нему присоединился еще один, и они вместе отнесли сардельку на экспертизу. Но и родители мои тоже были не прочь похулиганить, что в конце концов навлекло на нас гнев милиционера.
В тот период они тесно общались с кинематографической четой Сусловых. Миша – замечательный кинооператор, в молодости был очень хорош собой: худощавый брюнет со смуглой кожей и черными, как вакса, кудрями. Он приезжал к нам на мотороллере, и все женщины и дети сбегались на него смотреть, принимая за актера, сыгравшего «человека-амфибию». (Настоящий исполнитель роли, Владимир Коренев – наш однофамилец.) Мишина жена, Ира, была такой же маленькой и большеглазой, как и моя мама, только противоположной «масти» – жгучей брюнеткой. Папа и Миша работали одно время на телевидении и даже сняли вместе несколько короткометражек: «На рассвете», «Этюды», «Прелюды». Эти работы, как и многие предыдущие, не были показаны «за вредность» или еще за что-то в этом роде. Миша привел к нам в дом своих друзей: сценаристов Юру Оветикова и Женю Котова, а также начинающего режиссера Борю Ермолаева. Впоследствии Боря прославится своими медиумическими способностями, про него будут рассказывать, что он может поднимать в воздух горсть риса без помощи рук и делать всякие другие чудеса. Тогда же он увлеченно смотрел футбол по телевизору и нервно грыз ногти. Все они часто приходили в гости, собирались за круглым столом в нашей крохотной комнате и сидели далеко за полночь. А мы с сестрой в это время спали на диване за шкафом, отделявшим наш угол от застолья. Вся обстановка вокруг извещала посетителей о том, что здесь поселились «артисты». Входная дверь была задекорирована черным листом бумаги, на котором, словно марки, были разбросаны цветные этикетки от винных и коньячных бутылок. Кофейные чашки расписаны в аналогичном абстрактном стиле – треугольники на черном фоне. Подобные шедевры оставляли в память о себе друзья-художники. Как-то раз, перед приездом в дом «неотложки» (у мамы случались сердечные приступы), черная бумага на двери была сорвана. Но ей на смену сестра расписала дверь серой краской (она занималась в художественной школе и подражала старшим товарищам). Приехавшая в очередной раз «неотложка» потребовала в первую очередь перекрасить серую дверь, сказав, что этот цвет способствует депрессии. Кончилось тем, что на дверях в полный рост были изображены апостолы, и тогда вызовы «неотложки» как-то незаметно сошли на нет.
Почти каждая дружеская посиделка сопровождалась пением. Любимыми были «Метель метет, и вся земля в ознобе» Светлова (он сочинил ее в ресторане ЦДЛ прямо на салфетке), «Я люблю шофершу Нинку робко, ей в подарок от меня коробка» неизвестного мне автора, «Не осуждай меня, Прасковья» Исаковского, а также всевозможные романсы от «Гори, гори, моя звезда» до «Он говорил мне: будь ты моею…». Весь репертуар мы с сестрой выучили наизусть, не говоря уже о позах и мимике всех исполнителей. «Сейчас пойдет „Метель“», – шептали мы друг другу, лежа в кровати. «О, это мамуся!» – продолжали мы комментировать звуки, доносящиеся из-за шкафа, например легкое отбивание ритма ладонью по столу. Папа, когда пел, любил режиссировать: расставлял смысловые акценты, заглядывал каждому в глаза и даже поднимал вверх палец на отдельных словах. Иногда он приставал к тем, кто держался скованно: «Сними пиджак, тебе будет удобнее!» Если гость отказывался, он предлагал снова: «Сними, говорю, пиджак, я же вижу, как ты мучаешься!» Чаще всего человек поддавался, а те единицы, которые отказывались, как-то переставали ходить в дом.
Особым случаем считался тот вечер, когда в гостях бывал Игорь – наш двоюродный дядя, приходивший с женой Татьяной. Он владел настоящим певческим тенором, а будучи по профессии дипломатом-международником, хорошо говорил по-английски, пел «Дилайлу», «Зеленые поля» на языке. Пел Игорь и по-итальянски. Ну конечно, искус был велик – спеть итальянскую арию для настоящих итальянцев! Кто-то подстрекнул его, он согласился. Окно, смотрящее на посольство, было тут же распахнуто, и в темной арбатской ночи зазвучала чувственная итальянская мелодия. На следующее утро в квартиру позвонили. На пороге стоял участковый: «Кто такие, почему звучат итальянские песни?» – «Да мы киношники, артисты одним словом, простите…» – ретировались родители. Ответ был краток: «Нарушаете спокойствие, чтоб в последний раз!»
Я любила, когда у родителей собирались друзья. Старалась, как все дети, посидеть подольше и всячески оттягивала момент укладывания спать. Мой коронный трюк был такой: уже в постели прикинуться голодной и что-нибудь попросить. «Ма-а-мочка!» – тянула я басом. Мама тут же отзывалась: «Что, доченька, ты что-то хочешь?» – «Я хо-чу-у-у…» – тут я срочно придумывала, что же я хочу, и чаще всего просила дать мне «черненького хлебушка с беленьким маслицем». Однажды это чуть не закончилось трагедией. Вместо того чтобы попросить «хлебушка», я стала жаловаться, что у меня болит живот. Мама спрашивала, где точно болит, но я не могла объяснить. Тогда она решила, что грелка, поставленная на живот, – лучшее успокоительное. В том, что я оттягиваю время сна, мама не сомневалась. Вызванный наутро врач потребовал, чтобы меня срочно отвезли в больницу. «Аппендицит», – сказали родителям в приемном покое и попросили не беспокоиться, а завтра справиться насчет предстоящей операции. Встревоженные не на шутку, они вернулись домой и еще раз перезвонили: все ли так, как они поняли? Им сообщили, что операция только что закончилась и прошла успешно. Как выяснилось, меня привезли в тяжелом состоянии, была угроза перитонита, а диагноз – гнойный аппендицит. Если б на полчаса опоздали, кончилось бы летальным исходом. Моя мама не предполагала, что у пятилетнего ребенка может быть аппендицит, а уж грелка в таких случаях противопоказана. С тех пор в семье опасаются грелок и не ставят их – на всякий случай. На меня же, как на ребенка, тот факт, что я перенесла настоящую операцию, оказал ошеломляющее действие. Я долго разглядывала бинт на животе и была на седьмом небе от счастья. Странно, но эта операция стала для меня своеобразным рубежом, я как будто повзрослела, у меня появилось прошлое. Мир раздвоился: тогда и сейчас, до аппендицита и после. Я чувствовала, что моя жизнь наконец началась.
Как-то во время очередной игры с ребятами во дворе ко мне подошла девочка вся в черных кудряшках и предложила с ней дружить. Звали ее Фиорелла, что значит «цветок». Она было итальянкой, ее отец работал в посольстве, там они и жили. С тех пор мы практически не расставались. На самом деле Фиорелла просто влюбилась в меня. Ей было семь, а мне – восемь. Она не могла провести без меня ни дня, всегда поджидала возле дома, зажав в кулаке то жвачку, беленькую и ароматную, то конфетку, в «не нашей» цветной обертке. В подъезде моего дома висел плакат с портретом Хрущева. Помню, мы стоим против него, тыкаем пальцем, она говорит: «Плохой» – и морщит нос, а я дразню: «Хороший». У Фиореллы была маленькая такса, звали ее Пипа, с ударением на втором слоге, что значит «трубка». Она гуляла с ней перед посольством и, когда та убегала, звала ее на всю улицу: «Пи-па-а-а!»
Я приглашала Фиореллу в гости и однажды, уступив ее просьбам, дала облачиться в свою школьную форму. Надев коричневое платьице и черный фартук с октябрятским значком, она важно прогуливалась по нашей коммуналке, словно была на одном из приемов в посольстве. Побывала и я у нее дома, мне запомнилось изображение Мадонны в углу комнаты и шоколадные конфеты с ликером, которыми угощала ее мать, – и все. Однажды случился казус. Мой папа, вернувшийся с какого-то юбилея, где он переел и перепил, почувствовал себя плохо, его начало тошнить. Мама побежала за тазом, принесла его, подставила и, когда он был полон, вышла в коридор, намереваясь дойти с ним до туалета. В дверь позвонили, мама замешкалась, но открыла, решив, что идут соседи, и обомлела. На пороге стоял высокий худощавый господин. Он говорил с сильным акцентом: «Ви ма-ма де-вочка, я – па-па Фьорелла!» Вся красная со стыда, мама начала что-то лепетать, он понял неловкость момента и, пообещав зайти в другой раз, ушел. Долго переживала мама, однако пришедший в себя на следующее утро папа ее успокоил, сказав, что, в конце концов, итальянцы создали неореализм в кинематографе, и кому как не им принимать жизнь во всех ее земных проявлениях. Об инциденте забыли. А наша дружба с Фиореллой продолжалась. Я впервые почувствовала себя объектом чьей-то любви. До сих пор влюблялась я: в соседских мальчишек или мальчишек в детском саду, даже в режиссера Петра Тодоровского, которому в Одессе, где папа снимал первую картину, я носила цветочки. А тут выбрали меня. Однажды Фиорелла затащила меня в подъезд и, устроившись в закутке лифтера, которого не оказалось на месте, объяснила по секрету, что если снять трусы и посмотреть повнимательнее, то можно обнаружить разные «штучки», и если до них дотронуться, то будет очень приятно. Я поинтересовалась, откуда она это знает, выяснилось, что ее научила этому нянька. Ответ звучал убедительно. Она достала карандаш, и мы попробовали. Было приятно, но ощущение тайны и запрета оказалось еще приятнее – оно щекотало нервы. С того момента мое «прошлое», возникшее после операции аппендицита, пополнилось еще и «тайной» с легким привкусом греха. Жизнь разворачивалась на полную катушку!
Как все итальянцы, Фиорелла была католичкой. Раз в неделю ее водили к священнику. Прогуливаясь как-то возле дома, я увидела вдалеке две женские фигуры – большую и маленькую, – они быстро шли по противоположной стороне улицы мне навстречу. Поравнявшись с ними, я узнала в девочке Фиореллу. Бледная и заплаканная, она опустила низко голову и не поздоровалась. Ведущая ее домой женщина была сурова: досталось, видно, маленькой грешнице от священника. А я так и осталась без исповеди, крестившись только в 20 лет.
Но вскоре наша коммунальная жизнь на улице Веснина подошла к концу. Папа получил возможность построить кооперативную квартиру в доме Радио и Телевидения, в районе Речного вокзала. Предстояло расставание. Как-то мы с Фиореллой по очереди катались на качелях в чужом дворе. Мне надоело ждать ее, и я пошла обратно, к дому. Пройдя ряд переулков, я услышала за спиной торопливые шаги, обернулась – Фиорелла, вся в слезах, с разбитой в кровь губой неслась за мной что есть мочи. «Зачем ты меня бросила!» – кричала она, задыхаясь. Я удивленно разглядывала ее лицо, впервые наблюдая безумную маску отчаяния.
Иногда, видя по телевизору итальянские фильмы, я всматриваюсь в женские лица… Кто теперь Фиорелла?








