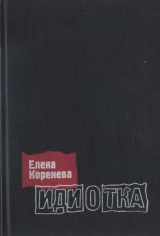
Текст книги "Идиотка"
Автор книги: Елена Коренева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В ладони мордой я уткнулась
и слышу где-то далеко —
старинный дом, окно на улицу
распахивается широко…
Наш новый дом на Речном будет местом, где я превращусь из подростка в женщину. Здесь справит свадьбу моя сестра. Сюда будут по-прежнему приходить многочисленные друзья родителей, и здесь они в конце концов разведутся, разменяв трехкомнатную на две отдельные (в одной из них у папы родится дочка от второго брака). Дом, который я буду считать родительским – взрослея, уезжая и возвращаясь.
По мнению мистиков, человек должен хотя бы раз в год видеть перед собой чистую линию горизонта. Магический крест, образующийся от пересечения вертикали тела и горизонтали пространства, дает мощный энергетический заряд, необходимый всем, особенно горожанам. Наша семья, поселившись в минутах ходьбы от канала имени Москвы, как будто вырвалась на волю из тесных арбатских переулков. Перемены к лучшему произошли у всех четверых. Папа готовился к самостоятельной работе на «Мосфильме»: закончился период, когда он был «вторым»
на картинах Эльдара Рязанова: «Карнавальная ночь», «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля». Мама начала работать на том же «Мосфильме» ассистентом по актерам, и ее первой картиной стали «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева. Моя сестра решила поступать в Полиграфический институт, хотела стать художником-графиком. Я бесконечно ей позировала – в профиль, фас, сидя и лежа, так что стены квартиры были увешаны моими портретами. Сама я поступила в английскую спецшколу, только что открывшуюся поблизости.
Училась я через пень-колоду: тройки по физике и математике, четверки, изредка пятерки по литературе и языку. Строго говоря, я не училась, а пребывала на уроках. Меня одолевала поразительная смешливость: стоило мне что-нибудь нафантазировать во время урока, и я начинала трястись от хохота, пока не выступали слезы на глазах. Однажды на уроке химии я представила, что над головой толстой, похожей на грушу химички с правой стороны висит градус, вроде ртутного шарика. То, что она очень крупная женщина, а градус над ней – малюсенький, было совсем смешно. Химичка, ничего не подозревавшая о том, что я ей «приклеила» своим воображением, продолжала с постным видом открывать рот и издавать звуки. Затем меня «понесло» – я уже видела весь свой класс с переливающимися кругляшками над головами… Наконец, почти свалившись под парту от хохота, я была вынуждена остановиться – меня заметила та, над кем я «ставила опыты», и сделала строгий выговор. Шарик лопнул! Химию я сдала, сшив пояс для шпаргалок по всем билетам. Я не знала ровным счетом ничего из этого предмета, и даже зубрежка была бесполезна: абсолютный ноль… с градусом. (Сработал принцип бумеранга: что посеешь, то и пожнешь.)
Литературу читала я тоже редко, но если уж влюблялась в какую-нибудь книжку, то зацеловывала буквально каждую страницу. Так, в четырнадцать лет я пропала с головой в поэзии Марины Цветаевой. Наш сосед Володя Барсуков принес мне темно-синий том из собрания «Советский писатель» – и больше он его не видел. Только я открыла книгу, как на меня обрушилось наваждение. Даже от синего коленкора обложки исходила какая-то особая энергия – что уж говорить про страницы и фотографии. Ее мысль, страсть, ритм, аскетизм, ее облик и что-то еще, чего мы не понимаем окончательно в любой силе, воздействующей на нас, – ее мир вселился в меня и стал мерой всего. Впервые с такой очевидностью, на примере ее жизни, я обнаружила взаимосвязь между трагичностью судьбы и масштабом личности. Как если бы невидимый некто разбросал мины на чьем-то пути и тот, кому удалось его пройти, не подорвавшись, становился гигантом.
Конечно, втайне я хотела походить на нее, и порой мне казалось, что мои профильные портреты, выполненные сестрой, похожи на цветаевские. Не обошлось и без сочинения стихов, конечно же подражательных. Услышав как-то по радио передачу о ней и возмутившись, как плоско и формально она была сделана, я бросилась к бумаге и написала стихотворение, посвященное «самой» (отныне я чувствовала почти родственное отношение к «Марине», как будто была с ней лично знакома):
И за что же ей такие почитатели
недостойные, недостойные,
не достойные ее стихов читатели.
Да она зачеркнула свою биографию —
времени, места, имен географию —
каждым шагом своего творения,
верьте, жизнь ее в стихотворении…
Вкусив поэтического ритма и вооружившись идеалом, я начала строчить стихотворение за стихотворением без остановки. Родители обрадовались, что у малявки с огромным бантом – их дочери – появились первые способности, и потихоньку зачитывали стихи из тетрадочки в линейку своим друзьям-актерам. Особенно им нравилось следующее:
Я и свечка молча таем,
сколько встреч
с глазу на глаз, —
горе горю смотрит в глаза,
воля воле хочет сказать:
кто из нас?
Вот до чего довели родительские ночные бдения да бабушкино героическое хлопанье дверью: бедное дитя! Ну, «свечка» откуда взялась, понятно – всегда жгли в квартире свечи, а вот «горе» и «волю» я позаимствовала у той, кому подражала. Хоть папа и мечтал для своей младшенькой о профессии переводчика с английского, а стихи все равно посоветовал писать и не забрасывать. Стихи были, был идеал, не хватало только любви для полного комплекта. И любовь не заставила себя долго ждать. Она пришла в лице мальчика с портфелем и гитарой, моего одноклассника. Я влюбилась. Но влюбилась не только я. Очевидно, закон мистиков, закон пресловутого «креста» сработал и подзарядил все наше семейство во время неоднократных прогулок на Канал. Влюбились все сразу: я, моя сестра и даже мама с папой.
Глава 8. Любовь ближних«…Яйца курицу не учат!» – «А если курица влюблена?» – «Ну, тогда другое дело!»
Итак, моя мама работала ассистентом на картине «Братья Карамазовы». Иван Александрович Пырьев ее очень любил, она напоминала ему Марину Ладынину, его бывшую жену. Признаться, маму любили все. Она выделялась доброжелательностью и открытостью среди людей, мучимых амбициями и комплексом нереализованности, – таких людей пруд пруди на нашей отечественной фабрике грез, студии «Мосфильм». Для всех своих актеров – а в картине снимались Светлана Коркошко, Лионелла Скирда (Пырьева), Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Марк Прудкин, Валентин Никулин и другие – она была помощницей, подружкой, Наташенькой. Но особая дружба завязалась у нее с Андреем Мягковым, исполнителем роли Алеши Карамазова.
Андрей и мама были очень похожи характерами и даже внешне: оба лобастые, светлые, улыбчивые. Когда два похожих человека сходятся, то кажется, что так и должно быть. Но если задуматься – гораздо чаще люди общаются по принципу взаимодополнения и соединяются со своими противоположностями. В свою очередь жена Андрея, Анастасия Вознесенская (вспомните юную радистку Аню из фильма «Майор Вихрь» режиссера Евгения Ташкова) и мой папа были схожи ироничностью характера, самоедством и неудовлетворенностью. Вполне естественно, что Ася и Андрей были однажды приглашены к нам домой на ужин, и он затянулся на три года. Отыграв спектакль в театре «Современник», они спешили к нам на Речной. Едва завидев на дорожке, ведущей от автобусной остановки к дому, две знакомые фигурки, мы с сестрой кричали: «Ася-Андрей идут!» И начиналась радостная суета. Ася – тоненькая, стриженная «под мальчика», востроносая, в изящном костюмчике – цокала по асфальту на каблучках, с неизменным букетом цветов в руках. А рядом, взяв ее под руку, шел улыбающийся Андрей.
Мы с сестрой наблюдали, как наши родители переживают вторую юность. Они и время проводили подчас как-то по-детски, а с ними заодно – и мы. Одним из таких вечеров, оставив папу и Андрея дома, мама с Асей и мы с Машкой отправились пройтись по окрестностям и вдруг забрели на стройку. Полезли вверх по отстраивающейся высотке и только на самой крыше испугались от того, что темно, пусто, ветер дует, и помчались вниз. В другой раз, гуляя на Канале, катались всей дружной компанией на картонках по глиняным горкам – дело было осенью. Придя домой, готовили ароматный глинтвейн, чтобы согреться, зажигали свечи, пели под гитару, танцевали. Папа считал, что это школа жизни для меня с сестрой. Танцуя как-то со мной, он устроил мне один из таких «уроков»: «Дочь, запомни, танцевать надо так, будто ты бокал, наполненный до краев, – и он никогда не должен проливаться!» Но случалось, родители уезжали в гости к Асе с Андреем, и тогда начиналось тягучее ожидание их возвращения. Я воспринимала их отсутствие спокойно, а сестра нервничала, не могла заснуть. И хоть она и была старшей, но именно мне приходилось успокаивать и делать нейтральное лицо в моменты «опасности». Вернувшихся поздно родителей Машка урезонивала: «Ну сколько можно, в конце-то концов!»
Взаимное увлечение пригодилось и в совместной работе. Папа получил постановку картины по рассказу дагестанского писателя Абу Бакара и уехал снимать комедию «Адам и Хева» в Дагестан. В одной из женских ролей у него снялась Ася (главную героиню сыграла Екатерина Васильева). Мама в свою очередь, работая с Эльдаром Рязановым на фильме «Ирония судьбы», предложила ему попробовать на главную роль Андрея. Эльдар открыл для себя нового комедийного актера, и с этого начался их успешный творческий альянс.
Что-то есть веселое в том, что мой отец получил за фильм «Адам и Хева» звание Заслуженного деятеля Дагестанской ССР. В доме появились серебряные браслеты, кольца, ножи с чеканкой… У него больше не было никаких других званий – спасибо Дагестану!
Вечера при свечах, тихие разговоры, пение, теплый ветер, дующий из окна… Какое счастье… когда счастливы твои родители!
Случилось так, что Андрей Мягков был первым, кто заметил мои актерские способности. У нас в школе существовал драмкружок, в котором репетировали сцены из «Пигмалиона» по пьесе Бернарда Шоу. Играть надо было на английском языке, учитывая, что школа была специальная. Так вот, главная героиня, исполнявшая Элизу Дулитл, почти как в настоящем театре перед премьерой, неожиданно заболела. Мне предложили ее заменить, и я, как истинное дитя спонтанности, согласилась не раздумывая. Играть предстояло две сцены: первое появление Элизы в платье цветочницы и последнее, где она уже леди. С платьем цветочницы проблем не было, а вот платье леди и сумочку пришлось позаимствовать у Аси. Андрей же был приглашен в качестве зрителя. Как только я вышла на сцену, заговорила и что-то сделала неловкое ногой, а потом рукой – раздался хохот. Я, не понимая, почему смеются, продолжила – опять хохот! И так, под легкий «шумок» зала, я отыграла свои две сцены. Мне казалось, что зал разговаривает со мной, – неожиданное, пьянящее чувство… Потом, уже работая в профессиональном театре, я поняла, что это и есть «контакт с залом», который завораживает актера и знаком только тем, кто стоял на сцене. (На самом деле от моей игры тогда мало что зависело: я, очевидно, принадлежала к тем, чей вид сам по себе вызывал юмористическую реакцию. Но в каком-то смысле это и является признаком артистичности, заложенной в природе потенциальных актеров. Если хотите себя проверить, поднимитесь на подмостки и просто посмотрите на аудиторию, – возможно, она дрогнет!) После того как вечер закончился, меня встретил мой «арбитр» Андрей и подарил мне огромный букет роз с длиннющими стеблями. По дороге домой он объяснил, что решил так: если я буду играть как все, то он подарит по розе каждому исполнителю, а если лучше всех, то мне одной. Что тут говорить? Тем же вечером, гуляя перед сном, я чувствовала на себе взгляды тех, кто был в школьном зрительном зале. Поразительное ощущение: стать вдруг заметной для посторонних, как будто прежде я была негативом, а теперь меня проявили. Вернувшись домой, я еще долго переживала произошедшее и наконец уснула… знаменитой.
Я еще училась в школе, а моя сестра, на три с половиной года старше, уже стала студенткой Полиграфического института. И вот как-то Лионелла Пырьева, подружившаяся с мамой после съемок «Братьев Карамазовых», взяла Машку в гости к знаменитому художнику Илье Сергеевичу Глазунову. Сестра моя вернулась оттуда пораженная как мастерской, так и ее хозяином. Но вскоре выяснилось, что хозяин тоже впечатлился нашей Машкой: Илья Сергеевич начал за ней ухаживать. Это неудивительно, по крайней мере потому, что моя сестра была в то время очень хороша собой. У нее была тонкая, классическая красота – многие мужчины, бывавшие у нас дома, начинали за ней приударять. Однако Маша, целиком поглощенная жизнью родителей, не отвечала им взаимностью. Но тут… она влюбилась. Ухаживания Ильи Сергеевича, по ее словам, были пылкими и дерзкими, но их отношения так и остались платоническими – о чем она временами вздыхала впоследствии.
Маша страдала от собственной нерешительности и однажды, собравшись на свидание «особой важности», попросила меня ее сопровождать. Я должна была просто ждать ее возле дома Ильи Сергеевича. Надев водолазку цвета морской волны, серую юбку, гольфы и сандалии с перепонкой на кнопочке, я пошла с сестрой на ее ответственное свидание. Пристроившись возле подземного перехода, поглядывая на башенку, где находилась прославленная мастерская, я принялась ждать. Темнело. Мимо сновали взад-вперед «взрослые» – возвращавшиеся из ресторанов повеселевшие люди. А Маши все не было. Скоро стало совсем темно. Вдруг от проходившей компании отделился мужчина в светлом плаще и, подойдя ко мне, воскликнул: «Ой, ребята, смотрите, тут девочка!» Его друзья притормозили свой ход, не обращая, впрочем, на меня ни капли внимания. «Ты что здесь делаешь так поздно?» Я выложила все, как есть: «Жду сестру, она на свидании». – «Где?» – «В этом доме». Я указала на подъезд. «Хочешь, я с тобой постою, тебе веселее будет. А чем занимаются твои родители?» Я ответила давно заученную фразу: «Папа-режиссер!» В этот момент его окликнули: «Сергей, пойдем!» Перед тем как со мной распрощаться, он протянул мне бумажку: «Если захочешь, позвони, вот телефон. А сестре скажи, что на свидание надо ходить самостоятельно!» – и ушел. Наконец появилась запыхавшаяся Машка. У нее ничего не решилось в тот вечер. А я не рассказала ей о своем новом знакомстве. Этот Сергей одно время мне звонил, спрашивал в том числе, как у папы-режиссера дела. Он был намного старше меня, как мне тогда казалось. Странная штука жизнь – с ее не разгаданными до конца встречами… Кто это был?
Глава 9. Ж-жен-щина«Люблю до гроба», – написал на моем пионерском галстуке одноклассник в конце учебного года. И наверное, он не соврал…
Свою первую любовь я встретила в школе. Пришел он к нам в середине учебного года. Забежавшие проведать меня девчонки – я болела гриппом и сидела дома – сообщили интригующую весть: в классе новенький, зовут Саша. Любопытство подстегнуло меня к быстрейшему выздоровлению, и, придя через пару дней в класс, я увидела новенького. Саша был мальчиком невысокого роста, с большими серыми глазами и волнистыми темно-русыми волосами. Он преградил мне дорогу при входе в аудиторию и, ехидно улыбаясь, принялся меня рассматривать. «Как нас зовут?» – не без иронии в голосе поинтересовался он. «Лена», – послушно отозвалась я, почувствовав себя лилипутом, сидящим на ладони Гулливера. «Вот и познакомились с Леной!» – заключил он и весело чему-то усмехнулся. Сомнений не было, новенький – бабник.
Сашина дерзость касалась не только меня, но и всей женской половины класса, включая учительниц. Он сидел на первой парте и гипнотизировал прогуливающуюся у доски женщину. Начинал он с ног, затем медленно поднимался до бюста, здесь на мгновение притормаживал и потом с улыбкой мужского понимания заглядывал в глаза. Учительница делала ему замечание, но неизменно краснела. Учился он отвратительно, однако к восьмому классу прочел Ницше, Соловьева, Розанова, не говоря уже о Бальмонте, Северянине… Мужчиной он стал, наверное, лет в четырнадцать. Слово «женщина» произносил, удваивая «ж» (естественное заикание на единственном слове), получалось – «ж-жен-щина». Не заметить его присутствие было невозможно. То и дело во время урока раздавался его смешок или остроумное замечание. Саша был взрослее и умнее нас всех, по крайней мере опытнее и свободнее. Когда на одном из школьных вечеров он взял гитару и запел, не одно женское сердце заныло – в том числе и мое.
«На братских могилах не ставят крестов, и жены на них не рыдают, к ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигает…» – пел Саша, одной рукой перебирая струны, другой крепко сжав гриф гитары. По коже бежали мурашки. Казалось, он прошел и войну, и плен, и окопы – и вот стоит теперь перед всеми как мальчик-старичок и приоткрывает нам, зеленым, завесу над тайной. Героический репертуар сменялся долгожданным любовным. И опять создавалось впечатление, что «девочкам-дюймовочкам» и «мальчикам с пальчик» пел тот, кто вкусил запретного плода любви. «Отцвела во дворе сирень, и капли падали с крыш, ты мне не сказала в тот день: постой, подожди, вернись…» «Сирень» погружала весь зал в гормональный обморок. Но Саша не только хорошо пел и ухаживал за женщинами – он также был отчаянным подстрекателем розыгрышей, жертвой которых становился какой-нибудь зануда. Ему нельзя было отказать как в дерзости, так и в смелости. На спор мог перелезть с балкона девятого этажа в соседнее окно, а зимой, раздевшись по пояс, кататься на Канале по заледенелым опорам мостов.
На счастье или на беду, но наши чувства оказались взаимными. Я ловила на себе его тяжелые взгляды, которые от класса к классу становились все тяжелее. Он приглашал меня к себе домой. И там пел под все ту же гитару более утонченные песни: «Очарована, околдована, с лунным светом когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина!» В гостях у него бывали его друзья, всегда старше его самого (одного из них – очкарика с худой шеей и острым кадыком – звали Вовой Гусинским). Они догадывались, что «драгоценная женщина» – это та соплюшка, что сидит на диване, сложив ручки на коленях и молчит, словно язык проглотила. Она не в состоянии ни состязаться с ними в юморе, ни поддержать пестрящую цитатами интеллектуальную беседу, она девочка-дурочка. Но делать было нечего, мальчику Саше застило глаза, и он уже пел дальше: «для утонченной женщины ночь всегда новобрачная», «положила боа на рояль», сравнивал себя со «златоцветом, который вечно молод», а свою одноклассницу – с «песком на мертвых берегах», отчего та еще крепче поджимала губки.
По окончании десятого класса мы начали встречаться, превратившись в глазах окружающих во влюбленную парочку. В те годы в моде был французский певец Адамо и его песня «Падает снег». За моими окнами тоже падал снег огромными хлопьями, медленно-медленно, как в рапиде, и сердце билось ему в такт. Я лежала на тахте, не торопилась натягивать свитер: мои плечи, руки, живот белели в темноте, наподобие тех холмов, что намело за окном. Отныне я для Саши не только Лена или Леночка, девочка с хвостиком, но еще и тело, к которому он прикоснулся. Я разглядывала себя с удивлением. Оказывается, моя кожа, губы, грудь умеют разговаривать моим же голосом… Теперь придется считаться со всем этим «хором», да еще выяснилось, что ему понадобится дирижер. Я-то полагала, что буду иметь дело с исполнением арии соло… Еще одно «до» и «после» отметило мое существование. Ах, какая новая эта история – такая длинная впереди. Меня опознали! Я – часть рода человеческого, одна из его представителей – женщина. И тот, кто опознал, может это засвидетельствовать.
Женщиной, или «ж-жен-щиной», я стала чуть позднее той ночи, когда падал снег. Зажатая к стене своим будущим мужчиной, я почувствовала, как он взял мою руку и спросил: «Ты хоть знаешь, что это такое?» Я потеряла невинность той ночью, но «что это такое», еще долго не могла сказать с уверенностью. Мое сознание и мое тело существовали по отдельности. Каждый раз, уходя от Саши, совершавшего надо мной акт любви, я чувствовала себя причастной какому-то новому ритуалу, и коль этого желает мой возлюбленный, думала я, то этого желает наша с ним любовь. В том, что это любовь, не было сомнения. Однако мне тайно казалось, что, если бы не он, я была бы не прочь оставаться девственницей.
Сашин отец увлекался охотой. Целая коллекция ножей и ружей красовалась на стене одной из комнат, а в прихожей гостей встречал медвежий или кабаний оскал. Я часто ловила себя на мысли: «Если что – схвачу нож и убью себя». Я определенно связала любовь с надрывом страстей и со смертью… «Нож и кровь и слово – любовь», – написала я много лет спустя в одном стихотворении. Любовь как гармония, несущая мир душе, в течение многих лет обходила меня стороной и была неизвестна.
Как-то раз сосед по дому пригласил меня в гости. Он хотел сообщить что-то важное. Прежде чем начать говорить, он предложил мне закурить, сказав, что так будет легче. Я закурила свою первую сигарету. «Он тебе изменяет!» – вымолвил наконец сосед. С того вечера я начала курить. А «он» начал изменять. Этот же сосед был тем, кто сообщил моей маме и сестре, что я стала женщиной. Мама и сестра пошептались и вывели меня на «серьезный разговор, для моего же блага». Я что-то кричала в ответ и рвалась на свидание. Упершись ногой в косяк двери, руками вцепившись в ручку, пыталась вырваться и убежать. А сзади мама с сестрой удерживали мое сопротивление. «Пусть идет!» – не выдержали они, и я ушла. Ушла совершать любовный обряд из духа противоречия.
К семнадцати годам я усвоила на опыте родителей, что мужчина и женщина могут очень любить друг друга и тем не менее продолжать влюбляться в других, похожих на них, мужчин и женщин. И второе, что я усвоила, уже на собственном опыте: мужчины будут любить и изменять, а я смогу им это прощать.








