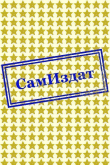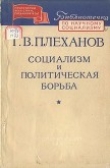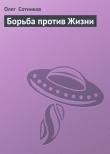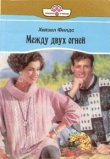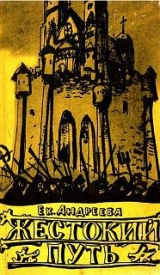
Текст книги "Жестокий путь"
Автор книги: Екатерина Андреева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Кровавое воскресенье
При последнем русском царе Николае II, когда усилилась социалистическая пропаганда среди рабочих, церковь поняла, что революционное движение пролетариата несет с собой угрозу самодержавию и духовному рабству народа. И церковь стала особенно активно бороться, стала тайной агентурой полиции. Духовенство шпионило в армии, в школах, в цензуре, в учреждениях. Обер-прокурор синода Победоносцев видел в церкви главную опору в борьбе с крамолой, и духовенство верно служило царизму в подавлении рабочего движения.
Обыкновенно рабочие-революционеры увольнялись с фабрик, их арестовывали и ссылали в Сибирь на каторжные работы, демонстрации разгонялись солдатами, забастовки жестоко подавлялись. Но в последние годы перед революцией 1905 года полиция стала действовать еще и обходными методами.
По предложению начальника московской охранки полковника Зубатова были созданы рабочие организации, разрешенные правительством, потому что ими тайно руководили люди, служащие в охранке. Чтобы обмануть рабочих, эти организации выдвигали иногда очень скромные требования, главным же образом старались отвлечь рабочих от политики разными культурно-просветительными мероприятиями. Во главе таких «зубатовских организаций» часто стояли священники, которые особенно старались повлиять религиозной пропагандой на рабочих, еще не совсем освободившихся от веры и бога.
Здесь духовенство действовало в полном контакте с жандармами, и В. И. Ленин, разоблачая их, писал: «.. интересная картина: генералы и попы, зубатовские шпионы и верные полицейскому духу писатели собрались «помогать» рабочему выбиваться из-под влияния социалистического учения! – а кстати также помогать вылавливать неосторожных рабочих, которые пойдут на удочку».
Весной 1903 года в Петербурге священник Георгий Га-пон по предложению царской охранки создал по образцу зубатовских организаций общество, которое называлось «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга». Министерство внутренних дел утвердило устав этого общества, и Гапон был назначен его ответственным руководителем. Эта гапоновская организация распространяла религиозную и черносотенную литературу, организовывала духовные хоры и популярные лекции на одобренные полицией темы.
Агенты охранки внушали рабочим мысли, что незачем устраивать революцию, потому что царское правительство само готово помочь рабочим.
В 1903 году гапоновская организация имела уже 11 отделений и состояла из 9 тысяч членов. Революционный подъем все нарастал. На собраниях, вопреки желаниям Гапона, часто поднимались жгучие политические вопросы.
В декабре 1904 года на Путиловском заводе администрация несправедливо уволила четырех рабочих. Это вызвало возмущение, и рабочие завода требовали их восстановления на работу. А когда администрация отказала, Путиловский завод забастовал, и к 8 января 1905 года бастовали уже все крупные заводы Петербурга.
Тогда Гапон, по заданию полиции, предложил рабочим составить прошение на имя царя, в котором будут изложены все их беды и нужды, и пойти мирной демонстрацией к Зимнему дворцу, где прошение будет передано в руки царя. Это прошение обсуждалось на рабочих митингах. Большевики выступали с предупреждениями, они старались убедить легковерных рабочих, что это провокация. Петербургский комитет большевиков выпускал листовки, в которых писал, что у царя не надо ни просить, ни требовать и не надо унижаться перед ним, потому что царь – это заклятый враг рабочих. Надо сбросить его с престола и вместе с ним выгнать всю его шайку, – только так можно завоевать свободу.
Но многие рабочие еще верили царю, и 9 января 1905 года сто сорок тысяч человек двинулось к Зимнему дворцу из различных районов города. С рабочими шли женщины, дети и старики. Они несли с собой иконы, царские портреты, хоругви из церквей и пели молитвы. Огромная толпа собралась перед Зимним дворцом у Адмиралтейства и Дворцового моста. Дворец был окружен частями Преображенского полка. Царское правительство еще накануне приготовилось к расправе над рабочими, и в помощь городскому гарнизону были вызваны войска из Пскова, Нарвы, Ревеля, Петергофа.
Солдаты с ружьями наперевес, одни верхом, другие пешие, стояли лицом к лицу с рабочими. Многие мужчины в толпе, уже предчувствуя недоброе, стали подталкивать женщин и детей назад, чтобы спрятать их за своими спинами. Одни из рабочих в недоумении молчали затаив дыхание, другие были словно пристыжены, а третьи стали ругаться вполголоса. Над площадью стоял гул, то нарастая, то спадая, будто налетали порывы ветра, хотя никто громко не разговаривал. «В чем дело? Зачем солдаты? Мы пришли мирно с просьбой к царю!»
И вдруг раздался ружейный залп, за ним второй и третий. Солдаты стреляли в безоружных людей, и на землю упали сотни убитых и раненых. А звуки залпов, словно обойдя весь мир и повсюду предупреждая трудящихся, отозвались далеким эхом и, наконец, обессиленные, замерли вдали.
Гапон шел с шествием рабочих Нарвского района. Кавалерийские части атаковали демонстрацию у Нарвских ворот, и пехота начала стрелять. Люди падали, кричали, бежали, захлебываясь в крови. И никто не видел, как и где скрылся Гапон.
К вечеру того же дня рабочие начали строить баррикады. Так началась первая русская революция.
В это воскресенье – 9 января, – прозванное «кровавым», самодержавие вместе с расстрелом мирных рабочих расстреляло и их наивную веру в царя и в «божью помощь». Гапон бежал за границу. Владимир Ильич Ленин несколько раз встречался с ним, и ему стало ясно, что Гапон использовал свою священническую рясу и религиозную проповедь для обмана рабочих. Надежда Константиновна Крупская писала, что Гапон был «хитрым попом, шедшим на какие угодно компромиссы». Вернувшись в Россию, Гапон снова работал в охранке, но весной 1906 года рабочие его повесили в Озерках (пригороде Петербурга), когда окончательно убедились, что он провокатор.
Духовенство принимало активное участие в подавлении революционных восстаний и даже придумало особую молитву против революции, которая читалась в церквах. Всячески пытаясь уговорить рабочих прекратить борьбу, священники в то же время прятали на колокольнях церквей и монастырей вооруженных полицейских.
Эта первая русская революция многим открыла глаза на то, что представляет собой религия и духовенство. Рабочие текстильной фабрики Саввы Морозова в Москве сочинили даже новую «Камаринскую», кончавшуюся припевом:
«Эх, наставники духовные, Проповедники церковные! 'С виду божий угодники, Втихомолку греховодники! У вас брюхи слишком пухлые, Ваши речи слишком тухлые. Эх, ребятушки, живей, живей, Соберем колокола со всех церквей. Из них пушку мы большую отольем, Духовенством эту пушку мы набьем, Знатно выпалим попами в небеса, Уж посыплются нам с неба чудеса… На купцов, да на попов, да на царей Поднимайтёся, ребятушки, скорей, скорей!»
После революционного подъема вера среди населения настолько ослабела, что правительство и церковь широким потоком стали распространять религиозно-нравственную литературу с клеветой против рабочего движения и злобой против науки. В журнале, издаваемом церковью, с горечью отмечалось, что «в наши дни оскудело народное благочестие, даже в селах храмы пустуют, исчезают давние привычки и обычаи религиозно-патриархального быта».
Величайшего русского писателя Льва Николаевича Толстого духовенство отлучило от церкви и предало анафеме. Правительство вместе с духовенством организовало контрреволюционные союзы – «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела» – для травли передовых людей, для борьбы с рабочим движением, для проведения еврейских погромов, этого несмываемого позора XX века. Духовенство оправдывало массовые казни революционеров, проповедовало в церквах, что Христос был врагом социализма, что царская власть и капитализм освящены богом. И когда 11 декабря 1910 года 75 врачей, окончивших Томский университет, выразили протест против смертных казней, святейший синод осудил их и предписал духовенству следить за тем, чтобы никого из этих врачей не брали на службу в учреждения православного вероисповедания.
Лицом к лицу
Бурный голос Октябрьской революции прокатился из конца в конец по необъятной стране и, отдаваясь как эхо, все нарастал и множился. Народ в исступлении и ярости, обливаясь собственной кровью, забыв бога, боролся за мечту о справедливости, любви и братстве…
Старое житье, бесправное, придушенное, задурманенное религией, кончилось. Прошло то время, когда придавленный человек едва дышал, надеясь на бога, когда культура служила не добру и счастью, а только злу и истреблению, когда даже человеческий гений подчинялся тяжкой силе несправедливого и жестокого закона.
Трусливое духовенство не захотело, да и не могло покориться новой власти. Ведь в этой борьбе религия и коммунизм столкнулись лицом к лицу, не на жизнь, а на смерть! Стиснув зубы, отцы церкви стали подбивать народ на сопротивление. И кто думал тогда, в эти горячие и радостные для России дни, о всероссийском церковном соборе, о том, что он восстановит в стране и воскресит из мрака веков высшую духовную власть – патриаршество?
А духовенство выбрало патриархом епископа Тихона, который при самодержавии был председателем «Союза русского народа» в Курске и оправдывал еврейские погромы. Духовенство объясняло, что церкви необходим патриарх, «чтобы в новой войне дать церкви вождя». Но в какой войне? Конечно, в войне с коммунизмом, в войне против коммунистов-безбожников. И Тихон, став патриархом, прежде всего предал анафеме советскую власть и обратился к народу с посланием, в котором объявил Октябрьскую революцию «делом сатаны».
В 1918 году советской властью был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Этот декрет вызвал со стороны духовенства призывы к христианам всего мира о помощи против гонений на церковь в Советском Союзе. И тогда коммунизм и коммунистов, советскую власть и Советский Союз стали проклинать служители всех церквей и религий: патриарх Тихон и папа римский, пасторы и ксендзы, попы и муллы, раввины и ламы.
Под предлогом защиты религии, на самом же деле против социализма, империалисты собрались в поход на Россию. Еще не кончилась гражданская война, как началась интервенция.
В 1921–1922 годах Советская страна переживала тяжелое бедствие – голод охватил все Поволжье, и голодало около 14 миллионов человек. В те годы была засуха. Месяцами не было ни капли дождя, земля покрылась трещинами. На полях вместо зеленых сочных всходов росли чахлые редкие былинки. От жары горели леса, на кустах ссыхались ягоды. Сохли водоемы, погибала рыба. После бесплодного лета наступила еще более страшная зима. Люди вместо хлеба ели солому с крыш, березовую кору, белую глину, и ежедневно печальные процессии направлялись к кладбищам. Попы хоронили умерших и проповедовали, что это бедствие послано богом за грехи людей, за то, что они допустили к власти коммунистов-безбожников.
Кроме засухи, в голоде был повинен и упадок сельского хозяйства после первой мировой и после гражданской войны. В феврале 1922 года Советское правительство издало декрет об изъятии церковных ценностей, чтобы на эти деньги купить за границей хлеб для помощи голодающим. Тогда духовенство открыто стало призывать народ к борьбе с советской властью, которая «осмеливается» «нарушить вековую неприкосновенность «божьего достояния». Патриарх Тихон опубликовал воззвание против изъятия церковных ценностей, и духовенство так сопротивлялось, что во многих местах дело доходило до кровавых столкновений. В этой антисоветской борьбе принимали участие также католические ксендзы, протестантские пасторы, еврейские раввины и магоментанские муллы.
Победа над интервентами, ликвидация голода, укрепление советской власти заставили, наконец, церковников частично изменить свою политику. Духовенство сделало попытку приспособить церковь к новой обстановке и признало «справедливость социальной революции».
Патриарх Тихон, привлеченный к судебной ответственности за антисоветскую деятельность, подал Верховному Суду в июне 1923 года заявление с выражением раскаяния, обещанием не сноситься с белогвардейцами и эмигрантами, и с просьбой об освобождении, что и было сделано. – Перед своей смертью, в 1925 году, Тихон составил завещание, в котором призывал верующих подчиниться советской власти и полностью ее признать.
Особенно сильно антисоветская деятельность духовенства сказалась при борьбе с кулачеством и во время коллективизации. Религия настраивала людей против социализма, против колхозов. Религиозные организации фабриковали и распространяли так называемые письма с неба, в которых от имени бога грозили несчастьями для тех, кто вступит в колхоз.
В бога не верю, и вам не советую…
Величайшая эпоха в истории человечества – эпоха перехода от классового общества к бесклассовому, от капитализма к социализму – навеки связана с именем Владимира Ильича Ленина.
Чуткий, отзывчивый, справедливый и энергичный Владимир Ильич с детства выделялся среди сверстников своими способностями и развитием. Среди родных и близких Владимиру Ильичу людей не было верующих, и уже с детства Володе Ульянову была чужда обычная в те времена детская набожность. Г. М. Кржижановский писал про Владимира Ильича, что «он говорил мне, что уже в пятом классе гимназии резко покончил со всяческими вопросами религии: снял крест и бросил его в мусор».
Произошло это, видимо, после такого случая: к отцу Володи Ульянова приехал из Петербурга чиновник из Ведомства народного образования. Илья Николаевич рассказывал ему, что дети не любят ходить в церковь, на что гость, глядя на Владимира Ильича, сказал: «Сечь, сечь надо!» Ленин выбежал во двор, сорвал с шеи крест, который еще носил, и бросил его на землю.
Товарищ Володи Ульянова по гимназии Д. М. Андреев писал в своих воспоминаниях о прогулке с Володей Ульяновым по улицам Симбирска: «Дойдя до высоких белых стен Спасского женского монастыря, Володя вдруг остановился и стал рассматривать залитую лунным светом обитель.
– Вот куда люди сами бегут от жизни и хоронят себя заживо! Хороша, верно, их доля, если они в этой тюрьме находят утешенье!»
А один из знакомых Ленина А. А. Беляков описал поездку Владимира Ильича с товарищами (среди которых был и Беляков) по Волге и реке Усе. «Ему давно хотелось познакомиться с крестьянином Василием Князевым и сектантами Амосом из Старого Буяна и Ерфилычем из села Кобельмы. Самым наболевшим вопросом для Амоса и Ерфилыча, самым острым их желанием уже давно было «придумать такую простую веру, без всякого обмана, которая бы сразу всех людей сплотила в единую братскую семью и тем уничтожила всю неправду и народила бы рай на земле, всю бы жизнь перекроила». Вопрос о такой вере был основным делом для обоих друзей, Амоса и Ерфилыча, неустанных пропагандистов против обманов церкви и неправды житейской. Владимир Ильич очень популярно, весьма убедительно и чрезвычайно просто разъяснил, что «веру нельзя придумать, сочинить. А если веру придумать, и даже очень хорошо, как это сделал граф Толстой, то эта вера не изменит человеческих отношений, а, наоборот, человеческие отношения, вернее хозяйственные нужды, хозяйственные отношения могут изменить всякую веру, приспособить ее для нужд хозяйства без всякого труда. Владимир Ильич так удачно иллюстрировал свои мысли рядом ярких и простых примеров, что оба сектанта, всю жизнь исходившие в своих рассуждениях из Библии и Евангелия и придумывавшие веру, как-то сразу молниеносно просияли. Они поняли, что вера, как и бог, сотворены людьми.
«А мы-то, дураки, целую жизнь ухлопали на то, чтобы верой жизнь перекроить. А оно, действительно, совсем просто, наоборот?»
Провожая Владимира Ильича с товарищами, Амос все время твердил про себя: «Эх, в рот тебе ситного пирога с горохом, в одночасье веру псу под хвост, всю душу переворотили..»
Ленин еще в юности понял, что религия возникает не сама по себе, а при определенных условиях жизни. Если веру придумать, то она все равно будет бессильна, ведь жизнь течет и развивается по своим законам; хозяйственные нужды, а не религия меняют человеческие отношения. Условия жизни определяют сознание человека, поэтому тяжелая жизнь людей делает их восприимчивыми к вере в бога. Иными словами, – где страдания, там и религия.
Когда Ленин жил в Петербурге (1894–1897 гг.), он руководил «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» и сетью рабочих кружков и воскресных школ; Н. К. Крупская тоже принимала самое активное участие в этой работе.
В воспоминаниях о В. И. Ленине она писала об одном рабочем, который «только на страстной неделе узнал… что бога нет, и так легко стало, потому что нет хуже, как быть рабом божьим, – тут тебе податься некуда, рабом человеческим легче быть, – тут борьба возможна…» Пожилой рабочий толковал, что никак он из церковных старост уйти не может, «потому что больно попы народ обдувают и их надо на чистую воду выводить, а церкви он совсем даже не привержен и насчет фаз развития понимает хорошо».
В этих высказываниях рабочих отношение к религии стоит в связи с вопросами общественной борьбы. Именно так эти вопросы всегда ставились и решались Лениным.
В дни революции и гражданской войны Ленин часто сталкивался с влиянием религии на народ и с ее ролью в классовой борьбе. Ленин, как народный вождь и как глава государства, руководивший борьбой двух мировоззрений – коммунистическим и религиозным, в то же время нередко сам принимал участие в пропаганде антирелигиозных убеждений, стараясь помочь темному народу избавиться от религиозного дурмана.
Летом 1917 года Ленин довольно часто выступал на митингах рабочих и солдат с балкона дворца Кшесинской на Петроградской стороне в Ленинграде. В этом дворце помещался тогда Центральный Комитет партии.
Тысячами стекался народ к дворцу Кшесинской, и все жадно ловили каждое слово Ленина, впиваясь в него напряженными взорами. Его страстная убежденность покоряла сердца людей. Он говорил с характерными для него жестами, говорил глубоко продуманные слова, с железной логикой развертывая перед слушателями причину происходящих событий, и всем делалось ясно, что другого пути к победе пролетариата нет и не может быть, кроме указанного им – Лениным.
И вот во время одной из страстных речей Ленина из толпы вдруг раздался голос:
– А в бога-то ты веруешь, антихрист?
Это крикнул разгневанный священник, и Ленин тут же ему ответил с насмешкой:
– Бога бойся, царя чти, не так ли, батюшка?.. Но я царя не чту и бога не боюсь! Вот послушайте, товарищи, почему и отчего я не верю… – И в ярких выражениях
товарищ Ленин разоблачил всю «небесную механику». При общем смехе разбитый в пух и прах попик поспешил скрыться. А рабочие еще долго обсуждали слова Ильича и решили:
– Царь и бог – одного поля ягодки. Оба для обирания и порабощения нашего. Долой религиозный обман!
Позднее, во время гражданской войны, на прием к Ленину в Кремль пришла группа крестьян-ходоков. После окончания беседы, собираясь уходить, крестьяне задержались у порога. Ленин заметил, что они нерешительно мнутся и, видимо, хотят задать какой-то вопрос. Он обратился к ним:
– Что еще, товарищи? Говорите смело.
– Вот спросить хотели, – ответил один из них, – не обессудь только! Говорят, что ты в бога не веруешь и не молишься никогда. Правда это?
Ленин улыбнулся и ответил:
– Грешен, – в бога не– верую и драгоценное время на поповские молитвы не трачу. Да и вам не советую! А по чему так—садитесь, разъясню.
Ильич усадил опять стариков, запер двери, чтобы не мешали беседе, подсел поближе к крестьянам и повел речь.
Через полтора часа, не раньше, вышли мужики от Ильича. Словно подменили людей! Лица светятся какой-тс новой мыслью, удивлением и благоговением.
– Да, ловко нас богом опутывали! – произнес один из них. Теперь прозрели.
Всю жизнь Ленин боролся против всех форм угнетения, в том числе и против духовного угнетения народа. При нем борьба коммунизма с религией стала насущной задачей борьбы за лучшую жизнь.
Ленин считал, что идея бога всегда усыпляла и притупляла человека, делала его пассивным, терпеливым ко всем невзгодам жизни. Идея бога – это идея рабства. Понятие народных масс о боге, говорил Ленин, «это тупость, темнота, забитость, совершенно так же, как народное представление о царе, о лешем, о таскании жен за волосы».
Ленин считал религию фантастическим мировоззрением, следовательно, антинаучным и по содержанию своему ложным. Он впервые раскрыл ее источники и корни – экономические и исторические.
Ленин отрицал, что религия держится исключительно на невежестве людей и доказывал, что прежде всего религия коренится в условиях их жизни. Произошла она от бессилия первобытного человека перед силами природы, а держится благодаря кажущейся полной беспомощности трудящихся масс перед силами капитализма, «который причиняет ежедневно и ежечасно в тысячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям, чем всякие из ряда вон выходящие события вроде войны, землетрясений и т. д. – вот в чем самый глубокий современный корень религии», – писал В. И. Ленин.
Страх перед слепой силой капитала, перед возможным ухудшением жизни, безработицей, голодом и нищенством, заставляет уповать на бога. Маркс и Энгельс красочно назвали религию «вздохом угнетенной твари». Этот страх перед возможным еще большим ухудшением положения с сознанием своего бессилия «неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.»
Но Ленин говорил только об относительном бессилии. И дикарь боролся по мере своих сил с природой, и только благодаря этой борьбе он выжил. Трудящееся человечество также боролось против угнетателей и могло идти вперед только благодаря классовой борьбе.
Маркс назвал религию опиумом для народа. Настоящий опиум действительно усыпляет человека, заглушает боль, навевает сладкие сны, дурманит сознание так, что человёк забывает о действительности. Религия утешает верующих, они в молитве забывают свою тяжкую долю и отдыхают в мечтах о «загробной жизни», где будут счастливы. Ленин называл религию негодным продуктом негодного общественного строя и родом духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь. А «кто утешает раба, вместо того чтобы поднимать его на восстание против рабства, тот помогает рабовладельцам», что и делает религия.
В борьбе за коммунизм, считал Ленин, религия постепенно преодолевается и отмирает совсем в коммунистическом обществе. Борьба же против религии способствует успешности борьбы за коммунизм. Поэтому необходима антирелигиозная пропаганда и борьба против религии, но с условием, что она будет только составной частью общей борьбы и будет подчинена общим задачам классовой борьбы пролетариата за коммунизм.
Марксизм и коммунизм есть материализм, поэтому он беспощадно враждебен религии. Отсюда следует, писал Ленин, что «мы должны бороться с религией» и что «это – азбука всего материализма и, следовательно, марксизма». Духовенство приспосабливается к обстоятельствам. Оно уже не проповедует, что труд – это божье проклятье и что на земле нельзя достичь счастья; оно даже согласно, что надо строить коммунизм. Церковь готова отказаться и от библейской сказки о сотворении мира богом в шесть дней, чтобы доказать, что религия не противоречит науке, но всеми силами отстаивает превосходство религиозной морали. В новых для себя современных условиях церковь, чтобы добиться отклика в душах верующих, умело воздействует на их эстетические чувства торжественными богослужениями, обрядами, праздниками, старается удовлетворить их потребность в красоте стройным хоровым пением и внешним благолепием Многие верующие как бы загипнотизированы религией, и этот гипноз тормозит пробуждение их сознания. А некоторые священники до сих пор упорно продолжают внушать, что всякое умствование «от сатаны», повторяя старинное церковное правило: «Не чти много книг, да не впадеши в ересь». Но эти старания духовенства бессильны, наука быстрыми шагами идет вперед. И по мере продвижения к коммунизму, как и предсказывал Ленин, религиозность среди населения падает.