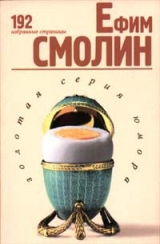
Текст книги "192 избранные страницы"
Автор книги: Ефим Смолин
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Исповедь
Батюшка, я понимаю: совершенному мною нет прощения в нашем обществе...
Передо мной днем и ночью стоит лицо той девчушки – кассира! Как она на меня смотрела полными ужаса и непонимания глазами! Тянула ко мне руки... И я хочу облегчить душу... Хочу сказать... Я вчера среди бела дня... этой девчушке... заплатил налоги... Боже, как я ее напугал... Она приняла меня за сумасшедшего...
Я был не один... Самое отвратительное, что я заставил участвовать в этом деле жену. Она стояла на шухере и должна была дать знать, если мимо пройдет кто-то из знакомых или подъедет перевозка из Кащенко...
А я вошел... в черной маске... чтоб не узнали... и заплатил...
И я вам хочу сказать: соскользуть на кривую дорожку честной жизни легко, а сойти с нее трудно. Эта честная жизнь засасывает, как болото...
Я теперь понимаю: конечно, все не случайно. Я не ищу себе оправдания, но корни того, что я совершил, конечно, лежат в моем детстве, в тех, кто меня окружал. Что я видел тогда? Детство жуткое было. Наш подъезд – не приведи бог: кругом одни отличники... из музыкальной школы.
Вечером погулять выйдешь – уже стоят. Кто со скрипкой, кто с виолончелью... Стоя-ят, смычками поигрывают... А что я? Пацан, попал под влияние... В подъезд завалимся и давай Моцарта наяривать, от Шуберта балдеть... А Моцарт, он же душу осветляет, после него вообще, как пьяный: легко так становится, добро делать хочется... Ну как воровать после Моцарта? После него можно только с повинной идти, такое чувство, что больше года не дадут... Или Бетховен. После него только захочешь налоги укрыть, а в мозгу сразу: "па-па-па-па..." – тема судьбы...
Ну, и где сейчас эти музыканты? Естественно, их общество отторгло. Один профессор в Гнесинском, побирается, конечно... Другой – дирижер в Большом театре. У него тоже, кроме палочки, вообще ничего нет.
Меломаны – это ж те же наркоманы – затянет не выберешься. От этого же не зашьешься. Сейчас, правда, говорят, пробуют таким, помешанным на классике, как торпеду алкашам, кассету со специальной музыкой в ягодицу зашивать. Эта специальная музыка так и называется – поп-музыка. Я, правда, так и не понял в честь чего ее так назвали: то ли по месту, которым ее слушают, то ли по месту, куда ее зашивают, то ли по месту, которое ее воспроизводит...
Говорят, после такой зашивки какого-нибудь Брамса слушать невозможно: сразу тошнит, наизнанку выворачивает. Но лучше, я вам скажу, с детства к этой классике несчастной не привыкать, чем потом мучиться и лечиться...
Вот ребятам в соседнем подъезде как повезло, как повезло! Они, кроме "Мурки", ничего не слышали. Ну, у них и старший наставник был – позавидовать можно! Красавец, весь в татуировке, во рту фикса горит, только что из лагеря...
Конечно, у него ребята выросли – как раз то, что надо сегодня! Уважаемые люди! Они тут к нему недавно в гости приезжали. Ну, у него теперь особняк, швейцар в ливрее. И они подъехали – это ж любо-дорого посмотреть! На таких машинах! Весь двор высыпал. И швейцар так торжественно:
– Домушник из Солнцева с супругой!
– Бригадир Афоня из подольской группировки!
– Братва из Долгопрудной!..
Ну, что тут сделаешь? Повезло с наставником. Я нашего вспоминаю – тоже один лоб крутился, все картинки с девочками показывал: "Девочка с персиками" Серова, "Девочка на шаре" Пикассо... В Третьяковку нас водил... Господи, кому это все теперь надо?
Что обо мне говорить? Я-то с этой своей честностью – человек конченый. Меня сынок беспокоит, как бы он по моей дорожке не пошел.
Нет, что мог для его современного воспитания – я все сделал. Там Пушкина с Толстым, Гоголя с Тургеневым – это все я спрятал...
Иногда, если самого потянет стихи почитать, вкладываю их в обложку от "Плэйбоя": сынку в голову не придет, что там Лермонтов спрятался. А уж журналов-то этих сынок насмотрелся побольше папаши... Не подойдет.
С музыкой, батюшка, я тоже все продумал. Кассету с Бахом в плейер вставляю, чтоб не слышно было, на голову наушники... Надо только под Баха дергаться по-современному: пусть мальчик думает, что я слушаю какую-нибудь группу типа "Ногу свело", "Руку оторвало"... Нет, дергаться, батюшка, это как раз не трудно – в руки два голых провода от сети берешь... Действительно, так ногу сводит, так начинаешь дергаться, трястись и извиваться – Майкл Джексон может отдыхать!
Вот с телевизором сложней. Я тут чуть не попался... Признаться стыдно... У самого уже пацан взрослый, а я все как в юности... Дурак такой... Только все улегутся – я щелк! И "Очевидное-невероятное" смотрю. Его сейчас глубоко за полночь показывают. Ну, кого оно еще интересует, кроме такого козла, как я?
И вот однажды, как назло, только мне Капица сказать успел: "Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, что разноименные тела притягиваются! Это очень интересно!.." И тут парень мой со словами: "Ой, я тащусь – папашка Капицу смотрит!.." – дверь открывает!..
Фу! Я еле успел на НТВ, на порнуху переключить... Что вы говорите, батюшка? "Слава богу?.." Вот именно... Хорошо, там как раз чьи-то разноименные тела притягивались... Сынок посмотрел. Говорит: "Во дает Капица! А ведь не молодой уже... Папа, ты знаешь, а мне эта физика нравится! Я, пожалуй, в ученые пойду..."
Я говорю: "Не дай бог, сынок! Что у нас – нищих не хватает? "Ученым..." И будешь, как Красная Шапочка, ходить с одной потребительской корзинкой"...
А с этим сексом вообще... Ну, у таких, как я, ведь все не как у людей... Я отношусь к "сексуальному меньшинству"... Ну, это те мужики, батюшка, кто могут только с женщиной, и только один на один. Да, нас таких сегодня меньшинство. Вот такой я извращенец...
Конечно, скрываю – вру, изворачиваюсь... Мы тут с женой в дом отдыха поехали. Ну, у нас два варианта было: или такой номер, куда горничная никогда не заходит, или подороже, такой, куда заходит каждое утро... но без стука. Мы второй выбрали.
И вот она врывается, мы с женой еще в постели. Увидела, что нас там только двое... Вы бы видели, батюшка, с каким презрением она на нас посмотрела! И правильно! Извращенцев никто не любит... Пришлось мне срочно пересматривать свою сексуальную ориентацию...
Ну, ничего на следующее утро зауважала! Входит – видит из-под одеяла кроме наших еще шесть очаровательных ножек выглядывает. Даже семь...
Горничная на жену смотрит, подмигивает, а та молчит. И так молчит уже неделю! С той минуты, когда наткнулась в кровати на ножки для холодца... Конечно, если спросонья под одеялом копыто нашариваешь... В общем, шок у нее...
Я своей честностью людям только несчастье приношу. Ну что мне стоило тогда трех настоящих девок в кровать положить? Долларов двести, больше бы не стоило...
А когда старушку-соседку из-за меня инсульт хватил?.. Ну, она, правда, сама немножко виновата. Все жену спрашивала, почему у меня нет малинового пиджака.
– Сегодня, – говорит, – Зина, приличного мужика сразу видать. И на твоем должон быть пинжак малиновый, а в руке – телефон-автомат. Или просто автомат. А твой своим затрапезным видом мене раздражает...
Ну, я свой серый гэдээровский пиджачишко малиновым вареньем помазал, вечером вышел, в соседней будке телефонную трубку срезал – назад с ней иду. Вид нормальный, только пиджак почему-то мухи облепили...
А старушка как раз у подъезда сидела. Думаю: "Подойду, порадую бабушку..."
Она меня, как в темноте увидела, всего в мухах, закрестилась, закричала:
– Мертвец идет! Мертвец идет!..
А когда я, как крутой, достал из кармана телефонную трубку, она как закричит:
– Не звони на тот свет, я еще поживу!..
Ну, старушка – черт с ней, а жену жалко. Она ведь мне верила, думала, что я приличный человек – рэкетом занимаюсь...
Каждое утро будила, провожала, напоминала, чтоб я утюг не забыл... А я бессовестно лгал! Брал этот чертов утюг, паяльник, клещи, а сам – на завод вкалывать...
Пока зарплату платили – все нормально было. Один раз даже премию дали. Помню, по дороге в кулинарию зашел, купил куриной печенки, в тот же пакетик премию... Домой приношу, вынимаю деньги – все в крови...
– Вот, – говорю, – не сразу отдал, дурачок, пришлось замочить...
Нет, пока зарплату платили – все ничего. Но вот, когда стали вместо денег выдавать готовой продукцией... Батюшка, я не говорил, что мы выпускаем? Раньше-то у нас почтовый ящик был, мы боеголовки делали... Ну, а теперь конверсия, мы в мирных целях, мы не боеголовки, мы просто головки делаем. Головки, вибраторы разные, ну, для секс-шопов, в общем, да вы знаете, батюшка...
И когда ими аванс дали... Приношу домой целую коробку, в ней штук пятьдесят этих...
– Сегодня, – говорю, – денег не дали. Пришлось вот...
Жена говорит... Она тогда еще говорила... Жена говорит:
– Господи! У кого это ты отрезал? Ты, Федя, так можешь страну оставить без подрастающего поколения!..
Проклятая честность! Черт меня потащил эти налоги платить готовой продукцией! Господи! Как на меня эта девочка-кассир смотрела, когда я двадцать восемь процентов, двадцать восемь штуковин из этого ящика перед ней выложил!..
Нет мне прощения, батюшка!
Феномен
В пятницу, в девять сорок три утра на шестьдесят пятом километре Минского шоссе лейтенант милиции Гвоздев засек радаром движущийся на большой скорости джип «Чероки» и потребовал остановиться.
Управлявший джипом господин Желудков подчинился, свернул на обочину, вышел из машины и пошел к постовому, на ходу открывая бумажник и привычно протягивая деньги. Казалось, ничто не предвещало трагедии...
И тут... Гаишник отрицательно покачал головой и спокойно сказал:
– Я эти деньги не возьму...
Желудков нервно оглянулся – вокруг не было ни души. А тут прямо перед ним стоял... стоял сумасшедший милиционер, с оружием...
Ему стало так страшно, как никогда! И он побежал, побежал что было сил по шоссе, оглашая диким воплем окрестности... Останавливались машины, выглядывали из леса грибники – он ничего не видел, кроме мелькавших километровых столбиков...
Очнулся Желудков на больничной койке. Над ним стояли врачи...
– Где я? Что?..
– Успокойтесь, – сказал врач. – Вы в Минске...
– В Минске?..
– Да. Вы в сильнейшем шоке пробежали несколько сот километров! Потом потеряли сознание...
– А где... где тот... страшный... он не берет... не берет...
Врачи переглянулись между собой. И самый пожилой из них, но еще вполне толковый, заметил:
– Он что-то хочет рассказать. Похоже, память возвращается...
...Звонок Президента Белоруссии раздался в Кремле ровно через час.
Уже спешно ставили на границе между двумя республиками санитарные кордоны: страшно было даже подумать, что произойдет, если болезнь, поразившая лейтенанта, примет характер массовой эпидемии – вся экономика, построенная на принципе "ты мне – я тебе", могла рухнуть в одночасье...
Уже мчались к злополучному посту десятки машин: начальство, врачи и, конечно, вездесущие газетчики и телерепортеры...
Один из них уже пытал командира подразделения, в котором служил несчастный лейтенант Гвоздев.
– Здесь, рядом со мной, – тараторил репортер, – собрались те, кто хорошо знал человека, стоявшего на посту... Честно говоря, после всего случившегося, язык не поворачивается назвать его офицером...
– И не называйте...
Командир, пунцовый от стыда, пытался говорить спокойно:
– Не называйте... Только что состоялось офицерское собрание нашего дивизиона. Мы осудили этот серьезный проступок и изгнали офицера, теперь уже бывшего, из наших рядов... Конечно, в чем-то тут и наша вина, недосмотрели... Но твердо заверяем всех, кто нас сейчас смотрит, – больше такого не повторится...
И командир жалко посмотрел на репортера – мол, хватит мучить-то...
Но репортер не знал жалости, он продолжал:
– Что значит "больше не повторится", "недосмотрели"... Как-то очень легко это у вас! Человек из-за него в сильнейшем шоке пробежал тыщу километров, пересек границу ближнего зарубежья, оказался в сумасшедшем доме, а вы – "недосмотрели"...
Командир затравленно смотрел в камеру:
– Ну как можно было предвидеть?.. Вы так говорите, как будто его кто специально учил не брать. Мы ж сами незаинтересованы... Раньше тормознешь кого – он уже несет. Сам дает, мы его не просим. Теперь сам не даст. Приходится намекать – а это уже вымогательство, статья. А у нас дети – всем сникерсов хочется... Ну кто мог знать? Еще вчера ничто не предвещало... Этот Гвоздев брал, как все... Даже больше...
– Так что ж случилось?
– Никто не знает, – сказал командир, – может, устал: он вторую смену подряд стоял...
– Вот так у нас всегда! – сказал репортер. – Сначала замучают человека лишней работой, нарядами, потом удивляются...
– Да он сам вторую смену просил ему дать! Говорил, что деньги нужны!..
Но репортер уже не слушал. Он делал глубокомысленное лицо и говорил в камеру:
– Так в чем же причина этого феномена? Мы сейчас попробуем побеседовать с профессором Ковалевым. Узнав о случившемся, он немедленно прибыл сюда, на шестьдесят пятый километр, и теперь пытается оказать первую помощь этому горе-постовому...
С этими словами репортер подошел к склонившимся над чем-то стоящим к нему спинами людям в относительно белых халатах. Репортер выбрал самую белую спину, постучал по плечу, человек обернулся. Репортер не ошибся: это и был профессор Ковалев...
– В чем причина? – задумчиво повторил профессор Ковалев. – Черт его знает, в чем причина... Мы никогда раньше с таким не сталкивались – первый случай и в нашей практике, и в истории ГАИ... Тут кто-то выдвинул версию, что он вообще...
Профессор запнулся, поняв, что сболтнул лишнее. Но репортер, почуяв сенсацию, не отставал:
– Что? Что – "вообще"?
– Ну, это так, пока только гипотеза... Возможно, что это пришелец из других миров, замаскированный под гаишника... Не знаю. Мы сейчас пробуем одну штуку...
– Какую штуку?
Профессор попросил врачей расступиться, и репортер увидел наконец "виновника торжества": бывший лейтенант Гвоздев сидел на носилках. Взгляд его был абсолютно бессмысленный... А от головы, облепленной какими-то датчиками, тянулись провода к переносному осциллографу. Девушка, по-видимому медсестра, крутила ручки прибора. Но на его экранчике была только ровная зеленая линия...
Профессор вынул из кармана пачку денег, разложил на несколько кучек...
Репортер, чувствуя, что присутствует при каком-то грандиозном научном эксперименте, спросил почтительным шепотом:
– Что вы будете делать?
– Искусственное давание, – ответил профессор.
– Рот в рот?
– Нет, рука в руку... А сейчас, извините...
Профессор повернулся к медсестре:
– Готовы?
Медсестра утвердительно кивнула и впилась взглядом в осциллограф.
– Приступаем, – сказал профессор и положил на ладонь гаишнику одну купюру. – Даю десять...
– Десять не взял, линия ровная, – тотчас отозвалась сестра.
– Повышаю до сорока...
– Сорок не взял...
– Подхожу к пятидесяти...
– Пятьдесят не взял, линия ровная...
– Сто! Кладу сто!
– Вы ж его убьете, Иван Кузьмич! – закричала сестра. – Сразу такие дозы...
– Если и сто рублей не возьмет, лучше смерть, – решительно сказал Ковалев. – Зачем ему жить таким калекой...
И он положил сотню на безжизненную ладонь милиционера... Ему показалось – неужели показалось? – пальцы Гвоздева дернулись...
– На осциллограмме слабые зубцы! Иван Кузьмич, вы гений!..
– Триста!..
– Амплитуда зубцов растет!..
Профессор, медленно, боясь спугнуть удачу, взглянул на Гвоздева. Тот с интересом смотрел на деньги в руке, его пальцы, пока еще робко, но все-таки сжимали, сжимали деньги!..
– Триста взял!
– Пятьсот!
– Пятьсот взял нормально!
– Семьсот!
– Семьсот схватил, не отдает!..
– Тысяча!..
– Амплитуда максимальная, зашкаливает!..
Вздох облегчения прокатился по толпе.
Профессор вытер пот со лба.
– Тысячу двести!..
– Иван Кузьмич! – закричала сестра. – Тыщу двести взял – просит добавки!..
Репортер несколько разочарованно спросил:
– Значит, это не пришелец?
– Это Желудков ваш – пришелец, – сказал профессор. – Откуда только он свалился на голову бедному Гвоздеву. Десять рублей предложить! Как можно было не сделать поправку на инфляцию?..
Профессор отошел от осциллографа, дрожащими руками взял сигарету, оглянулся. Рядом, не веря еще своему счастью, стояла жена Гвоздева.
– Ну что, что, доктор? Скажите – я выдержу, я сильная...
Профессор затянулся, положил ей руку на плечо и улыбнулся:
– Успокойтесь, голубушка, будет брать...
Светлое настоящее...
Говорят, что медикам известны такие случаи, что это какой-то летаргический сон, но, в общем, сержант Степан Гудков, контуженный и потерявший сознание в боях под Москвой осенью сорок первого года, пришел в себя полвека спустя...
Он помнил только бой за эту деревню и как их накрыло тяжелым снарядом...
Гудков встал, отряхнулся, поглядел вокруг. Тихо.
"Часть, конечно, ушла, – решил Гудков. – Интересно, за кем осталась деревня?.."
Гудков пополз к ближайшему дому.
Из дома донеслась русская речь, и сержант сначала обрадовался, даже чуть было не вскочил, когда вдруг понял, что это радио. Степан прислушался: "Под Арзамасом взлетел на воздух склад с взрывчаткой!.. В районе таджикской границы упорные бои!.. Потери войск на Северном Кавказе!.."
"Немцы мозги пудрят! – решил Гудков. – А говорят как чисто, собаки!"
У них на фронте немцы тоже вот так подтаскивали репродукторы на передовую, предлагали сдаться, трепались, что Москва взята... Ребята тогда стреляли по репродукторам, швыряли гранаты...
И сейчас сержант отцепил с пояса "лимонку", прикинул расстояние до окна, потянулся к чеке. Но передумал: "лимонка" была одна, и хотелось разменять ее подороже – может, танк попадется или немецкий штаб...
Решив все получше разведать, Гудков стал подбираться к дому с тыла. На огороде судачили две старушки.
– И почем сейчас клубника-то на рынке идет? – спросила одна.
– Сто рублей, – ответила другая.
"Сто рублей! – ужаснулся, лежа в кустах, сержант. – Эх, война-война!.."
– Да, – вспоминала первая, – бывало, до войны-то, клубничку с парным молочком...
– "С парным молочком"! – передразнила другая. – Чего вспомнила! Где оно, парное-то? Коров-то, считай, ни у кого не осталось...
"Поотбирали скотину, фрицы поганые! – понял Гудков. – Ну, погодите, сволочи! Нам бы только до Берлина дойти..."
– Ноне, говорят, – сказала первая старушка, – даже в Москве парного молока нет...
"Москва! Москва! – обрадовался сержант. – Да хрен с ним, с молоком! Главное, видно, держится Москва! Не сдали!"
– Сейчас скотину держать – смысла нет, – сказала вторая старушка. – Пока такие, как Федька, дешевый йогурт из Германии возят...
– Это какой Федька? – осведомилась первая.
– Да тот самый, – сказала вторая, кивнув на дом, из которого гремело радио. – Он же с немцами сотрудничает. Или ты не знала?..
"С немцами сотрудничает, гад! – недобро подумал Гудков. – Полицай, небось, или староста..."
Степан решил пробираться в Москву, но перед этим – посчитаться с полицаем. Подползя к Федькиному дому, схоронился в дальнем конце сада, за уборной, ожидая удобного момента.
– Хозяин! Комнату не сдадите? – донеслось от дороги. У калитки стояла женщина с маленькой девочкой.
"Беженцы", – решил Гудков.
На крыльце появился здоровенный детина. Видно, это и был Федька.
"Ишь, ряшку наел, когда другие на фронте..." – зло подумал Гудков.
– Комнату? – переспросил Федька. – Шестьсот баксов, можно в немецких марках...
Женщина у калитки, похоже, потеряла дар речи и способность двигаться, а Федька, не дождавшись ответа, безразлично двинул по дорожке прямо к уборной.
"Сейчас тебе будут марки", – обрадовался Гудков.
Похоже, ему улыбнулась редкая удача. Сержант потихоньку, сзади, стал просовывать в щель между досками ствол своего ППШ...
Не берусь описывать чувства человека, сидящего, казалось бы, в самом безопасном в наши дни, укромном месте, когда он вдруг чувствует сзади голым телом прикосновение металла и в ту же секунду слышит вкрадчивый шепот: "Кто в деревне – наши или немцы?.."
– На... на... – попытался ответить Федька.
– Наши? А что ж ты, сука, за марки комнату сдаешь?..
Женщина у калитки к этому моменту только-только стала приходить в себя, когда вид человека, вывалившегося из уборной без штанов с криком: "Даром! Даром бери!", – снова поверг ее в столбнячное состояние...
А Гудков решил в Москву идти ночью, полагая, что у полицая или старосты, кем уж там был этот Федька, его искать не будут.
Решив немного соснуть, он очнулся от ощущения страшной опасности. Было уже совсем темно, и все-таки Гудков разглядел там, у дороги, машину с темными крестами на боках...
"Вот, гадина, – мелькнуло у Степана. – Донес!.."
Из машины вышли какие-то люди – почему-то летом в белых маскхалатах, двое были с носилками.
"Носилки тащут, – удовлетворенно подумал Гудков. – Убитых своих подбирать, знают, что так просто не дамся..."
Отступив метров на триста, он слышал, как суетился Федька, как уверял людей с носилками: "Да здесь он был, здесь! Кто, говорит, в деревне – наши или немцы? Сам я его, конечно, не видел, он сзади был. Поверьте, товарищи..."
Видимо, этим неосторожно сказанным по привычке – "товарищи" – Федька подписал себе приговор. Люди в белом связали его, бросили на носилки. И один произнес: "Галлюцинациус". Наверное, это означало "расстрелять" или "повесить" – Гудков не знал немецкого...
Воспользовавшись суматохой, он выскользнул из сада и двинул к Москве.
На его счастье, машин на дороге не было, да и не могло быть – вся она была в рытвинах, ямах, воронках. Видно, немцы только что тут бомбили...
Он шел всю ночь, а на рассвете залег в придорожном кювете. Справа и слева тянулись колхозные поля. На поле ковырялись несколько стариков и старух.
"Молодежи-то нет совсем, – отметил Степан, – видно, всех в Германию фриц угнал..."
Старики, как и положено настоящим патриотам, оказавшимся под оккупантом, откровенно саботировали: они еле-еле махали граблями, по часу перекуривали, повсюду стояли поломанные – видно, нарочно – трактора и комбайны.
"Молодцы какие, – тепло подумал о них Степан. – Тут, наверное, крепкая подпольная ячейка".
Ночью Гудков опять двинул к Москве. Уже в самом пригороде увидел яркие огни и пошел на них.
"Если фашистские костры для приема диверсантов – гранату швырну", – решил он.
Но огни оказались загородным рестораном. У дверей стоял человек в форме, с генеральскими лампасами на штанах и кому-то объяснял:
– Наших не пускаем – сегодня у нас немцы гуляют...
"Немцы! У самой Москвы! И генерала в плен взяли! Унизили, у дверей шавкой поставили"! – от всего этого Гудкову хотелось разрыдаться.
Он в эту минуту не думал о себе, одна мысль жгла мозг: спасти генерала!
План его был прост, как проста бывает смерть в бою: незаметно подползти, поменяться с генералом одеждой, встать вместо него, а там будь что будет! И сержант пополз...
Он был уже у самых дверей, когда к генералу подошла девушка. Немка? Наша? Девушка заговорила по-русски:
– Привет, папаша...
"Куда ж ты, милая? – в отчаянии подумал Степан. – Куда ж ты в самое логово?! Там же немцы! Эх, надо предупредить..."
– Что за немцы? – спросила девушка.
– Летчики, – чуть слышно ответил генерал в лампасах.
– Ценные кадры, – сказала девушка, – спасибо за наводку...
"Разведчица! – понял Гудков. – Ах ты, мать честная! Ребенок же почти, а какой герой! Не-ет, такой народ на колени не поставишь!.."
Девушка что-то сунула в руку генералу – видимо, шифровку – и смело шагнула внутрь...
Гудков перевел дух. Только что он, решив спасти генерала, чуть было не завалил, видно, хорошо замаскированную сеть советских чекистов!..
Решив больше ни во что не вмешиваться, сержант зашагал к Москве. А в том, что Москва – наша, живет и сражается, он теперь не сомневался.
Было еще не так поздно, двадцать три ноль-ноль, но Москва, как и положено прифронтовому городу, была безлюдна и погружена в полную темноту. Фронт, видимо, был совсем рядом – чем ближе подходил Гудков к столице, тем явственнее слышались автоматные очереди, взрывы, крики людей: "Спасите! Милиция!.." Но милиции нигде не было – наверное, все ушли на фронт...
Но Гудков теперь точно знал, что столица не сдастся!
Стуча сапогами, с гордо вскинутой головой солдат сорок первого года вошел в город со стороны Ленинградского шоссе, прошел по Тверской и вышел на Красную площадь.
И тут его зашатало, и ему нечем стало дышать...
На Красную площадь садился маленький немецкий самолет...








