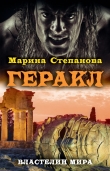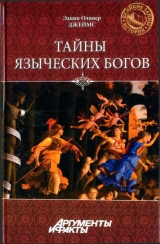
Текст книги "Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини"
Автор книги: Эдвин Джеймс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– Здесь у меня подобрана небольшая библиография этой темы. Попробуем заказать. А пока… Вы Льва Теплова читали? Нет? О, это большой энтузиаст поисков Золотой Бабы. У нас в зале периодики есть его статья…
И вот я держу в руках журнал "Знание – сила". Да, основательно поработал журналист Теплов. На Конде, как и у нас с Володей, его поиски не увенчались успехом, зато в архивах тобольской консистории удалось отыскать кое-что: "В 1863 г. священник Попов выведал у хантов имена их главных святынь и послал в Тобольск донос. Самая главная святыня, писал Попов, называется по-ненецки Яу-мал, затем идет камень Нумгатай в Тазовском заливе – видимо, метеорит, затем каменная статуя Погорма, фигуры из дерева Минисей, Хоругвай и Посоты…"
В доносе Попова поражает упоминание идола по имени Яу-мал. До него кумира по имени Яумал или Юмала, Иомаль, Йомала во всей мировой литературе упоминал лишь Снорри Стурлусон. Но во времена Попова написанная за 800 лет до того сага об Олаве Святом была неизвестна в России, и вряд ли читал ее в оригинале провинциальный священник. А потому такое совпадение далеко не случайно и должно иметь реальную основу.
Одно из дел тобольской консистории по розыску языческих шайтанов датировано 1757 г.: "Наши люди из Ендыря – Сергей Шерга и Иван Колыпаев, а также Алексей Пангль из Шапшиных юрт – люди все, судя по именам, крещеные ездят и собирают жертвы какому-то важному шайтану".
Инструкция "кондинской миссии", составленная незадолго до революции, опять требовала от миссионеров немедленно разыскать идола, слывущего под названием Троицкого, к которому как к центру идолопоклонства стекаются отовсюду инородцы-самоеды и остяки-идолопоклонники и христиане. Троицкое – село рядом с Белогорьем, и неудивительно, что богопротивный идол с тайным именем получил христианское название – Троицкий.
Из перечисленных в документах названий мест и населенных пунктов, так или иначе связанных с местопребыванием таинственного идола, вытекало, что последнее его обиталище находилось поблизости от тех мест, на которые указал нам Алексей Сургучев. Похоже, что мы были близки к его убежищу. Особенно отчетливо мысль об этом возникла, когда я дочитал до конца статью Теплова: "Старики Григорий и Парфентий Сургучевы были шаманы или связаны с шаманами Золотой Бабы, хотя один из них был даже председателем колхоза.
Однажды Григорий Сургучев, подвыпив, рассказал охотнику Кадулину: "Знаешь что, Кадулин, этот шайтан находится в покое. Никому и никогда его не найти. Есть маленький островок среди болот…""
Все совпадало с рассказом моего приятеля.
Не напрасно предупреждала меня заведующая МБА не связываться с Золотой Бабой. Попав в сферу ее притяжения, я незаметно увлекся ее родословной, отдавая ее изучению все свободное время.
В процессе этой увлекательной работы совершенно неожиданно, но, как оказалось, вполне закономерно на первый план вышла и, полностью заслонив первоначально избранную тему, завладела вниманием автора этих строк древняя, но вечно молодая Баба-яга.
При знакомстве с этой северной ведьмой и ее нечистой родней выяснилось, что генеалогическое древо угасающего рода Яги, включающего славянскую Ладу, зырянскую Йома-бабу, ненецкую Яумалу, югорскую Сорни-най и великое множество других идолов-богов, уходит корнями в древнее языческое прошлое народов нашей Родины.
Культуры множества племен и народов континента, соприкасаясь на перекрестках веков, взаимно обогащали друг друга, способствуя зарождению героини многих сказок – Яги.
Однажды холодным вечером, как обычно, зашел я в библиотеку, чтобы занять привычное место в читальном зале. В фойе меня встретил плакат: "Клуб "Тюменская старина" проводит вечер "Сказки"". Тюменская старина меня как раз интересовала, а потому я заглянул на огонек.
В просторном конференц-зале я нашел общество далеко не детского возраста: артистов, художников, педагогов, студентов и пенсионеров. В роли главного сказителя выступал популярный на Тюменщине писатель Геннадий Сезонов. Геолог по основной профессии, немало лег отдал он тундре и тайге и среди аборигенов Югры слыл своим. Желанному гостю доверяли предания, рассказывали сказки. Обработку одной из них он нам тогда прочитал.
"Сказка называется "Комполен" – злой дух леса, – так начал писатель. – Есть на реке Конде широкие разливы и болотистые места, называемые по-местному туманы. Случаются там иногда густые и непроглядные туманы, попасть в который путнику – погибель".
Стоило мне услышать это вступление к сказке, как припомнились и туман, и манси Собрин, испугавшийся неведомого комполена…
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОЙ БАБЕ
Угры приходили вместе с готами в Рим и участвовали в разгроме его королем вестготов Алларихом в 410 году. На обратном пути часть их осела в Паннонии и образовала могущественное венгерское государство, часть вернулась на родину к Ледовитому океану и до сих пор имеет какие-то медные статуи., принесенные из Рима, которым поклоняется как божествам.
Юлий Пампоний.Комментарий к флоре
В незапамятные времена, на рассвете новой эры, устав от затянувшихся войн с Китаем, от границ Тибета выплеснулись на просторы сибирских степей орды кочевников гуннов и растеклись по огромным пространствам, подчиняя и увлекая за собой кочевые народы, оттеснили в леса и болота более слабые финно-угорскосамодийские племена. Завоеватели перевалили через Рифейские горы (Урал), чтобы разграбить и потрясти Европу и основать в Поволжских степях мощный хазарский каганат.
А схожие по образу жизни и культуре финно-угорские племена, смешавшись с северянами гипербореями, заселили безбрежные лесные массивы от Ботнического залива до Саян.
От нашествия гуннов остались у уральских угров воспоминания об ушедшем на запад племени степных угров-коневодов и, вероятно, золотая статуэтка буддийской богини (бодисатвы?), занесенная гуннами вместе с культом женского начала – иони. Привнесенному кумиру суждено было стать национальным сокровищем уральских и обских угров, известным под именем Йома-бабы или Сорни-най.
Занятые распрями, южные соседи на несколько веков оставили в покое укрытых за густыми лесами и широкими реками угров, предоставив им возможность спокойно заниматься подсечным земледелием, охотой и рыбной ловлей, вести неторопливую жизнь и поклоняться богам-идолам.
Такими их и застали в IX–XII вв. славяне. Пришельцы обнаружили у лесных охотников, скотоводов и земледельцев культуру по уровню не только не ниже собственной, но и во многом превосходящую. В угорскую Биармию вели торговые дороги с востока и запада, из Ирана и Скандинавии. Слухи о ее богатствах и Золотой Богине – Йомале – шли по всему древнему миру…
Язычники-славяне находили у язычников-угров идолов и богов, похожих на собственных. Когда же на грани первого тысячелетия древняя Русь под влиянием занесенной из Византии новой христианской религии отреклась от старых богов и сожгла на днепровской круче дубового истукана богини-матери с ее сыновьями Лелем и Полелем, испуганно затаилось русское язычество, хоронясь на дальних окраинах, где в непроходимых дебрях последние волхвы еще сберегали старинных идолов, не спеша обменять их на лики непонятного Христа.
В Малой и Центральной Азии вошедший в силу ислам заставил склониться перед Пророком солнцепоклонников, посредством меча утвердился в аулах язычников каракитаев и столкнулся в кровавой сече с христианами несторианского толка монадами – найманами.
Напуганные жестокими карами за идолопоклонство, которые приверженцы корана обрушивали на неверных, сохраняющих в своих домах изображения живых существ, практичные персияне повели караваны с посудой, оружием и украшениями в далекий северный край, где имелся достойный эквивалент – меха и где идолопоклонство вовсю процветало.
На северо-западе воинственные норманы по примеру конунга Олафа отвернулись от кровожадного Одина, чтобы на перекрестии меча присягнуть лицемерному Иисусу, который отнюдь не мешал хищным викингам в их кровавых набегах на соседей. Избороздив в поисках добычи все северные моря, самый коварный из них – Торир-собака – добрался до капища югорской богини Иомалы и едва унес ноги от разъяренных пермов.
Не дремали и предприимчивые новгородцы, снаряжавшие в походы за пушниной в страны полунощные ватаги отчаянных смельчаков-ушкуйников. Из одиннадцатого века дошел до нас рассказ о поиске пути в Югру отроками Гюряты Роговича. Множество чудес поведал он киевскому игумену, но не упомянул о главном – югорском Золотом идоле. Возможно, языческая душа новгородца не приняла еще новой религии и втайне сохраняла верность старым богам русичей, схожим с Золотой Бабой.
Не одно столетие будут еще скрытно противиться христианской вере в обширных пределах новгородских и, числясь в при ходе православными, в домашнем быту сохранять языческие поверья. Только в XII в. проникнет учение Христа к вятичам, в вологодскую землю, на берег Северной Двины и Камы. Еще позднее примут ее пермяне (зыряне), поклонники Йома-бабы, которую умный подвижник Стефан Пермский назовет Золотой. От Стефана Пермского впервые появилось на Руси письменное известие о югорском шайтане, хотя о нем наверняка и раньше знали. Да и как не знать, если уже с XI–XII вв. новгородцы привычно промышляли в Зауралье и на берегах Оби соболя и куницу. Умудрялись к взаимной выгоде и с туземцами ладить. Чужие боги полесовщикам не мешали: в тайге в каждом урочище свой шайтан владыка – его и ублажай.
Как ни бился епископ Стефан, обращая в новую веру жителей Пермской земли, многие зыряне не приняли христианства и, продолжая почитать великую богиню Йому, враждебно относились к миссионерам. От преследования церковников вогульские и зырянские роды стали откочевывать с западных склонов Урала на северо-восточные – в Югру. С собой уносили и привычных идолов.
Не удовлетворились новгородцы малым достатком от промысла, захотелось всю Югру "под себя взять", и в 1364 г. пошли они через Камень (Урал) большим войском и, разделившись на две ватаги, стали воевать вверх и вниз по Оби. Затревожились остяки и вогуличи за свое сокровище – Бабу Золотую и унесли ее от устья Оби на полдень, в непролазные топи. И затаилась на время в болотной глуши Сорни-най, или Золотая Баба.
Не прошло и ста лет, а в холодные просторы Югории двинулась рать московитов. Это по повелению царя Ивана III устюжанин Василий Скряба в 1465 г. повел на покорение Зауралья дружину вольницы, угрожая пленением самой Золотой Богини. Выступил против Скрябы ярый охранитель язычества – вогульский князь Асыка. Немало нанес он урона пермской стороне и тамошней церкви. Не раз и не два ходило его усмирять войско, пока в 1481 г. Андрей Мншиев с шильниками и устюжанами не разбил вогуличей под Чердынью. Но не склонила головы непокорная Югра, и в мае 1483 г. Великий князь Московский вновь шлет войско под началом Федора Курбского Черного на князя Асыку и на Югру. В поход отправилась чуть не вся Северо-Восточная Русь: устюжане, вологжане, вятичи, сысоличи, вымячи и пермяки. Шли не столько за усмирением строптивых вогуличей, сколько за приведением к Москве нового данника, за мягкой рухлядью, старым персидским серебром и бесценными белыми кречетами. Продирались сквозь урманы, минуя хитроумные ловушки, опасливо озирались на мрачных деревянных истуканов, измазанных кровью и жиром, дивились странным избушкам на высоких ногах, остяцким могилам с надгробием в виде домика и многим непонятным, а потому страшным обычаям Югры.
А по вечерам, сгрудившись у костров, слушали рассказы бывалых о Золотой Богине вогуличей, остяков и самояди, идоле суровом и всемогущем, требующем кровавных жертвоприношений и исцеляющем недужных, насылающем мор на стада и помогающем от бесплодия женщинам, прорицающем будущее и… Господи! Дай назад в Русь вернуться!
ПОКОРИТЕЛЬ ЮГРЫ
Лета 707 посылал князь великий в Югорскую землю и на гогупичи воевод князя Семена Федоровича Курбского, да князя Петра Ушатого, да Василия Иванова сына Гаврилова и всех с воеводами людей со князем Семеном Федоровичем Курбским с товарищи 4014 человека.
Летопись
Не успела Югра отдохнуть от нашествия Федора Курбского и выплаты ясака, как на самом севере, у морской луки, явился в 1488 г. его сын Семен, князь Ярославский, с несметным войском. Энергичные московиты, пробившись через снега и ущелья, вышли на просторы Северного Приобья и, в короткий срок покорив свыше тридцати укреплений и приведя к присяге югорских князей, возвратились восвояси. О сем славном деянии в память потомкам остался «Указатель пути в Печору, Югру и к реке Оби», в котором сообщалось о Лукоморье и Золотой Бабе:
"Золотая Баба, то есть Золотая старуха, есть идол, находящийся в устье Оби, в области Обдоре, на более дальнем берегу… Рассказывают… что этот идол – Золотая Баба – есть статуя, представляющая старуху, которая держит сына в утробе, и что там уже виден другой ребенок, который, говорят, ее внук".
В результате похода к титулу Великого князя московского добавилось: "Великий князь обдорский, кондийский и пелымский", а воевода Семен Курбский навсегда вошел в российскую историю как покоритель Югры.
Князья Курбские заслуживают, чтобы о них сказать подробнее. Вот как о них вспоминают летописи: "…Курбские. Имя их упоминается впервые в половине XV столетия, когда владетели Москвы, руководимые мудрою политикою, давно уже успели, вместе с прочими князьями, подчинить себе и ярославских. Курбские служили им верно: по крайней мере ни в мятежные времена Василия Темного, ни в смуты Иоаннова Малолетства, столь обильные крамолами бояр, ни один из них не запятнал доброго имени. Многие сверх того отличались добродетелями гражданскими и дарованиями воинскими. Таков был князь Семен Федорович Курбский, который требовал соблюдения церковных и этических канонов не только от близких, но не побоялся возвысить голос и против своего государя Великого князя Василия, когда тот, отправив старую свою жену в монастырь, женился на молодой Елене Глинской. За дерзость Василий Великий "князя Семена от очей своих отогнал, даже до смерти его…’"
В те самые лихие времена, когда опальный покоритель Югры доживал свои последние дни в изгнании и забвении, родился в славном роду Курбских кияжич, нареченный Андреем, будущий великий воин и писатель, не рассказать о котором здесь мы не можем, поскольку с именем его мы не раз встретимся в дальнейшем.
Уже на 21 году своей жизни стольник Андрей Михайлович Курбский в звании есаула участвует в походе Ивана IV под стены Казани. Спустя год Андрей уже начальствует Правою рукой всего царского войска на берегах Оки, готовясь встретить соединенное войско крымских и казанских татар. В 1552 г он вместе с князем Щенятевым разбил татар на реке Шиворони. Несмотря на раны, полученные в сече, в августе того же года он принял начальство войсками Правой руки при осаде Казани и снова был изранен. Иван Грозный за доблесть возвел молодого витязя в достоинство боярина и приблизил к себе.
После падения Казани Россия ввязалась в изнурительную Ливонскую войну, казна скудела, повышался спрос на пушнину. В то же время появилась реальная возможность проникновения за Урал в Сибирь по Каме. Политическая обстановка в Сибири складывалась благоприятно: владетель сибирского юрта Едигер признал себя в 1555 г. данником Москвы и принял московского посла Дмитрия Непейцына.
А один из освободителей от татарских заслонов дороги из Прикамья в Сибирь Андрей Курбский победоносно воевал тем временем в Литве. Победа сопутствовала ему до 1560 г., когда он проиграл литовцам битву под Невлем, был разгромлен и сам едва спасся.
Раздраженный неудачей Иван Грозный, всюду мнящий крамолы и измены, вспомнил, что Курбский был другом ненавистного ему Адашева, и грозил Андрею карою. Угроза расправы вынудила бывшего царского любимца покинуть Родину и родовые поместья, чтобы перейти на службу к главному врагу Иоаннову – королю Польскому.
И, видимо, служил он не за страх, а за совесть, потому что король даровал Курбскому поместье Ковель и другие.
"Изменив государю Иоанну, он покинул в жертву вероятной смерти жену и сына… и для чего? чтобы сказать Иоанну укор бесполезный! А горестнее всего: с поляками, с татарами опустошал Россию, обливался русскою кровью… И хотя, по вероятности, та же месть, которую изливал он разорением русских сел и монастырей, побудила его взяться за перо и начертать величественную картину доблестей злополучных героев века Иоаннова; при всем том ни подвиги юных лет, ни слава красноречивого писателя не оправдают его в измене отечеству…"
Неслучайно стерлось из народной памяти некогда громкое имя Курбских – народ не прощает отступникам. Зато навсегда запечатлела в своем фольклоре имя его современника Ермака.
Ермак в народе считался основателем Камской вольницы и покорителем Казани. В песнях и народных сказаниях подвиги Курбского приписывались отчасти Ермаку. И хотя народные сказания и былины на чистом вымысле не рождаются, участие Ермака во взятии Казани ничем не подтверждается. Но зато есть другой исторический документ о казацком атамане.
В конце июня 1581 г. комендант Могилева Стравинский прислал польскому королю Стефану Багорию донесение. В нем Стравинский сообщал об оборонительных боях, которые он вел с русскими войсками, и упомянул фамилии нескольких русских воевод, атаковавших Могилев. Среди тех, чьи имена назвали коменданту пленные, указан и "Ермак Тимофеевич – атаман казацкий". Все-таки штурмовал крепости Ермак! Просто перепутаны в песне Казань и Могилев.
Документ, написанный Стравинским, позволяет утверждать, что Ермак участвовал в Ливонской войне и в ходе ее, возможно, встречался с Курбским, причем не обязательно в 1581 г. Ведь война тянулась почти четверть века, а Ермак, прежде чем стать атаманом, должен был досыта наслужиться рядовым казаком. Впрочем, о нем вся речь впереди.
В эти же военные времена служил Стефану Баторию еще один замечательный человек – полонизированный итальянец Алессандро Гваньини. Воинственный авантюрист успешно командовал войсками, начальствовал над Витебской крепостью и на досуге писал компилятивный труд "О Северной и Восточной Сарматиях", беззастенчиво перелагая Герберштейна. Были а этом груде Лукоморье, колдуны, невиданные звери и каменная Золотая Баба – кумир обдоров.
Упомянув Сигизмунда Герберштейна, мы должны остановиться на нем подробнее. Так аттестовал его Андрей Курбский: "муж искусный во шляхетских науках, приходил два раза к Москве, образовал свои дарования в Высшем Венском училище, состоял на службе у австрийского императора. В 1517 г. Максимилиан отправил его послом к королю Польскому Сигизмунду и Великому князю московскому Василию Иоанновичу. Он заслужил особое уважение Великого князя, который часто угощал его роскошными обедами, забавлял соколиною охотою и беседовал с ним. Через 8 месяцев Герберштейн возвратился к Максимилиану с богатым запасом сведений о России, дотоле в Европе едва известной. Когда Герберштейн приезжал в Москву, Семен Курбский был еще жив и рассказывал Сигизмунду о своем походе 1499 г. на Югру. О том, как 17 дней взбирался он на Рифейские горы, покрытые вечными снегами, как… с товарищами заложили на пустынном берегу Печоры крепость и отправились от нее на лыжах и собаках к берегам Оби. От князя Семена получил Герберштейн его "Дорожник пути в Югру и Сибирь"".
В 1526 г. Герберштейн снова появился в Москве. Талантливый ученый и внимательный наблюдатель в короткий срок успел собрать материал, на который иному пришлось бы затратить десятилетия.
В 1549 г. он издал свои "Записки о Государстве Московском", полностью включив в них "Дорожник" князя Семена Курбского. В них повествование о России было дано настолько основательно, что иностранцы, посещавшие Россию после него, без всякого смущения использовали это сочинение для придания солидности собственным трудам.
Сведения, сообщаемые Герберштейном, принимались как исключительно достоверные и внимательно изучались. Та часть, где публиковался "Дорожник пути в Югру и Сибирь", привлекала особенное внимание. Чудеса и богатства таинственного Лукоморья при устье Оби не сходили с уст. Некий данцигский сенатор
Антон Вид еще до опубликования "Записок" Герберштейна, между 1537–1544 гг., издал и обнародовал карту, на которой были обозначены обские низовья.
На этой карте, за страной "Тюменью великой" и за городом "Сибирь", по левой стороне Оби была нарисована похожая на католическую мадонну Золотая Баба с ребенком на руках. У ее ног – язычники "абдоры", приносящие в жертву богине меха.
Завистливая Европа грезила богатствами Лукоморья.