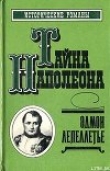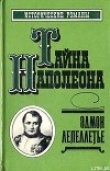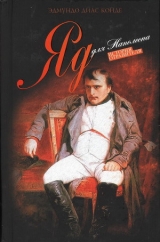
Текст книги "Яд для Наполеона"
Автор книги: Эдмундо Диас Конде
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
– Откройте! Полиция!
Мими отворила дверь. Перед ней стояла группа вооруженных до зубов полицейских.
– Чем могу быть вам полезна? – спросила она, не приглашая войти.
– Мы прибыли по приказу его превосходительства министра полиции. Дом окружен. Сопротивление бессмысленно.
Мими провела незваных гостей в малый салон, была с ними обходительна и в меру разговорчива – не болтала без умолку и не молчала как рыба, а вполне убедительно объяснила, что мадмуазель надо дать время, чтобы одеться. Руки держала так, чтобы не было видно, что они дрожат, и вообще старалась ничем не вызвать подозрений. В частности, выходя из салона, намеренно оставила дверь открытой.
Мими бросилась в комнату Сары, захватив по пути узелок со своими обносками, которые не выбросила, а только велела прислуге постирать. Напялила свое платье на Сару, наспех обкорнала ей ножницами роскошные локоны, растрепала, лицо вымазала каминной сажей собиралась уже вести девушку к черному ходу, когда та решительно произнесла:
– Теперь твоя очередь, Мими.
– Но… кто-то должен остаться, мадам.
Не слушая возражений, Сара помогла Мими обрядиться в старое тряпье. Прежде чем бежать через одну из задних дверей, Сара дала наставления верному слуге:
– Не дай схватить его. И скажи, что я буду ждать. Ты запомнил название постоялого двора? Я буду ждать сколько потребуется.
Сара и Мими, совсем как пара нищих побирушек, вышли из дома ни кем не узнанные.
Когда Огюст увидел, что Жиль в сопровождении двух агентов садится в полицейскую карету, он остолбенел. Первым его порывом было прорваться в особняк. Однако он помнил о подручных Жиля. А что если они находились там все то время, пока он стоял у дома? Подождав еще немного и не наблюдая никакого движения, он направился к входной двери.
В тот самый момент в боковом переулке показалась фура. Огюст отпрянул к стене и, вжавшись в нее, замер. На вид это был обычный воз, груженный сеном и сверху накрытый куском парусины. Он был в двух десятках метров – достаточно близко, чтобы распознать в ехавших на нем мужчинах подручных Жиля. Двое сидели на козлах, а третий – у заднего борта из продольных жердей. Огюст вдруг понял, что это может означать. Он уже знал наверняка, что Жюльена в доме нет.
На перекрестке повозка продолжила движение направо, удаляясь от особняка. При повороте, из-за резкого крена, с копны упало немного сена, и по тому, как засуетился тот, что сидел сзади, как тщательно стал оправлять парусину, Огюст понял, что не ошибся, и бросился за извозчиком.
Три дня спустя, 4 июня, состоялся всенародный праздник. На Елисейских полях в тридцати шести фонтанах били струи вина, накрытые тут и там столы ломились от яств. Под открытым небом давали представления актеры и играли оркестры. Толпы гуляющих стали разбредаться по домам лишь поздней ночью, когда отгремел фейерверк на площади Согласия.
Уже под покровом ночной темноты некто, никем не узнанный, прибыл в Консьержери.
Посетителя провели по лабиринту тюремных коридоров к тесной одиночной камере. Перед ее решеткой, взяв у одного из тюремщиков масляный фонарь, он приказал оставить его наедине с заключенным. Потом, подняв светильник, открыл лицо.
– Ты меня разочаровал, мой друг. А я ведь предупреждал тебя: этого делать не следует, – голос звучал убаюкивающе мягко.
– Ваше превосходительство!.. – воскликнул Жиль, ибо это был он.
Он был в той же одежде, в которой его арестовали три дня назад, но уже заметно потрепанной и грязной. Поднявшись с тюфяка, валявшегося прямо на полу, он подошел к толстым прутьям решетки.
– Ваше превосходительство, это недоразумение! Я не знаю, что вам на меня наговорили, но клянусь Богом – я не мог предотвратить его гибели.
– Чьей гибели?
– Императора.
– Глупец, император жив и здоров! Причем чувствует себя гораздо лучше, чем ты или я, и готов идти войной против всей Европы. Но мне думается, что высокая политика тебя уже не должна занимать.
– Жив? Император жив? – переспросил пораженный Жиль.
– И как никогда полон грандиозных замыслов. В то самое утро, когда я не дал ему побриться… а точнее, предотвратил использование им для бритья отравленного лезвия, в то утро мы переговорили наедине. Император был спокоен. Покушение, как известно, способствовало его восхождению на престол, и я посоветовал ему воспользоваться нынешним покушением для отречения. Церемония на Марсовом поле очень подходила для подобной цели. И если бы он принял мой совет, на троне воцарился бы его сын, и войны удалось бы избежать.
– Но как вы узнали, когда состоится покушение?
– Мне вовремя доложили. И я успел, когда император – в данном случае лучше и не скажешь – находился на волосок от гибели. Излишне говорить, что все участники покушения уже за решеткой… за исключением тех, кто мертв. Это страшное расточительство – сохранять жизнь заговорщикам! А что касается тебя… увы! Тот, кого не существует, не способен ни за что нести ответственность, не так ли? Мелкая кража, которую ты совершил из моего секретного архива, – ее одной уже достаточно, чтобы остаток жизни провести за решеткой. У предательства есть свои пределы. И своя цена.
– Но ваше превосходительство… ваше превосходительство… – взмолился Жиль, бросаясь грудью на решетку и устремляя руки к Фуше, так что тот даже отступил. – После стольких лет…
– Теперь трудные времена для предателей, и похождения виконта де Меневаля, подошли к концу. Никто, ни сегодня, ни завтра о нем не вспомнит. Отныне ты – безвестный узник, лишенный всего на свете.
– Умоляю, ваше превосходительство! – уже стонал у решетки Жиль. – Пощадите! Мне известно гораздо больше, чем вы думаете. Я могу вам пригодиться. Используйте меня, как вам будет угодно. В противном случае…
Фуше накинул на голову капюшон и вновь поднял фонарь.
– Мне неясно лишь одно: за каким дьяволом тебе понадобилось письмо?
Жиль, цепляясь обеими руками за прутья, медленно сполз по ним вниз и рыдал, прильнув лицом к холодному железу решетки.
– Тюремщик! – кликнул посетитель в капюшоне и, не произнеся более ни слова, растаял в конце коридора.
Жиль остался один в кромешной тьме. Прошло немало времени, пока он встрепенулся, словно что-то вспомнив. Не переставая всхлипывать и сетовать на незавидную долю, он лихорадочно обшарил карманы, а затем на четвереньках отполз в дальний конец камеры. Нашел там спрятанные письмо и записку. Стоя на коленях, Жиль держал два отсыревших листка – и шепотом повторял:
– Богатство… Вот оно, несметное богатство… Теперь ему нет цены…
– Сара, – войдя в комнату, сказал кюре, – тебе следует поесть.
– Спасибо, падре, я не голодна, – Сара оперлась на руку Огюста.
Священник и его сестра, мадмуазель Барро, испытывали к молодой женщине не только искреннюю привязанность, но и – с недавней поры – глубокую благодарность. Денежная помощь Сары пришла к ним как нельзя кстати, отведя угрозу разорения. Жером и Батист, которые остались здесь, избежав участи бесприютных бродяг, и подавно считали свой долг неоплатным и всячески старались быть полезными постояльцам и благодетелям, особенно сейчас – в час беды.
Доктор, осмотрев больного, он неожиданно резким движением повернул голову Жюлена из стороны в сторону. Сара одной рукой прижимала к губам платок, а другой опиралась на плечо Огюста, бледного как полотно и небритого, со свежей раной на щеке.
– Сознание никак не возвращается к нему… – то ли спросила, то ли констатировала Сара.
– Весьма сожалею, но дела обстоят именно так, – врач поправил прикрывавшее Жюльена одеяло и поднялся.
– Разве такое возможно? Ведь прошло уже двое суток, – вступил в разговор Огюст.
– Глотательный рефлекс присутствует. Со стороны функций дыхательной системы и деятельности сердца изменений тоже не наблюдается. Его забытье сравнимо с глубоким сном, – задумчивый тон доктора выдавал бессилие медицины; уставившись в пол напряженным взглядом, он словно находил там нужные умные слова, материал для своей наукообразной речи: – В ряде случаев, в результате травмы мозга у пациентов сохраняется цикличность смены сна и бодрствования, пациент способен самостоятельно дышать и даже производить спонтанные глотательные движения, однако самопроизвольная ментальная активность, равно как и моторика отсутствуют. Возможны лишь спазматические сокращения, подергивания конечностей. Жюльен сейчас именно в таком состоянии.
– И сколько времени он может в нем пробыть? – спросила Сара.
– Никто не знает.
– Бедный юноша! Какое несчастье! – пробормотал себе под нос кюре.
– Если вы верите, – добавил лекарь, – молитесь за его выздоровление. Мои знания и опыт подсказывают: остается только надеяться и ждать.
– Я провожу вас, – кюре пропустил лекаря вперед, затворив за ними дверь.
– Во всем виноват я…
– Ты не должен так говорить. Он… он обязательно выздоровеет, – и Сара уткнулась лицом в подушку Жюльена.
17
Самозванец
После поражения при Ватерлоо все необратимо изменилось. Бонапарт подписал в Париже второе отречение. И незадолго до своего сорокашестилетия сдался на милость англичан. Это был заключительный мастерский ход блестящего игрока, который в последний раз испытывал судьбу. Поднявшись на борт «Беллерофона», он передал потрясенному капитану британского корабля послание для принца-регента Англии. В нем говорилось:
«Преследуемый партиями, разделяющими мое отечество, и враждебностью европейских держав, я завершил свой политический путь и, как Фемистокл, ищу приюта у чужого очага. Я прибегаю под защиту законов английского народа, о ней взываю к Вашему Королевскому Высочеству – могущественнейшему, благороднейшему и великодушнейшему из моих врагов».
Слава Наполеона, овеянная самыми невероятными легендами и чересчур будоражившая умы, внушала англичанам опасения, и они предпочли сослать его на край света. Остров Святой Елены лежал ни много ни мало в двух тысячах восьмистах пятнадцати километрах от Кейптауна, города на Юге Африки, и являлся пунктом остановки судов, следовавших на Восток. Но мог ли этот каменистый утес, открытый ветрам, дождям и ударам морской стихии, где сместились времена года, мог ли этот маленький остров служить местом, достойным для единственного из монархов Европы, возведенного на престол по сути – самим народом?
Жизнь Бонапарту сохранили, однако сердце его явно стремились разбить. Супругу, Марию Луизу, и четырехлетнего сына, короля Римского, он не видел с момента ссылки на Эльбу, и хуже того – европейские державы решительно препятствовали их встрече. Любящему отцу, который души не чаял в сыне (когда король Римский начинал ходить, император даже приказал обить стены дворца мягким покрытием в рост своего ребенка), никогда уже не доведется увидеть своего законного сына.
Марии Валевской с Александром, их общим сыном, он не позволил сопровождать себя в изгнание. И кто знает, раскаивался ли он в этом, окруженный суровым вулканическим пейзажем острова Святой Елены. Из членов клана Бонапартов за ним сюда не последовал никто.
Между тем в Париже пытались создать видимость, будто все идет нормально. Возвращение Бурбонов обернулось для одних тюрьмой, ссылкой и смертью, а для других, напротив, освобождением. Фуше, вновь занявший пост министра полиции, при снисходительном попустительстве старой развалины Людовика XVIII, за несколько месяцев собственноручной подписью обрек на казнь и изгнание около тысячи человек. У него имелся список, в котором поименно перечислялись враги вновь восторжествовавшего строя. Так что лучшим способом избежать попадания в сей проскрипционный лист было вовсе не иметь прошлого.
Однако Тюильри не являлся единственным центром власти. С Людовиком XVIII вернулся и его младший брат, граф д’Артуа, более известный как Мсье. Этот приверженец абсолютизма, в отличие от его брата, не был настроен потакать наследникам идей революции.
Мсье и его союзники, так называемые «ультрароялисты», постепенно сформировали теневую власть, которая опутала сетью шпионов, доносителей и провокаторов все правительственные учреждения. Более того: вечно озабоченный поисками бонапартистских заговоров и подогреваемый тревожными донесениями своих агентов, Мсье явился вдохновителем создания личной армии головорезов (за ними закрепилось прозвище «вердеты», поскольку они носили зеленые – цвет графа д’Артуа – ливреи), выискивавших, преследовавших и терроризировавших любого подозреваемого в сочувствии бонапартистам.
Господин Фуше, слуга многих господ, был пожизненно выслан из Франции. В сентябре 1818 года он обосновался в Австрии, в глуши провинциального городка Линца, где тихо жил, освоив роль добродетельного мужа и отца и достигнув в ней больших высот. Ранее испытавший горечь вдовства, а теперь познавший забвение, отстраненный от власти, он безучастно наблюдал за событиями, в то время как его вторая жена, двадцатишестилетняя потомственная аристократка неописуемой красоты, бесстыдно наставляла ему рога.
– Эй, тридцать первый! Тридцать первый! – негромко, словно подвывая, звал заключенный из соседней камеры, прижавшись к двери. – Подойди к двери! Есть новости!
– Ну давай, выкладывай, только быстро, – ответил полный безразличия голос.
– Знаешь последние слухи о Корсиканце?
– Меня это не интересует, Проспер.
– Как это не интересует? Тебя же посадили за участие в заговоре против него. Так слушай! – Он буквально прильнул губами к решетке в двери. – Толкуют, что на острове Святой Елены он один. Ты слышишь меня? От него, великого человека, все отвернулись. И вот что еще говорят. Дескать, его жене с сыном не дают к нему приехать. Даже чтобы просто повидаться. Ты знаешь, что это значит? Что он околеет в одиночестве, как брошенная всеми собака. Разве тебя это не радует, а? Кровавый хищник получит по заслугам!
– Может, и так, – отозвался тридцать первый и, отвернувшись от двери, отошел в угол камеры, где в стене была расселина.
– Тридцать первый, ты меня слышишь? У него положение – похуже нашего. Даже надежды нет!
Что говорил дальше Проспер, его сосед уже не слышал. Опустившись на край койки, Жиль долго смотрел, теребя бороду, на две бумажки в своей руке – письма, о существовании которых позабыл много месяцев назад. Затем аккуратно развернул их, разгладил листки ладонью, очистил от грязи.
Сообщение из соседней камеры стало добрым предзнаменованием. Через пару дней случилось то, чего Жиль без устали требовал, пока не пал духом и не сдался: его вызвали к начальнику тюрьмы. И вот теперь, под бдительным оком конвоиров, он стоял, готовый использовать предоставившейся шанс.
Комендант Консьержери, почти единоличный правитель сего острога, был здоровенным типом с мрачной физиономией, один только вид которого говорил об отсутствии приятных манер. Бросив на заключенного быстрый взгляд поверх очков и не промолвив ни слова, он обмакнул перо в чернильницу и продолжил что-то писать на большом листе бумаги.
Жиль внешне мало изменился: у него лишь отросла неровная борода, да несколько поредела шевелюра.
Наконец комендант поднял глаза.
– Тридцать первый, не так ли?
– Да, господин начальник, – ответил Жиль.
– Как твое имя?
– Жиль, господин начальник.
– Фамилия?
– У меня ее нет, господин начальник.
– Ты знаешь, сколько сидишь здесь?
– Больше трех лет, господин начальник.
– Так оно и есть… – Взяв со стола бумагу, комендант уточнил: – Три года и сто шесть дней.
– Верно, господин начальник. Я хотел сказать…
– Молчать! Говори только когда спрашивают! – рявкнул один из конвоиров и, ухватив узника за шиворот, хорошенько встряхнул.
– Любопытное дело, – прокомментировал комендант, не обратив на это внимания. – Даже не столько из-за того, что ты зарегистрирован без имени – тогда таких было много, а потому что нет предписания о твоем заключении. Быть может, ты уже и не должен находиться за решеткой… Ты помнишь, за что тебя сюда поместили, тридцать первый?
– Да, господин начальник! – решительно ответил Жиль, сердце у которого забилось в груди с такой силой, что он испугался, что биение сердца может заглушить его голос: – За заговор против Узурпатора.
Комендант взял ту же бумагу и прочел: «Подозревается в заговоре».
– И поступил ты к нам первого июня пятнадцатого года. То есть еще при Бонапарте. Что же ты натворил, тридцать первый, что тебя упекли?
– Я пытался его убить, господин начальник.
– Ты, тридцать первый, порядочный человек, – весомо изрек комендант и, подписывая ордер, приказал: – Вернуть ему личные вещи. Кто покушался на Узурпатора, – добавил он с загадочной ухмылкой, – тот друг его величества короля, – и, глянув на расплывшиеся в подхалимских улыбках рожи подчиненных, резким взмахом руки велел всем покинуть кабинет.
В то время население затерянного в океане маленького скалистого острова Святой Елены едва насчитывало четыре тысячи человек, более двух тысяч из них составляли солдаты и офицеры гарнизона. Среди гражданских лиц число европейцев не достигало и восьмисот. Остальные – китайцы, индусы и негры, преимущественно рабы. Местные жители промышляли в основном морской торговлей.
Обо всем этом Жиль разведал быстро и без особого труда. И пришел к выводу, что наиболее верный способ попасть на остров – записаться в экипаж английского корабля, направляющегося в те края. Из Англии относительно часто отправлялись в плавание суда, маршрут которых пролегал через южную Атлантику. И потом, британский торговый бриг, пришвартованный у Святой Едены, естественно, не вызывал таких подозрений, какие мог вызвать французский. В английских портах в команды брали всех кого ни попадя, и сейчас, когда соседние страны не находились в состоянии войны, даже французу не сложно было попасть на английский корабль. У англичан не существовало так называемой книжки моряка, и через маклеров, подвизавшихся в портовых городах, любой бродяга мог запродать себя на борт хотя бы марсовым матросом.
Жиль тщательно продумал, как будет действовать, оказавшись на острове. Обычно корабли стояли там несколько дней, пополняя запас пресной воды. Его замысел заключался в том, чтобы сбежать с корабля непосредственно перед выходом из порта. Капитан, не имея возможности и времени искать его и ждать, будет вынужден срочно восполнить потерю, обратившись к услугам портового маклера. Опасаться не приходилось, в результате выигрывали все: и местный маклер, и судовладелец (за подмену платили всегда меньше, чем оставались должны дезертиру), и естественно, беглец. Что же касается строгостей содержания сосланного и всеми покинутого «корсиканского чудовища», разве могло это смутить Жиля с его-то опытом? Для получения разрешения на свидание, как он полагал, ему будет достаточно явиться к губернатору острова, изложить суть вопроса и представить письма, из которых следовало, что их податель – сын ссыльнопоселенца Бонапарта.
Воплощение плана началось с продолжительного и не лишенного трудностей подготовительного периода. Наконец, скопив немного деньжат, Жиль отбыл в Плимут. Там, в ожидании оказии, он днями напролет слонялся по причалам, пробавляясь случайными заработками.
Подписав наконец соглашение о своем зачислении в команду, Жиль получил аванс в размере месячного оклада, чего было вполне достаточно, чтобы приступить к осуществлению задуманного. Давненько он не видел сразу столько денег в руках и никогда прежде не тратил их столь рачительно.
Утром 15 апреля 1819 года над островом Святой Елены прогрохотало два пушечных залпа; первым британский гарнизон оповещал о наступлении нового дня, а вторым – о заходе в порт Джеймстауна торгового судна «Хайленд».
А уже без четверти десять утра близ господского дома в Лонгвуде – поселке, расположенном на равнине, куда из Джеймстауна поднималась извилистая дорога длиною примерно пять миль (английских, разумеется), появился странный незнакомец. Правда, следует признать: любой посетитель Лонгвуда мог показаться странным. В полумиле от особняка путника остановил пост охраны. Дежурный офицер со строгим выражением лица изучил предъявленную бумагу и, убедившись, что приказ подписан собственноручно губернатором, беспрепятственно пропустил его.
По причине отсутствия графа де Монтолона, первым, кто принял посетителя и был вынужден доложить о нем, стал камердинер Луи Маршан, молодой человек лет тридцати, пользовавшийся абсолютным доверием Наполеона.
Хотя с неба не упало ни капли дождя, Жиль буквально взмок, отчасти из-за волнения, отчасти из-за чувствительно влажного климата. Его тревожила мысль, что процедура испрашивания аудиенции может оказаться слишком сложной, и ему придется еще раз проделать этот путь. Уже в Лонгвуде, увидев вдоль каменной стены, окружавшей территорию вокруг особняка, часто расставленных солдат в красных мундирах, он приготовился к тому, что великий человек не примет его или ему придется очень долго ждать в приемной. И он совершенно не был готов к тому, что произошло на самом деле.
Жиль намеревался демонстрировать уважение и прямоту в своих ответах, а также прямо смотреть в глаза собеседнику. Он почти не сомневался, что человек, тысячекратно испытавший и преклонение, и предательство, придает больше значения чужим поступкам, нежели мыслям.
Луи Маршан проводил его в приемную, которая походила скорее на бильярдную, и жестко произнес, что император не принимает незнакомых лиц без предварительного письменного запроса.
– Я могу остаться на острове и ждать столько времени, сколько его величество сочтет необходимым. Однако не окажете ли вы мне честь передать ему два этих письма? – попросил Жиль.
Буквально через пару минут Луи Маршан вернулся и сообщил, что его величество примет посетителя в своих личных покоях. Жиль глубоко вздохнул. Одет он был опрятно, без претензии, как средней руки сельский барин – землевладелец или непритязательный помещик, и ничто в нем не напоминало прежнего виконта де Меневаля.
Обнажив голову, Жиль вошел в полумрак спальни, скупо освещаемой отблесками огня в очаге, и только тут окончательно осознал, как ему необыкновенно, несказанно повезло. Он оказался в нужном месте в нужный час, и никто на свете не способен помешать ему осуществить задуманное.
В первый момент он не смог ничего различить, но когда Луи Маршан с канделябром подошел ближе, Жиль ясно увидел лежавшего на кровати человека. Точнее – полулежавшего, и не на кровати, а на железной походной койке. На нем был темный шлафрок поверх белой рубашки, того же цвета панталоны из кашемира, шелковые чулки, мягкие туфли красного сафьяна и цветастый платок вокруг головы. На щеках и подбородке – трех-четырехдневная щетина. Его внешность разительно отличалась от той, что запечатлели художники. Император заметно располнел, но глаза его, как и на лучших портретах былой поры, лучились все тем же деятельным, беспокойным умом.
– Как ваше имя?
– Жиль Муленс, государь.
Человек, который обладал могуществом большим, нежели любой другой монарх на свете, которого еще несколько лет назад считали равным богам и владыкой мира, последний герой легендарной эпохи, о котором повсюду слагали легенды, – этот человек принимал его, будучи, по-видимому, не в силах встать на ноги. Запертый в комнатушке четыре на четыре метра, с наглухо зашторенными окнами, потертым ковром и заурядной мебелью красного дерева, он, вероятно, коротал в таком положении, лежа на походной койке, дни за днями, месяцы за месяцами… В камине лениво горела пара поленьев. Луи Маршан затворил за собой дверь.
– Сколько вам лет?
– Тридцать три года, государь.
– Тридцать три… мистический возраст… А чем вы занимаетесь?
– У меня небольшая плантация в Новом Орлеане, государь.
– В Новом Орлеане? Хлопковая?
– Сахарная.
– В таком случае, полагаю, вы здесь в деловой поездке.
– Я прибыл на остров с единственной целью – увидеть ваше величество и остаться здесь.
В комнате воцарилось молчание. Император приподнялся и сел на край койки, опустив ноги на пол. Жиль увидел на покрывале письмо и записку.
– Вы бесстрашный человек. Как вам удалось преодолеть кордоны? – Он недоверчиво посмотрел на Жиля.
– У меня есть свои приемы, ваше величество.
Бонапарт улыбнулся. Ему пришлась по душе отвага этого молодца.
– Вы сказали, что прибыли из Нового Орлеана…
– Нет, государь. Прибыл я из Англии. На торговом судне.
– Что же заставило вас бросить без вашего попечения хозяйство и отправиться сюда с этой, я бы сказал, нелепой мыслью? Уверяю вас, в Америке, вы нашли бы гораздо лучшие возможности.
В его голосе не было ни резкости, ни суровости. И говорил он с паузами. Жиль опустил голову и, теребя в руках шляпу, решился:
– Я приехал сюда, надеясь только на то, что удостоюсь чести узнать ваше величество и быть вам хоть чем-нибудь полезным.
Император встал и, потирая руками поясницу, не без труда подошел к камину. Стоя спиной к Жилю, некоторое время всматривался в висевшие рядом портреты.
– Насколько я знаю, в Луизиане должно быть много моих приверженцев. Это так? Не считаете ли вы, что мне следовало бы наведаться туда, когда закончится нынешнее пленение? Ведь это же я, в конце концов, отдал Луизиану американцам за пятнадцать миллионов долларов, можно сказать – подарил.
– Там все знают ваше величество.
– Да, – император продолжил говорить, не оборачиваясь. – Прокатиться в Америку было бы весьма недурно. Сначала, положим, полгода, я поездил бы по стране. У вас там расстояния измеряются сотнями лье, и ознакомительная поездка займет значительное время. А потом посетил бы Луизиану, Новый Орлеан. Как вы думаете, я мог бы остаться там жить?
– Ваше величество вскоре будет иметь в своем распоряжении сотни французских семей и тысячи людей, готовых вручить вам свое сердце.
– О, грезы, грезы, грезы!.. А в действительности я всего лишь узник этого ненавистного острова и его губернатора. Хадсон Лоу в этом крысятнике – наимерзейшая из всех крыс! – Он принялся расхаживать по комнате, заложив руки за спину. – Здесь полно крыс, кишмя кишат. Редкий день слуги не отлавливают дюжину тварей… Поначалу им взбрело в голову травить их мышьяком, но потом от этой затеи отказались. Представьте себе, какой шел запах, когда они дохли в укромных уголках дома. Но самая гнусная крыса – это Хадсон Лоу! – завершил он и повернулся к Жилю. – Как вы думаете, почему у меня все зашторено? Этот трус Лоу всего боится. Боится, что я убегу; боится за мое здоровье… твердит, что предоставит мне больше свободы, если я соглашусь показываться им на глаза дважды в день. Но на такое я не пойду. Позволить, чтобы на меня пялились?! – Он подошел к койке, достал из-под подушки и потряс перед Жилем подзорной трубой. – Вот… Это я за ними наблюдаю! Моя труба служит мне с Аустерлица…
– Да, государь, – согласился Жиль с серьезным видом.
– А теперь скажите: как вы считаете, зачем мне бежать с этого острова? Погодите, не отвечайте! – приказал он, убирая подзорную трубу на прежнее место. – Я задам вопрос иначе: согласны ли вы с тем, что такое существование унизительно?
– Многие французы с удовольствием отдали бы жизнь ради возможности хотя бы в течение нескольких часов побыть с вашим величеством.
– А здесь все только и думают, как бы удрать. Из всей моей родни никто не счел достойным себя отправиться со мной в изгнание. А я, да будет вам известно, всех их осыпал почестями. В этом доме людей становится все меньше и меньше. И я не знаю, что еще пообещать, чтобы они не уезжали.
– Понимаю, государь, – Жиль почтительно склонил голову.
– Лас-Каз уехал, Гурго уехал, жена Монтолона уехала и увезла с собой детей. Мой верный Чиприани мертв, а семейство Балькомбов… вы меня понимаете?
– Да, государь, – заверил Жиль.
– Балькомбы были настоящими друзьями, – пояснил император и принялся вновь ходить по комнате шаркающей походкой, напоминая льва, устало мечущегося по клетке. – Они – благородные англичане. А их дочурка, Бетси Балькомб! Очаровательная девчушка! Такая жизнерадостная! Они жили внизу, в поместье Брайерс, в доме, окруженном цветущим садом, где росли гранаты и мирты. Я никогда их больше не увижу.
– Ваше величество скучает по ним?
– Это все губернатор. Уильям Балькомб, отец Бетси, был поставщиком и снабжал продуктами в том числе и этот дом. Лоу заподозрил, что Балькомб помогал мне переправлять письма на большую землю… – Император тихо рассмеялся.
– Ветры будущего дуют в направлении, благоприятном для вашего величества.
Наполеон замер на месте, взглянул в глаза Жиля, словно не поняв, о чем тот говорит, и задумчиво произнес:
– Единственная остававшаяся у меня надежда… ее я возлагал на Аахен.
Затем вернулся к камину, положил одну руку на каминную полку, а пальцем другой нежно провел по раме одного из портретов своего сына.
– Ваше величество имеет в виду конгресс в Экс-ля-Шапель? – уточнил Жиль.
И тут же прикусил язык. Черт побери! Нечего вести себя так, словно перед ним живой памятник. Это – его отец, родитель, мечту увидеться с которым он лелеял всю свою жизнь. Разве можно быть таким опрометчивым?
– Я не питаю никаких иллюзий. Эти венценосцы, приверженцы традиции, все они единогласно высказались за то, чтобы я находился в изгнании, под наблюдением британских властей, до скончания моих дней, – сказал он и, обернувшись к Жилю, добавил: – Лучше уж мне было бы остаться в Египте императором Востока.
Он направился к своей кровати, взял лежавшие на покрывале бумаги и, перечитав одну из них спросил:
– Она… Клер-Мари… жива?
– Умерла, когда я был еще ребенком.
– Как к вам попали эти письма?
– От моего деда.
– Дня не проходит, чтобы я о ней не вспоминал. Наше последнее свидание было горьким. Она сказала, что не хочет ребенка. Что разлюбила меня. Это было жестоко. Однако послание, которое вы мне дали, все проясняет.
– Она никогда не забывала ваше величество.
– Я возвращался в Сёр. И не один, а несколько раз. Но ее отец знать меня не хотел, он твердил, что его дочь меня не любит, и в их доме я – нежелательная персона. В последний мой приезд я узнал, что он погиб, а она бесследно исчезла.
– Она убежала из дома, государь. И родила в Париже.
– Как она умерла?
– У моей матери не было достаточных причин, чтобы жить, – Жиль напустил на себя печальный вид.
– Н-да, – молвил Бонапарт. – Отец Клер-Мари не ошибался. Эх, если б я знал об этом письме… если бы хотя бы догадывался о том, что происходит на самом деле… Я увез бы ее с собой… Если вы, – продолжал император, пряча письма за портрет своей супруги, – действительно намерены задержаться на какое-то время на этом острове, мы иногда могли бы встречаться и беседовать.
– Для меня нет ничего более приятного, чем быть полезным вашему величеству.
– Я хочу показать вам кое-что, прежде чем вы уйдете.
Жиль проследовал за императором. Они прошли через рабочий кабинет – такую же маленькую комнатушку, как и спальня. Затем пересекли столовую, освещенную только тем светом, что просачивался через стекло в двери, и вошли в салон – помещение более просторное и не такое темное, с двумя не зашторенными окнами, выходившими на запад. Обстановка здесь, однако, поражала скромностью, почти аскетизмом. В углу стоял стол с шахматной доской и расставленными для игры фигурами.