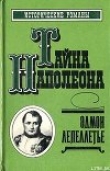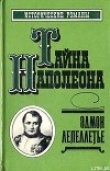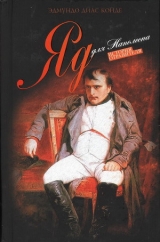
Текст книги "Яд для Наполеона"
Автор книги: Эдмундо Диас Конде
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Эдмундо Диас Конде
«Яд для Наполеона»
Предисловие автора
15 октября 1840 года, когда вскрыли гроб с телом Наполеона Бонапарта, присутствовавших при эксгумации поразило, что останки не тронуты тленом. Закон, запрещавший Бонапартам проживание во Франции, действовал до середины XX столетия, ибо ни одно правительство этой страны не хотело брать на себя ответственность за его отмену.
В 1996 году профессор Герио, возглавлявший Французскую медицинскую академию, признал, что отличное состояние сохранности тела обусловлено особыми свойствами мышьяка.
Чуть позже анализ пряди волос Великого корсиканца согласилось провести Федеральное бюро расследований. Токсикологические лаборатории американского ведомства подтвердили: содержание яда в исследованном ими материале достигает значительного уровня, что позволяет говорить об отравлении мышьяком. Эти выводы, оглашенные в Париже 4 мая 2000 года на заседании Сената, вызвали негодование у части французских интеллектуалов.
2 июня 2005 года президент Международной ассоциации судебных токсикологов Паскаль Кинтц, выступая перед представителями министерства юстиции и органов охраны правопорядка Франции, констатировал, что в структуру волос императора мышьяк привнесен с током крови и, следовательно, предварительно прошел через пищеварительный тракт, иными словами – попал в организм перорально. Причем это был природный мышьяк в наиболее токсичной форме, широко известный под названием «крысиный яд».
Но и по сей день немало тех, кто, несмотря ни на что, верит, что Наполеон Бонапарт скончался от рака желудка. С другой стороны, многие предпочитают, чтобы причина его смерти продолжала оставаться неразгаданной загадкой.
История, изложенная в этой книге, никогда не попадет на страницы официальных изданий.
1789-й год
Пролог
13 декабря 1789 года, в тот предвечерний час, когда в Париже начинали зажигать первые фонари, из городка Сёр в направлении столицы выехал ничем не примечательный наемный экипаж, запряженный четверкой лошадей.
Надежно заперев дверцу и задернув окно занавеской, в карете разместился мужчина, закутанный в плащ с капюшоном, скрывавшим лицо, отмеченное печалью и заботой. Устроившись поудобнее, пассажир взял с соседнего сиденья небольшую плетеную корзину и водрузил на колени. Кучер в тот момент яростно щелкал кнутом, побуждая рысаков миновать поскорее мост, дощатый настил которого отчаянно гнулся и скрипел. Съехав с моста, карета быстро покатила дальше, вздымая клубы пыли.
Поначалу дорога была сухой, луна светила ярко, а кони с таким усердием повиновались кнуту, что на почтовых станциях колеса экипажа приходилось охлаждать, поливая из ведра водой. Однако вскоре небо заволокли тучи, тьма сгустилась, и зарядил мелкий дождь, превративший вскоре тракт в грязное месиво. Вознице, к его большому огорчению, теперь приходилось сдерживать ретивых скакунов. Преодолев очередной крутой изгиб раскисшей дороги, карета вдруг выехала на толпу людей, которые жестами приказали вознице остановиться.
Это были санкюлоты в длинных брюках, коротких жилетах и куртках. В руках они держали блестевшие при лунном свете вилы, багры и железные ломы, а под плащами и накидками из кожи – трабуки и мушкеты с взведенным курком. Распахнув дверцу кареты, они грубо приказали пассажиру откинуть капюшон. При виде неизбывной нищеты и глумливого богохульства, в его сердце вновь взыграло притихшее было чувство глубокого презрения к этим бунтарям-оборванцам. Санкюлоты потребовали предъявить подорожную. В карету уже проник запах сыромятной кожи, пота, прокисшего вина, намокших обносков. Но тут человек в плаще предъявил им лежавшего в корзине грудного младенца, и они мгновенно расступились, позволив ему продолжить путь.
Что-то подобное повторялось чуть ли не в каждом селении: крестьяне останавливали экипаж, но стоило им увидеть в корзине младенца, как, проникнувшись сочувствием, они закрывали дверцу, и тягостное путешествие продолжалось.
Когда они были почти у цели, дождь прекратился, и кучер с удвоенной энергией взялся за кнут, понукая лошадей, возможно, более рьяно, чем того требовали обстоятельства. У въезда в Париж пассажир в капюшоне раздвинул занавески.
Утренняя заря только занималась, и эта картина была такой умиротворяющей, и он невольно подумал, что именно такой еще совсем недавно была жизнь. Не то, что сегодня: немощеные улицы, загаженные нечистотами и заваленные мусором. И всюду чернь, разгульная и воинственная. Несколько раз он видел насаженные на древки копий отсеченные головы с лицами, искаженными предсмертной судорогой. Стены всюду залеплены газетами, свободными от прежней цензуры. Куда канули времена, когда во всем был порядок, когда каждый знал свое место, а бесконечно милосердный Господь заботился о том, чтобы знание вовеки это пребывало в сердцах?
– К счастью, в такую рань патрули ополченцев нас не остановят, – крикнул, обернувшись, кучер. – В каждом парижском округе теперь собственная революционная армия, и днем запросто по городу не проедешь.
Путник несколько раз осенил себя крестным знамением.
Коляска медленно двигалась вперед, и ее фонари, подвешенные на веревках, подрагивали на ходу. Дождь не только превратил улицы в непролазную грязь, но и сделал особенно заметными груды разного хлама, в которых рылись маленькие оборвыши, профессиональные нищие и голодные псы. Зловонный воздух, зараженный миазмами, невозможно было вдохнуть. Время от времени до человека в капюшоне доносились пьяные выкрики, хохот уличных девок и разухабистое пение прочего гулящего сброда.
– Вот эта улица – Сен-Дени, – крикнул его извозчик.
– Еще немного вперед, – ответил тот, и карета подъехала к дому с белой дверью и массивным золоченым дверным молотком. – Здесь. И подождите меня, – попросил он. – Я ненадолго.
Бледная рука с проступавшими венами и распухшими суставами вцепилась в дверной молоток. Человек в капюшоне нетерпеливо постучал.
– Кто там? – спросила, приоткрыв узенькую щелку, дородная женщина в чепце с рюшами, по виду кухарка.
– Скажи хозяйке, что к ней пришли.
– Да что вы, сударь, в такую рань! Госпожа еще не встала. Она меня прибьет, если я ее…
Ранний визитер не стал слушать ее болтовню. Решительно распахнув дверь, он плечом отодвинул женщину с дороги, вошел, широким шагом пересек освещенную большими малиново-красными лампионами прихожую, и уверенно устремился вверх по лестнице. Поднявшись на один пролет, он повернул в тонувший в полумраке коридор и у самой последней двери остановился.
Человек в плаще постучал в дверь каким-то странным стуком: раз, потом дважды и потом еще три раза. Кухарка, услышав странный стук, замерла, не зная, что предпринять. Незнакомец взялся за ручку двери. Внутри кто-то щелкнул замком, и дверь со скрипом отворилась.
Рыжеволосая дама, чьи роскошные формы легко угадывались под ночной рубашкой из кружевного полотна, замерла с подсвечником в руке, вглядываясь в лицо раннего гостя. Она была уже напудрена, хотя ее роскошные рыжие локоны были еще в беспорядке. Огарок свечи отбрасывал причудливые блики, и в этом неверном свете была видна хоть и яркая, но уже начинавшая увядать красота. Приезжий откинул капюшон и решительно переступил порог.
– Ты должна мне помочь, – тихо произнес он.
Тем временем кухарка уже пришла в себя. Стараясь не шуметь, она скинула деревянные башмаки и, крадучись, приблизилась к двери, замирая от своей дерзости. Дверь была закрыта неплотно, и в щелку можно было видеть узкую полоску спальни, освещаемой неверным светом свечи. В зеркале над туалетным столиком кухарка различила отражения госпожи, своей хозяйки и высокого старика. Но кто же он? На похотливого жеребца старик никак не походил. И видеть его прежде ей не доводилось. Она почему-то вспомнила своего малыша, и у нее защемило сердце.
Госпожа зажгла новую свечу, и кухарка увидела, что у старика было какое-то странное выражение лица.
– Как вы смели явиться сюда? – выдавила из себя госпожа.
– Детей греха подбрасывают, не окрестив. Они – отродье дьявола, – прозвучало в ответ.
С этими словами старик, все своим обликом смахивавший на покойника, поставил на широкую кровать под балдахином корзину, которую до этого держал в руке, а затем подошел к госпоже и, крепко взяв за локоть, развернул ее к зеркалу.
– Посмотри-ка на себя! – громко сказал старик и приподнял густые рыжие волосы, обнажив шрам, который спускался от уха, повторяя абрис лица, и заканчивался под подбородком. Старик почти вплотную придвинулся к женщине. – Или ты уже позабыла жестокие нравы улицы? Если бы не я, из вас двоих никто бы не выжил!
– Я вас не боюсь, – сказала госпожа и вырвалась из его рук. – И давно уже не люблю.
Кухарку бросило в дрожь. Она отпрянула от двери и, молитвенно склонив голову, принялась читать про себя «Отче наш». Но тут в корзине захныкал младенец, и она вновь припала к щели.
– Ты будешь растить его, пока он сам не сможет о себе позаботиться. – Старик выложил на туалетный столик кошель и добавил: – В деньгах у тебя недостатка не будет.
– А что же его мать? – в вопросе госпожи звучали неприязнь и обида.
– Моя дочь собирается посвятить себя Господу.
– Ваша дочь? – с досадой переспросила она.
Дальше они разговаривали еле слышно, почти шепотом. Младенец же, покряхтев и похныкав, принялся плакать, и кухарка почти ничего не смогла разобрать. Только в конце разговора старик вновь заговорил громко, в большом раздражении.
– Этот негодяй хотел ее увезти! – воскликнул он, извлекая из кармана листок и торжественно потрясая им в воздухе. – Он хотел ее увезти как можно дальше от меня. Навсегда. Собирался кочевать с места на место, мерзавец! – и с неожиданной яростью бросил бумагу на пол.
А вскоре дверь распахнулась, и, если бы она отпрянула, старик наверняка сбил бы ее с ног. Он пронесся мимо съежившейся от страха женщины, слегка задев ее краем плаща, накинул на голову капюшон и исчез, словно тень.
– Что, Аннетта, подслушивала? – обратилась к ней госпожа, поглядев на босую служанку и сброшенные ею башмаки. – Зайди ко мне. Да не забудь прикрыть за собой дверь.
Мадам наклонилась, подобрала с пола брошенный стариком листок бумаги и, даже не взглянув, спрятала в карман. Затем взяла свою трубку и разожгла ее. По спальне разлился запах, который невозможно ни с чем перепутать. Аннетта как завороженная смотрела на корзину, где зашелся в крике младенец.
– Унеси это отсюда! – распорядилась госпожа. – Своего не уберегла, так займись хотя бы этим. Когда подрастет и сможет сам заработать на хлеб, ты его выбросишь отсюда, чтобы духу его не было в моем доме!
– Не говорите так, госпожа! – возразила Аннетта, содрогнувшись. – Слово тоже может быть грехом.
– Глупышка! – изрекла госпожа, откидываясь в ленивой неге на обтянутый плисом диван и глубоко затягиваясь. – Грех – тот же опий. В него надо верить, чтобы он раскрыл перед тобой все свои достоинства. – При слабом свете свечи глаза ее блестели так, что можно было не сомневаться: достоинства опия она уже оценила и погрузилась в море блаженства.
Аннетта подошла к корзине и взяла на руки ребенка. Вся окутанная дымом, госпожа встала, нетвердым шагом подошла к зеркалу и, откинув в сторону прядь рыжих волос, потрогала пальцами шрам.
– Госпожа, вы не сказали, как его зовут.
– Разве у ублюдка может быть имя? Его ведь не крестили, – отрезала она, не оборачиваясь.
– Сжальтесь над крохой! Это же ребенок. Позвольте его окрестить.
– Этому не бывать! Пока он остается здесь, имени у него не будет. – На этот раз госпожа повернулась к Аннетте и, сделав затяжку, завершила разговор: – И чтобы он не путался тут под ногами. Я занимаюсь делом и не потерплю никакого баловства.
Тем временем карета человека в капюшоне тронулась в обратный путь.
Старик поправил на себе власяницу с шипами, которую носил для умерщвления немощной плоти, и зажмурившись, целиком сосредоточился на своей боли. Он ни о чем не хотел думать. Ему нравилось ощущать, как липкая кровь стекает на поясницу, как ею пропитывается одежда. Несмотря на решение гнать от себя всякие мысли и воспоминания, он то и дело думал о дочери, и эта боль причиняла ему гораздо большие мучения, чем физические страдания.
Дорога подсохла, зато заметно похолодало. Кучер, завернувшись в накидку, ловко орудовал кнутом. Солнце уже закатилось за горизонт, когда впереди показались горы, возвышавшиеся над Сёром. Наконец экипаж приблизился к скрипучему мосту. Река текла уже в паре метров под мостом, поскольку после прошедшего дождя вода сильно поднялась.
Кучер натянул поводья, придерживая лошадей, и хотя от его внимания не ускользнуло, что животные чем-то обеспокоены, огрел их кнутом. Внезапно один из рысаков захрапел, взвился на дыбы и, увлекая за собой упряжку, понес. Налетев на ограждение, карета потеряла устойчивость, опрокинулась и вместе с лошадьми рухнула вниз.
От удара кучера сбросило с облучка. Когда же он вынырнул, судорожно глотая воздух и оторопело озираясь, совсем рядом оказалась заводь с камышами. Кучер саженками поплыл против течения, а почти у самого берега жадно схватился за торчавший из воды камень. Тем временем его пассажир, с глубокой раной на виске, недвижно лежал на полу уносимой паводком тонущей кареты, которая тащила за собой отчаянно сопротивлявшихся лошадей.
– Верните моего ребенка! Христом Богом прошу, умоляю! Пусть мне вернут моего малютку! – выкрикивала сквозь рыдания молодая женщина. Один из привратников отпер решетчатую дверь, впуская одетую в рванину пациентку, другой крепко держал ее за локоть. – Отец отнял его у меня! Отец забрал у меня моего сыночка!
Две могучего вида санитарки подхватили новенькую подмышки и силой принудили переступить порог. Женщина полными тоски глазами огляделась и вдруг обеими руками ухватила висевший у нее на шее серебряный медальон.
– Погодите минутку!
Весьма почтенного возраста монахиня в небольших, сползших на кончик носа очках и с маргаритками в руке, неспешно приблизилась к несчастной и погладила ее по щеке. – Успокойся, дочь моя! Никто ничего у тебя не отнимет.
Лицо женщины закрывали пряди всклокоченных волос, поэтому внезапная перемена настроения осталась незаметной для окружающих. Она вдруг быстро убрала в прорезь платья медальон и жадно взяла протянутые ей маргаритки. Жест монахини явно подействовал на больную успокаивающе, и она принялась было нежно гладить лепестки. Но внезапно к ней вернулась какая-то мысль, и она простонала:
– Мой ребенок… Мой ребенок… Мой ребенок…
– Сестра Женевьева, нам пора! – сказала одна из санитарок и подтолкнула женщину вперед. От толчка букетик выпал из ее рук и упал прямо под ноги второй санитарке, которая тут же на него наступила.
Больная упиралась, и ее силой заставляли идти. Перед тем как скрыться в лабиринте коридоров, она с тоской обернулась на смотревшую ей вслед добрую монахиню.
– Кто такая? – поинтересовался у своего напарника привратник.
– А Бог ее знает! Говорят, память потеряла.
– А кто говорит? – переспросил первый с алчным блеском в глазах.
– Та дама, которая доставила ее сюда, – качнул головой второй в сторону стоявшей неподалеку кареты и подбросил в воздух блестящую золотую монету.
В момент, когда с грохотом захлопнулись ворота главного входа, сидевшая в карете рыжеволосая дама со шрамом приказала кучеру трогать.
Сальпетриер был больницей строгого содержания для умалишенных, припадочных, калек, проституток, пьянчужек, попрошаек и просто нежелательных элементов из числа представительниц прекрасного пола.
1
Мальчик без имени
Публика разразилась бешеными аплодисментами. С галерки, забитой простонародьем, доносились невообразимый гвалт и улюлюканья, так что вряд ли кто-нибудь мог бы с уверенностью сказать, был ли это успех или оглушительный провал. Однако актеры всякий случай вышли на сцену с поклонами. Огюст в который раз открыл свою табакерку черного дерева, вынул щепотку нюхательного табаку и, положив на тыльную сторону ладони, втянул в себя табак.
– Огюст, со стороны наверняка видно, что у меня горит лицо.
– Мадам, вы наложили белила в два слоя… Через них никакой краске не пробиться, клянусь вам!
– Вечно ты все опошлишь! Где мой платок? Я безутешна, такая трагедия! – щебетала мадам Бастид, обмахиваясь шелковым веером, инкрустированным перламутром.
– Безутешна? – запротестовал Огюст, подавая ей надушенный батистовый платочек. – Насколько я мог заметить, мадам, в течение всего спектакля вы только тем и занимались, что рассматривали в перевернутый бинокль ложи напротив…
– А с каких это пор кокетство несовместимо с сентиментальностью? Напомню тебе, что смотреть в бинокль наоборот – это знак из итальянского языка жестов, – произнесла мадам Бастид. – Тебе не кажется, что это весьма уместно, когда дают «Ромео и Джульетту»?
– Я знаю, что это значит: «приходи ко мне повидаться». Но мы французы, – возразил Огюст, помогая ей подняться. – И нами движет любовь. Любовь – вот наш спасительный храм. И священный огонь! – изрек он и одернул портьеру при выходе из ложи.
– Ах, мой милый, не драматизируй! Не будь мне известны твои повадки, сказала бы, что ты изъясняешься как влюбленный. Но поскольку я хорошо тебя знаю, скажу, что говоришь ты как ростовщик. – Огюст распахнул дверь в фойе и предложил мадам Бастид руку. Застыв на мгновение, она с усмешкой взглянула ему в глаза и добавила шепотом: – А каким бы мужчиной ты мог быть, если бы свои мужские достоинства поставил на службу слабому, а не сильному полу.
– Боюсь, слабому полу больше по душе моя обходительность, – парировал Огюст.
– Ты безжалостен, – вынесла приговор мадам Бастид, взяла своего спутника под руку и, жеманно взмахнув платочком, поднесла его к губам.
Фойе, заполнившись публикой, превратилось в водоворот декольте и напудренных париков, моноклей, сюртуков и шелковых галстуков, затянутых корсетов и атласных шляпок, изящных туфелек и высоких ботфортов. На лестнице эта река сливалась с потоком зрителей, спускавшихся с верхних ярусов, в том числе и с галерки, судя по их платью, манере поведения и специфическому букету – запахам одеколона, сосисок и чеснока.
Огюст заметил, что мужчины, узнавая его спутницу, демонстративно отворачивались в другую сторону. Его позабавила мысль, что для него, молодого человека двадцати трех лет от роду, это уже давно пройденный этап. И на миг ему увиделось в том нечто трагическое, поднимавшее его над толпой.
По мнению мадам Бастид, Огюст красотой не отличался. Однако кудрявые волосы, смуглая кожа, полные чувственные губы, благородная осанка и высокий рост делали его весьма привлекательным. И потом, в нем чувствовалась сила, переходящая в брутальность, без которой женщины вообще не воспринимают мужчину всерьез.
– Ты не против, если мы прогуляемся пешком до «Кафе тюрк»? – предложила мадам Бастид, когда они вышли на улицу.
– Конечно нет. До бульвара дю Темпль совсем недалеко, – ответил Огюст и без всякого перехода продолжил: – Видите ли, я как-то задумался, почему мне так неприятны англичане? Знаете, за что я их больше всего ненавижу?
– Сейчас попробую отгадать! – Она сделала паузу, словно обдумывая ответ. – Поскольку английским ты владеешь в совершенстве, дело не в языке. Наверное, за их холодное пуританство или, быть может, за пуританскую холодность?
– За моду, мадам. Да-да, за моду! Я ненавижу Англию за то, что она является законодательницей мод. За эти кургузые сюртучки, которые полагается носить нараспашку, – он отряхнул с лацкана невидимую пылинку, – за широченные воротники и ужасные, высотой почти до колен, сапоги с отворотами. Какая бессмыслица! Видели ли вы когда-либо подобное тиранство? И виновата в этом Англия, поголовно увлеченная спортом.
– А что скажешь о неопрятных, неглаженных рубахах, которые носит теперь молодежь? За них тоже будешь винить Англию?
– Не знаю, откуда взялось это поветрие. Но среди молодежи действительно считается хорошим тоном ходить в мятой рубахе. А чтобы добиться наибольшего эффекта, в рубахе теперь ложатся спать.
– И за распространение цилиндра на Англию тоже вряд ли можно возлагать ответственность. Несмотря на цену, эти головные уборы у нас давно в большой моде.
– Разумеется, – согласился Огюст и коснулся рукой своего цилиндра. – В минувшем году один лондонский шляпник изготовил цилиндр, и это вызвало столько шума!
– В Лондоне?
– Ну да.
– Невероятно!
– Но это еще не все. Его судили и оштрафовали на пятьдесят фунтов за то, что он вышел на людную улицу, водрузив на голову высокую блестящую трубу, нарушавшую покой обывателей.
– Это шутка? – засмеялась мадам Бастид.
– Нет, дорогая, вовсе нет.
– Огюст, мой юный друг, ты не просто модник, – ты очаровательный модник! Чего нельзя сказать о других молодых щеголях.
Дело происходило во фримере, третьем месяце республиканского календаря, однако месяц выдался необычайно теплым. Холод не спешил вступить в свои права, и хотя дни сделались значительно короче, по вечерам публика по старинке высыпала на бульвары и фланировала взад-вперед, не вполне ясно понимая, по какому календарю она живет – по григорианскому или республиканскому.
– Поверь, Огюст, мы просто обязаны радоваться и веселиться, – понизив голос, произнесла мадам Бастид. – Мы пережили Террор, а сегодня нет никакой уверенности, что Республика протянет сколько-нибудь долго. Это налагает на нас особую ответственность. Наш исторический долг – наслаждаться жизнью, брать от нее все. Кто может предсказать пришествие нового Робеспьера? – Она что-то достала изо рта и бросила на землю. – Ты не представляешь, как мне надоели эти пробковые шарики. И кто придумал эту дурацкую моду? Можно подумать, что овал лица от этого действительно становится ровнее… Этой гадости я предпочитаю веер, которым можно скрыть что угодно.
– Но в Париже люди голодают, мадам. А вот эта рубаха, – Огюст выпростал рукав, расширявшийся книзу «фонариком», – стоит три тысячи ливров. Лет восемь назад она стоила бы не более десяти.
– Разве я спорю? По заплеванным, грязным улицам слоняются одни нищие. Ты знаешь, сколько в Париже немощеных улиц? Вот если бы мы брали пример с англичан…
– На это не стоит рассчитывать. Коррупция и разложение в верхах стали притчей во языцех. О смрадном воздухе Парижа ходят толки по всей Европе…
– Сомневаюсь, что где-то есть еще одна такая же грязная столица, как наша. К тому же здесь столько шпионов и соглядатаев! Английское золото везде прокладывает себе дорогу, – молвила она, прикрывая рот ладонью. – Но люди-то не меняются. Все те же лица и те же мужественные тела, которые тебе приносят счастье, а мне – деньги. Или ты со мной не согласен?
На пересечении с небольшой улочкой, выходящей на бульвар дю Тампль, произошло нечто неожиданное. Сутулый тип, который быстро шел им навстречу, поравнявшись, молниеносным движением сорвал с головы Огюста цилиндр. Огюст, кажется, ожидал, что может произойти нечто подобное. Развернувшись, он нанес резкий удар в челюсть и сбил того с ног. Грохнувшись на землю, грабитель все-таки не выпустил из рук цилиндр.
– Я вижу, – воскликнула мадам Бастид, – ты замечательно владеешь не только английским!
– Боже мой!Вы полагаете, этой беде можно чем-то помочь? – сокрушался Огюст, демонстрируя сломанный ноготь. – Кажется, хорошие цилиндры в цене даже у такой шпаны!
Огюст наклонился над грабителем и сказал несколько крепких слов в его адрес. Обрадованный тем, что его не стали дальше бить, тот признал свою вину, отдал головной убор владельцу и на всякий случай прикрыл рукой физиономию.
– Мой дед, да упокоит его Господь, – разглаживая шляпу, Огюст вернулся к своей спутнице, – рассказывал, что точно так же когда-то было с париками. В городах орудовали целые шайки, промышлявшие воровством париков. Вы-то, наверное, об этом слышали?
– Мне отнюдь не столько лет, Огюст!
В «Кафе Тюрк», как всегда, густо пахло мускатным орехом, корицей и кофе. Дымилась только что разожженная курильница с ароматическими травами. Подобранные красивыми складками гардины, многорожковые люстры, декоративная лепнина и стены, увешанные гобеленами на героические сюжеты, – все это великолепие создавало впечатление скорее экзотической эклектики, чем подлинно турецкой роскоши. Заведение находилось в самом центре города, в непосредственной близости от Пале-Рояля, и при нем был большой сквер, выходивший прямо на улицу, и в кафе всегда было полно посетителей.
– За Монархию! – почти беззвучно сказал Огюст, поднимая бокал с мадерой.
– С ума сошел! – она хохотнула и поправила перья на шляпке.
– Для меня быть монархистом – это чувство, причем чисто эстетическое.
– Прекрасно, Огюст, но будь при этом благоразумным и о-сто-рож-ным, – тихо сказала его спутница. – Ты знаешь, что на набережных Сены торгуют куклами, изображающими Бонапарта?
– Кстати, вы читаете свежие газеты?
– В Париже все поголовно увлечены прессой. Число газет растет с каждым днем, как и число людей, которые их читают. Выходят и роялистские издания, если их пропускает цензура. – Она понизила голос. – У меня эти газеты вызывают отвращение. Даже пресловутый «французский» формат в осьмушку листа, столь похожий на листовку, – меня от него воротит. В этом смысле вкус британской прессы заслуживает похвалы. Надеюсь, ты со мной согласен. Но я не желаю больше слышать о газетах. Они всегда лгут. Зато у меня имеются собственные источники.
– Кстати, газеты трубят о том, что генерал Бонапарт убит в Каире. И Директория якобы знала о его смерти еще несколько недель назад.
– Уверена, что это вранье. Правда только то, что Нельсон нанес нам серьезное поражение на море.
– Ну да, причем не только военное, но и моральное. А коли так, не думаете ли вы, что оно подтолкнет ситуацию к реставрации Бурбонов? – спросил он еле слышно.
– Мой дорогой, я верю только тому, что вижу собственными глазами: высокие налоги, нищета, слоняющийся без дела сброд. И знаю, что революции заканчиваются реформами, а великие дела и большие деньги делаются при помощи торговли.
– Лично я в качестве товара предпочитаю любовь.
– Дай простор полету воображения, и ты поймешь, что есть гораздо более ценные вещи. Я полагаю, нам следует заняться снабжением французской армии. – Она допила вино и жестом попросила повторить.
– Мне больше по нраву ясновидение. Оккультисты сейчас в моде. Весь Париж говорит о магах, гадальщиках и колдуньях. Почему бы нам не посвятить себя гаданию на картах?
– Я пью за счастливое будущее – какой бы масти ни выпала удача!
Так они сидели еще какое-то время, наконец мадам Бастид заявила, что ей пора домой и жестом дала понять, что хочет встать.
Огюст, как настоящий кавалер, проворно вскочил на ноги.
На следующий день похолодало, и сухой морозец слегка пощипывал кожу. Часы показывали начало одиннадцатого, когда мадам Бастрид спустилась из своей спальни и заметила, что дверь на улицу приоткрыта. Завязав на узел пояс халата, она направилась в большую гостиную, где выбрала кресло, из которого была видна прихожая, и устроилась в нем полулежа, положив ноги на пуф. Вскоре входная дверь скрипнула, и в проеме появился мальчик с седлом для верховой езды на плече. Стараясь не шуметь, он затворил за собой дверь и запер ее на замок.
– Бен-жа-мен! – растягивая гласные, почти пропела ему вслед мадам Бастид, вставая. Парнишка замер. – Ан-ту-ан! Шарль! Или может… Филипп?.. Поль? Мишель? Себастьен? Мне почему-то кажется, что ты никогда не получишь имя. – Мадам Бастид остановилась в дверях. – А человек без имени – это человек без души, смутная тень в царстве живых, – цедила она сквозь зубы. – Тебе известно, что египтяне считали имя самым верным спутником человека, и если тень оставляла своего хозяина первой, имя покидало его в самую последнюю очередь? Тебе не кажется, что они были правы?
– Не знаю, мадам, – продолжая стоять к ней спиной, еле слышно ответил мальчик.
– Не знаешь? А то, что помощник конюха должен входить в дом не с парадного, а с черного хода, этого ты тоже не знаешь?
– Это я знаю, мадам.
– В таком случае – убирайся вон, чтоб глаза мои тебя больше не видели!
Паренек, с трудом удерживая тяжелое седло, не поворачивая головы, направился в боковой коридор. Дойдя до двери, на мгновение замер, словно набираясь сил, затем решительно переступил порог.
На кухне пахло чем-то сладким. На звук отворившейся двери обернулась Камилла – как всегда подтянутая и энергичная. Она еще не переоделась, но была уже аккуратно причесана. Ее сестра, кухарка Аннетта, в переднике и неизменном чепце, с руками по локоть в муке, на деревянной лопате извлекала из печи румяные пышки. Рядом одна из помощниц замешивала тесто, а другая усердно толкла что-то в бронзовой ступке. Встретившись пустым взглядом с глазами Аннетты и Камиллы, мальчик проследовал на каретный двор. Пристегнутые к седлу стремена, мерно покачиваясь, били его по ноге.
Спустя пару минут следом за ним отправилась Аннетта. Она толкнула створку ворот конюшни и, как и следовало ожидать, увидела мальчишку у гнедого коня. Стоя на невысокой стремянке, он промывал животному раны на холке.
– Я ходил к шорнику подогнать седло, – сказал он.
– Не подходи ты к нему так близко. У него дурной норов.
– Не дурной. Он просто боязливый.
– Да чего ж ему бояться-то, сынок?
– Он людей боится.
– Как думаешь, ему очень больно? – участливо спросила Аннетта.
– Ничего, вылечим, – мальчик окунул тряпку в воду, но когда вынимал ее, вдруг резко вскочил и схватился за запястье, как делают, когда считают удары пульса.
Его лицо побелело. Аннета, с опаской косясь на коня, подобрала тряпку, ополоснула, отжала и, передав мальчику, тут же отступила.
– Тебе все еще мерещится это? – спросила женщина.
Мальчик кивнул и снова принялся обрабатывать рану. Конь сопел и тряс головой.
– И во сне кошмары мучают?
Мальчик снова кивнул.
– Мне стыдно, – проронил он.
– Стыдно? – переспросила Аннетта. – Да ты должен гордиться, малыш! От укуса такой змеи и взрослый-то вряд ли бы спасся. Это просто чудо. Ты был еще такой маленький… – Она немного помолчала. – Скажи, почему ты не хочешь, чтобы мы называли тебя как прежде, когда ты был совсем крохой и спал в одной комнате со мной и сестрой?
Гнедой повернул морду и обнюхал мальчика, который, стоя на стремянке, прикладывал влажную тряпку к его хребту. Свободной рукой мальчик приобнял коня за шею.
– Какими бы именами меня ни называли, все они ненастоящие, Аннетта. – У меня нет имени, но у меня есть или были родители. Родители есть у всех. И я должен найти их и спросить, как они меня назвали. – Произнеся это, он с такой силой промокнул рану, что у гнедого по крупу потекли струйки воды, смешанной с кровью. – А покамест я не желаю, чтобы кто бы то ни было как-то меня называл.