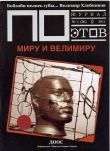Текст книги "Скифы и сфинксы. Журнал ПОэтов № 6-7 (30) 2011 г."
Автор книги: Эдгар Аллан По
Соавторы: Александр Чернов,Сергей Бирюков,Константин Кедров,Маргарита Аль,Елена Кацюба,Анатолий Кудрявицкий,Михаил Зенкевич,Хадаа Сендо,Татьяна Зоммер,Кристина Зейтунян-Белоус
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Сфинкс. Приключения Шерлока Холмса (сборник)
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2011
* * *
Предисловие
Три новеллы «отца детектива» Эдгара Алана По, включенные в десятый том «Золотой библиотеки детектива», как нельзя более ярко отображают тот период творчества знаменитого писателя, когда он со всей одержимостью художественной натуры погрузился в некий особый мир, где так тесно и, можно сказать, неразличимо переплелись фантазия и действительность, ирреальное и реальное, эмоциональная и рациональная сферы, мир, который не только отличается от стереотипов массового мышления, но подчас вступает в непримиримый конфликт с ними.
Эдгар По решительно и смело проникает в темные глубины подсознания, с дотошностью лабораторного исследователя анализирует процессы угасания жизни и перехода ее в иные, непознанные формы существования, душу как автономный субъект жизнедеятельности, нестандартные состояния человеческой психики.
Особое место в творчестве писателя занимают различные вариации на тему смерти прекрасной юной женщины, которая не уходит вовсе из жизни, а лишь переселяется на иной ее уровень, и при этом неотвратимым последствием такого переселения является полное и необратимое крушение личности ее инфернального возлюбленного, чья психическая организация оказалась не способной адекватно воспринять эту метаморфозу.
А чья оказалась бы способной?
И отнюдь не случайным представляется то, что автор новеллы «Береника» приводит известный парадокс древнего богослова Тертуллиана: «Умер сын Божий – заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес – не подлежит сомнению, ибо невозможно».
* * *
И снова Великий Сыщик, общение с которым едва ли может наскучить кому бы то ни было, как не может иссякнуть интерес даже самых искушенных знатоков к его дедуктивному методу расследования преступлений.
Сэр Артур Конан Дойл своими произведениями оказал огромное влияние на развитие криминалистики. Известно, что практически первый фундаментальный труд в этой области – книга Г. Гросса «Исследование преступлений» вышла в свет уже после того, как Шерлок Холмс завоевал славу первооткрывателя научных принципов в деле разгадывания криминальных тайн.
Даже высокопоставленные функционеры государственной полиции в своих интервью вынуждены были признавать неоспоримые заслуги Конан Дойла в решении проблем совершенствования и научного осмысления следственных действий.
Впрочем, дедуктивный метод Холмса основан не столько на абстрактных умопостроениях, сколько на элементарной логике, на способности подмечать явления окружающего бытия, анализировать, сопоставлять их и приходить к определенным выводам. Здесь требуются ясный ум, эрудиция и недюжинный интеллект, но наука – это, пожалуй, из несколько иной сферы. Ведь не требуется же научного знания для того, чтобы сообразить, что надпись на стене соответствует уровню глаз писавшего – и, следовательно, таким образом определить его рост; или обратить внимание на то, что без особой на то причины гувернантке не платят жалованье в трехкратном размере («Медные буки»), а квалифицированный работник не станет довольствоваться половинным жалованьем («Союз рыжих»).
Или – «если палка высотой в шесть футов отбрасывает тень в девять футов, то дерево высотой в шестьдесят четыре фута отбросит тень в девяносто шесть футов…».
Действительно, для таких вычислений вовсе не обязательно обладать специальными знаниями или проводить особого рода исследования, как и для вывода о том, что если шляпа некоего джентльмена не чищена уже несколько недель, то его, конечно же, разлюбила жена («Приключения голубого карбункула»).
В новелле «Скандал в Богемии» Холмс снисходительно поясняет своему простодушному другу: «Если ко мне в комнату входит человек, пропахший йодоформом, с черным пятнышком ляписа на указательном пальце правой руки и с шишкой на правой стороне цилиндра, где он прячет свой стетоскоп, я был бы настоящим тупицей, если бы не сообразил, что передо мной – врач, активно занимающийся своими прямыми обязанностями».
Но, разумеется, результаты подобного рода наблюдений являются лишь вспомогательными средствами построения следственной версии. Новелла «Приключение с пестрой лентой» стала убедительным аргументом в пользу того, что верное определение мотива и отдельные детали сами по себе, на первый взгляд, ничего не объясняющие, тем не менее в совокупности своей предоставляют реальную возможность воспроизвести полную картину готовящегося преступления.
«Я давно придерживаюсь одного правила, – поясняет своему другу Великий Сыщик, – следует исключить все невозможное. Тогда то, что остается, и есть истина, какой бы невероятной она ни казалась».
И настоятельно советует при этом не только смотреть, но и наблюдать.
Умение наблюдать и свободно, без оглядки на сложившиеся стереотипы массового мышления, оперировать полученными данными позволяет Холмсу принимать решения, имеющие полное право называться открытиями.
Вот они-то, его ошеломляющие открытия, и дают основания для ощущения самого, пожалуй, ценного из состояний человеческой души – внутренней независимости.
Этот человек независим в полном смысле этого слова, и его непоколебимая независимость, столь экзотическая в человеческом сообществе, создает какой-то особый ореол чуть ли не сверхчеловека, хотя Шерлок Холмс вовсе не претендует на подобное звание. Просто он мастер своего дела, Мастер, который может позволить себе общаться на равных с самыми высокопоставленными особами, и даже слегка свысока, потому что, если у министра отнять портфель и кабинет, он станет попросту никем, а вот у Мастера никто не может отнять его мастерство…
И недаром же Гилберт Кит Честертон, строгий и чрезвычайно скупой на похвалы критик, великий парадоксалист и насмешник, отмечал со всей серьезностью и со всей почтительностью: «В конце концов лучшими из детективных историй остаются новеллы о Шерлоке Холмсе, и, хотя имя этого несравненного кудесника известно всему свету, а легенда о нем – пожалуй, единственный настоящий миф нашего времени, у меня сложилось впечатление, что сэр Артур Конан Дойл еще не получил причитающуюся ему по праву долю нашей благодарности».
Эти строки, написанные в 1928 году, не утратили своей актуальности и сегодня.
В. Гитин, исполнительный вице-президент Ассоциации детективного и исторического романа
Эдгар Аллан По
Береника
Горе многолико. Печаль земная многогранна. Она простирается над широким земным горизонтом, точно радуга, и оттенки ее так же бесчисленны, как цвета этой арки, так же отчетливы, но так же и безгранично неотделимы друг от друга. Простирается над широким горизонтом! Как вышло, что красоту я превратил в уродство? Заговор мира и покоя – в метафору печали? Однако, подобно тому как в этике зло считается следствием добра, так и в действительной жизни скорбь рождается из счастья. Не то воспоминания о былом блаженстве приносят сиюминутную муку, не то страдания, которые есть, коренятся в восторгах, которые могли бы быть.
При крещении я был наречен Эгеем. Свое родовое имя я не назову. Но на этих землях нет замков, более овеянных веками, чем мои мрачные, серые фамильные чертоги. Линию нашу всегда почитали племенем мечтателей, и во множестве удивительных частностей – в самих формах родового жилища, во фресках главного зала, в обивке стен почивален, в резьбе некоторых колонн в оружейной комнате, но более всего в галерее старинных полотен, в обустройстве библиотеки и наконец в особенном своеобразии ее содержимого – доказательств, подтверждающих эту веру, более чем достаточно.
Воспоминания о моих самых ранних годах связаны с этой комнатой и хранящимися в ней томами, о которых более я упоминать не стану. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Впрочем, неверно говорить, что меня до тех пор не существовало; утверждать, что душа человека не имеет предыдущего существования – пустые слова. Возражаете? Давайте не будем о том спорить. Будучи убежден сам, я не испытываю потребности убеждать. И все же память моя хранит воспоминания о каких-то тонких неземных формах; о взорах, преисполненных разума и духа; о звуках, мелодичных и в то же время грустных, – воспоминания, которые нельзя исключить, воспоминания, подобные неуловимой тени, такие же неосязаемые, непостоянные, зыбкие; сходные с тенью еще и тем, что мне не избавиться от них, доколе разум мой будет озарять их своим сиянием.
В той комнате появился на свет я. Итак, пробудившись после долгой ночи того, что казалось, но не было небытием, оказавшись в самом сердце полного чудес волшебного мира, во дворце воображения, в неизведанных просторах монастырской мысли и учености, стоит ли дивиться тому, что я посмотрел вокруг удивленным и горящим взором, что детство свое я провел за книгами, а отрочество посвятил раздумьям? Но что удивительно, по прошествии стольких лет, в зените зрелости, все еще пребывая в отцовских стенах, что на самом деле поразительно, так это то, какое безволие сковало родники моей жизни; поразительно, какая полнейшая перемена произошла в природе даже самых обыденных моих помыслов. Реальности мира стали представляться мне порождением фантазии, всего лишь видениями, не более; но вот дивные помыслы мира грез превратились, нет, не в смысл моего каждодневного существования, они полностью и всецело заменили самое это существование.
* * *
Береника была моей кузиной, и в родовом замке мы росли вместе. Но росли по-разному: я – нездоровым, хмурым, она – живой, изящной, пышущей энергией; ей бы все резвиться среди лугов на склонах холмов, мне – корпеть над книгами в тишине; я – живя своим сердцем, телом и душой отданный самым напряженным и болезненным размышлениям, она – беспечно идя по жизни, не задумываясь о тенях на пути или о молчаливом полете вранокрылого времени. Береника! К ее имени взываю я… Береника!.. И из серых руин памяти тысячи беспокойных воспоминаний восстают, потревоженные этим звуком. Ах, как же ясно образ ее теперь стоит у меня перед очами, так же ясно, как в дни ее беспечной юности и беззаботного счастья. О, прекраснейшая из красавиц, пленяющая диковинной красотой! О, сильфида меж зарослей арнхеймских! О, плещущаяся средь волн наяда! А после… а после – тайна и ужас, то, о чем рассказывать негоже. Болезнь, смертельная болезнь горячим самумом обрушилась на нее; и, глядя на нее, я не мог не заметить, что дух перемены витал над ней, пронизывая ее разум, ее привычки, ее характер, самым незаметным и жутким манером тревожа даже самое ее суть! Увы! Разрушитель явился и сгинул, а жертва… Где она? Я не узнавал ее… во всяком случае, я более не узнавал в ней Беренику.
Среди многочисленных недугов, принесенных этою хворью, смертельным и тягчайшим, вызвавшим столь жуткую душевную и физическую перемену в моей кузине, самым удручающим и стойким по природе своей была эпилепсия, которая не раз заканчивалась трансом, трансом, неотличимым от смерти, от которого пробуждалась она почти всегда с поразительной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь – ибо мне было сказано, что никаким иным словом называть мое состояние не следует – моя собственная болезнь стремительно поглощала меня и наконец приобрела характер мономании, необычной и исключительной формы, ежечасно, ежесекундно укрепляющейся и набирающей силу и со временем обретшей надо мной непонятную власть. Мономания эта – раз уж я должен так ее называть – заключалась в болезненной раздражительности тех качеств разума, которые, как полагает метафизическая наука, отвечают за внимание. Более чем вероятно, что изъясняюсь я непонятно, но боюсь, что просто не существует того способа, которым можно было бы вложить в разум обычного читателя должное представление о той нервной «напряженности интереса», с которой я погружался в созерцание и «обдумывание» (если не воспринимать этот термин технически) даже самых будничных, самых наиобычнейших предметов во Вселенной.
Размышлять долгими нескончаемыми часами, глядя на какую-нибудь легкомысленную картинку, нарисованную на полях книги, или рассматривая шрифт, которым набран текст; сосредоточиться на затейливых тенях, падающих наискось на гобелен или на пол, и просидеть так большую часть летнего дня; завороженно наблюдать целую ночь за ровным огнем какой-нибудь лампы или за тлеющими углями в камине; посвятить несколько дней кряду обдумыванию аромата цветка; монотонно твердить одно и то же слово, какое-нибудь самое обычное, повседневное слово, покуда звук его от многократного повторения полностью не утрачивает смысл; потерять всяческое ощущение движения или вообще физического существования, предавшись полнейшей телесной расслабленности, длительной и настойчивой, – вот лишь некоторые из самых частых и наименее безобидных причуд, вызванных состоянием умственных процессов, не то чтобы совсем утративших какое-либо подобие четкости, но, несомненно, не поддающихся анализу либо объяснению.
И все же я не хочу быть понятым неправильно. Столь непомерное, искреннее и нездоровое внимание, вызываемое подобными по самой природе своей малозначимыми объектами, ни в коем случае не стоит приравнивать к той предрасположенности к созерцательности, которая свойственна всем людям, и в особенности проявляющейся у личностей, наделенных слишком живым воображением. Это даже не было, как может поначалу показаться, каким-то необычным состоянием, или даже просто преувеличенным проявлением подобной склонности – это было совершенно определенное и ни на что не похожее состояние. Если в первом случае мечтатель, или человек увлеченный, заинтересовавшись каким-либо объектом, обычно не малозначимым, незаметно для себя теряет из виду сей объект в бесконечном множестве порожденных им разнообразных идей и умозаключений, пока на излете этой мысли, часто весьма возвышенной, он вдруг не обнаруживает, что incitamentum[2]2
Побудительная причина (лат.).
[Закрыть], или первопричина его задумчивости, исчезла или полностью забыта. В случае со мной первопричина была всегда малозначимой, хотя мое расстроенное воображение неизменно наделяло ее какой-то противоестественной и фантастической важностью. Если моя мысль и делала какие-то шаги в сторону, то их было немного, и всегда она упрямо возвращалась к тому, что являлось отправной точкой. Размышления никогда не приносили мне удовольствия, и если что-то выводило меня из задумчивости, первопричина этого, если уже не находилась перед глазами, вызывала тот еще больший, на этот раз прямо-таки сверхъестественный интерес, который и был основным признаком моего недуга. Одним словом, у меня в первую очередь в ход шли те силы разума, которые отвечают, как я уже говорил, за внимание, а у обычного мечтателя – за мышление.
Надо сказать, что книги, увлекавшие меня в ту пору, если сами и не являлись причиной моего расстройства, своею фантастичностью, своим разнообразием во многом отражали признаки этого расстройства. Среди прочих я хорошо помню трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона[3]3
Курион, Целий Секунд (1503–1569) – итальянский гуманист.
[Закрыть] «De Amplitudine Beati Regni Dei»[4]4
«О величии блаженного царства Божия» (лат.).
[Закрыть], великий труд Блаженного Августина[5]5
Блаженный Августин (354–430) – христианский богослов, влиятельный проповедник и писатель.
[Закрыть] «О граде Божием» и «De Carne Christi»[6]6
«О пресуществлении Христа» (лат.).
[Закрыть] Тертуллиана[7]7
Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 – ок. 230) – раннехристианский богослов и писатель.
[Закрыть], парадоксальные слова из которой «Mortuus est Dei filius; credible est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»[8]8
«Умер сын Божий – заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес – не подлежит сомнению, ибо невозможно» (лат.).
[Закрыть] на многие недели погрузили меня в напряженные и бесплодные изыскания.
Так может показаться, что разум мой, утрачивающий равновесие только лишь под влиянием самых обыденных вещей, имел сходство с тем упоминаемым Птолемеем Гефестионом[9]9
Птолемей, Клавдий (87–165) – древнегреческий математик и географ.
[Закрыть] океанским утесом, который, не поддавшись могучей силе человека и еще более яростному неистовству волн и ветра, дрогнул от прикосновения цветка, называемого асфоделью. Впрочем, если досужему мыслителю и может показаться несомненным фактом то, что в переменах, произведенных ее горестным недугом в душевном состоянии Береники, я мог отыскать немало поводов для той напряженной и ненормальной работы мысли, природу которой мне стоило таких трудов объяснить, это ни в коем случае не соответствует действительности. В периоды, когда задумчивость моя на время оставляла меня, ее беда заставляла меня страдать, и все же, принимая близко к сердцу тот кромешный ад, в который превратилась ее светлая и чистая жизнь, я довольно редко и не так уж глубоко задумывался над тем, каким чудодейственным образом подобный перелом мог произойти столь внезапно. Однако мысли эти не имели ничего общего с моей болезнью и ничем не отличались от тех, что в подобных обстоятельствах приходят в голову любому человеку. Оставаясь верным себе, безумие мое упивалось менее важными, но более удивительными переменами в физическом облике Береники, в том, как необыкновенно и страшно исказилась ее внешность.
В дни расцвета ее несравненной красоты я не любил ее. Мое существование было настолько противоестественным, что чувства никогда не шли от сердца, а волнения всегда были порождением разума. Сквозь серость раннего утра, среди пестрых теней полуденного леса и в тиши своего кабинета ночью я видел ее, порхающую, но видел ее не как живую, дышащую Беренику, а как Беренику из мира грез; не как земное (приземленное) существо, а как абстракцию такого существа; видел в ней предмет не для восторга, а для анализа; видел в ней не объект любви, а тему для самых глубоких, хоть и бессвязных мыслей. А теперь – теперь я трепетал, когда она была где-то рядом, а когда приближалась – бледнел. И все же, горько оплакивая ее падение, ее жалкое состояние, я напоминал себе о том, что она долго любила меня, и о том, что в один злосчастный день я заговорил с ней о браке.
И вот, когда свадьба наша была уже не за горами, зимой, в один из тех необычно теплых, тихих и туманных дней, дней, которые порождают на свет прекрасную Альциону[10]10
Поскольку Юпитер каждую зиму дважды посылает по семь теплых дней кряду, люди стали называть эту нежную, теплую пору колыбелью красавицы Альционы» – Симонид. (Прим. авт.)
[Закрыть], я сидел (как я полагал, в одиночестве) во внутренних покоях библиотеки. Но, подняв глаза, я увидел, что предо мной стоит она, Береника.
Мое ли разыгравшееся воображение или туманная пелена в самом воздухе; робкая ли полутьма зала либо же серые складки ее убранства, ниспадающие вокруг ее фигуры, – что делало контур ее столь робким и неясным? Я не мог определить. Она не произнесла ни единого слова, а я… Ни за какие блага земные или небесные я бы не смог вымолвить и слога. Ледяным холодом обдало меня с ног до головы, чувство нестерпимого волнения поглотило меня, но душа моя преисполнилась всепоглощающим любопытством, и, вжавшись в спинку стула, я какое-то время сидел не дыша и не в силах пошевелиться или оторвать взгляд от ее застывшей фигуры. Увы! Истощение ее было чрезмерным, и теперь в очертаниях ее фигуры не было ни малейшего изгиба, который напоминал бы о том существе, которым некогда была она. Наконец мой лихорадочный взор пал на ее лицо.
Высокое и очень бледное чело ее было исключительно ясным; некогда черные как смоль, а теперь ярко-желтые волосы, обрамляющие его и оттеняющие бесчисленными локонами впалые виски, своей нестройной буйностью вступали в спор с печатью печали на ее лице. Тусклые, безжизненные, стеклянные глаза ее, казалось, были лишены зрачков, и, увидев их, я невольно содрогнулся, отчего взгляд мой упал на тонкие сморщенные губы. Те разомкнулись, и в особенной, наделенной непонятным мне смыслом улыбке взору моему медленно открылись зубы новой Береники. Господи Боже! Лучше бы я не видел их или, увидев, умер!
* * *
Потревожил меня звук закрывшейся двери, и, подняв глаза, я увидел, что моя кузина покинула зал. Но, увы, растревоженный мой разум не покинул и (я осознавал это) уже не покинет никогда белый жуткий призрак тех зубов. Ни темного пятнышка на поверхности, ни тени на гладкой эмали, ни единой зазубринки по краям – но краткого мига ее улыбки было достаточно, чтобы они врезались в мою память навечно. Сейчас я видел их даже еще более ясно, чем тогда. Зубы!.. Зубы!.. Они были здесь, они были там, я уже не видел ничего, кроме зубов. Они были предо мной, совершенно отчетливо, даже осязаемо; длинные, узкие и абсолютно белые, в обрамлении скорченных бледных губ, точно взор мой застиг первый, жуткий миг их появления на свет. А потом моя мономания обрушила на меня всю свою безудержную мощь, и напрасно я пытался воспротивиться ее странному и неодолимому воздействию. Среди бесчисленного множества вещей, существующих в мире, только те зубы занимали меня. Лишь их одних я желал страстно и безотчетно. Все иные материи и все прочие интересы поглотило единственно их созерцание. Они, лишь они одни, самою сутью превратились в квинтэссенцию моей мысленной жизни. Я рассматривал их при разном свете. Я представлял себе их с разных сторон. Я изучил каждую их линию. Я размышлял над их особенностями. Я постигал их структуру. Я обдумывал различие в природе каждого из них. Я содрогался, когда в мыслях наделял их способностью чувствовать и думать и даже выражать те или иные чувства без помощи губ. О мадемуазель Салле[11]11
Салле, Мари (1707–1756) – знаменитая французская артистка балета и балетмейстер.
[Закрыть] было хорошо сказано: «Que tous ses pas ètaient des sentiments»[12]12
Что каждый ее шаг исполнен чувства. (Фр.)
[Закрыть], а о Беренике я гораздо серьезнее мог сказать: «Que toutes ses dents ètaient des idèes. Des idèes!»[13]13
Что все зубы ее исполнены смысла. Смысла! (Фр.)
[Закрыть] Ах, вот эта глупая мысль и погубила меня! Des idèes! Ах, вот почему я желал их так безумно! Я чувствовал, что лишь обладание ими может меня успокоить, вернув мне разум.
За такими помыслами меня и застал вечер – потом пришла темнота, сгустилась в смоль, снова ушла – и вновь начался день – и уже туманы второго вечера начали сгущаться вокруг – и все так же я сидел без движения в пустынной комнате – и все так же был погружен в раздумья – и все так же находился под жуткой властью phantasma[14]14
Мысленный образ, призрак (лат.).
[Закрыть] этих зубов, ибо они, видимые до отвращения отчетливо, плавали вокруг меня в переменчивых бликах и тенях читального зала. Затем в мои помыслы вторгся крик, подобный воплю ужаса и смятения, а за ним, после недолгой тишины, послышался ропот взволнованных голосов, перемежающихся многочисленными стенаниями, преисполненными скорби или боли. Я покинул место, где сидел, и, распахнув одну из дверей библиотеки, увидел в соседнем покое горничную, всю в слезах, которая поведала мне, что Береники… больше нет! Приступ эпилепсии охватил ее рано утром, и вот под конец вечера могила уже готова принять покойницу, и все приготовления к похоронам закончены.
* * *
Я снова в библиотеке, и снова один. Как будто пробудился от бессвязного и волнительного сна. Я видел, что теперь полночь, и знал наверняка, что на заходе солнца Береника была погребена, однако о том, что было после, за все это скорбное время, я не имел четкого да и вообще никакого представления. И все же память о нем была насыщена ужасом, ужасом оттого ужаснее, что был он неуловим, и страхом, страхом оттого страшнее, что был он неясен. То была пугающая, жуткая страница моего существования, вся измалеванная неясными, отвратительными, неразборчивыми воспоминаниями. Как ни силился я расшифровать их – тщетно; но время от времени призраком утихнувшего звука истошный, пронзительный женский визг слышался мне. Я что-то сотворил… Но что? Я задал себе этот вопрос вслух, и пустынный зал ответил, вторя мне шепчущими отголосками: «Но что?»
На столе рядом со мной горела лампа, а около нее стояла небольшая коробка. Ничего особенного в ней не было, я и раньше ее часто видел, принадлежала она семейному врачу, но как она попала сюда, на мой стол, и почему, когда я ее увидел, меня бросило в дрожь? Этому я не мог дать объяснения, и мой взгляд упал на раскрытую книгу и подчеркнутое предложение на ее странице. То были удивительные, но простые слова поэта Ибн-Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Но отчего, когда я прочитал их, волосы зашевелились у меня на голове и кровь застыла в жилах?
В дверь библиотеки тихо постучали, и в зал неслышно вошел бледный как покойник, лакей. Глаза его были полны безумного ужаса, и обратился он ко мне голосом дрожащим, хриплым и очень тихим. Что сказал он? Я расслышал несколько обрывочных предложений. Он рассказал о диком крике, потревожившем ночную тишину, о том, как слуги собрались в зале, о том, как они пошли туда, откуда слышался крик; а потом голос лакея сделался поразительно отчетливым, когда он зашептал об оскверненной могиле – о скорчившемся теле, окутанном саваном, но все еще дышащем – еще вздрагивающем – еще живом!
Он указал на мое облачение, оказалось, оно было в грязи и пятнах запекшейся крови. Я не промолвил ни слова, и он осторожно взял меня за руку: следы от человеческих ногтей покрывали ее. Он обратил мое внимание на предмет, прислоненный к стене. Несколько минут молча смотрел я на него: то был заступ. А потом я с криком кинулся к столу и схватил коробку. Открыть ее я не смог, но руки мои до того дрожали, что она выскользнула у меня из пальцев, тяжело упала и разлетелась на куски. Из нее со звоном высыпались несколько зубоврачебных инструментов, а вперемежку с ними – тридцать два маленьких белых, точно вырезанных из слоновой кости предмета – они рассыпались по всему полу.