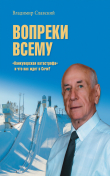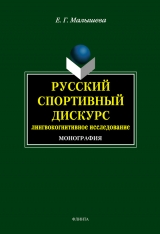
Текст книги "Русский спортивный дискурс: лингвокогнитивное исследование"
Автор книги: Е. Малышева
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Отметим, что в большинстве зафиксированных нами текстов вербализация данного когнитивного стереотипа построена на смысловой оппозиции рационального, объективного, общепринятого – и эмоционального, субъективного, национально специфичного отношения к спортивным победам и поражениям. Высказывания, подобные таким, как «ниже первого для меня мест нет», «унизительнее второго места нет ничего», «для них есть только первое место», «только в нашей стране готовят чемпионов», являются чрезвычайно частотными и повторяющимися в текстах спортивного дискурса, а вербализация оценки самими спортсменами «проигрыша» – «вторых» и «третьих» мест – отличается языковым разнообразием и регулярностью: нам таких (медалей. – Е.М) не надо; все чернее тучи; третье место, конечно, тоже медаль; медаль эту он хоть сейчас спрятал бы в самый дальний угол своего дома. Приведенные контексты изобилуют маркерами негативной оценки «незолотых» медалей как самим спортсменами, так и адресантами журналистского спортивного дискурса, при этом в данной функции могут использоваться и средства косвенного характера – указательные местоимения такой, эта, союз тоже, модальное слово конечно и подобные, в семантической структуре которых актуализируются элементы «плохого качества», «ненужный», «позорный».
✓ Русских в мире спорта боятся и не любят / Русских спортсменов всегда засуживают / Русскому спортсмену, чтобы победить, необходимо быть наголову выше всех остальных
Названный стереотип, без сомнения, соотносится с более общим когнитивным стереотипом, характеризующим наше представление о том, как оценивается наша страна и ее жители в мире: Русских в мире не любят и боятся.
Причина такого отношения, как кажется россиянам, – прежде всего в геополитической роли нашего государства в мире, в специфике истории нашего государства, в том числе и недавней истории Советского Союза.
«У российских болельщиков давно уже сложилось впечатление, что наших не любят и при любом удобном случае засуживают. И это действительно так… Россия воспринимается наследницей Советского Союза. А от советских побед устали» («Раскаленный пьедестал». Документальный фильм, Первый канал, 23.10.2007).
Обращает на себя внимание констатирующий характер высказываний журналиста («И это действительно так») и его обобщающий вывод, в котором спортивная ситуация экстраполируется на восприятие России и Советского Союза вообще.
«…Еще мой папа говорил: «Чтобы побеждать, мы должны быть на две головы выше всех». Очень тяжело – быть на две головы выше…но надо…» («Школа злословия». Татьяна Тарасова. НТВ, 1.09.2008).
Прокомментируем последнее высказывание из интервью Т.А. Тарасовой, которому предшествовала следующая, весьма показательная, на наш взгляд, коммуникативная ситуация: задавая вопрос T.A. Тарасовой о том, правда ли, что «нас засуживают, Россию», ведущая программы А. Смирнова называет это «обывательским мнением» и, увидев протестующую невербальную реакцию собеседника, спрашивает: «Нет? Ерунда?..». В ответ на процитированное суждение тренер Т. Тарасова пытается «развенчать» этот стереотип посредством другого, не менее устойчивого: Россия – великая и сильная страна, в том числе и в спорте.
Приведем ее ответ полностью: «Нет, нет! Никто нас не засуживает...Знаете… Что там говорить?! Кто это нас…будет засуживать? Кто посмеет, я не пойму?!»
Показательно, что аргументации своей позиции, кроме риторических вопросов-восклицаний («Что там говорить?!» и «Кто посмеет?!»), T.A. Тарасова не приводит. Напротив, именно после этих слов она начинает рассказывать о последних примерах засуживания российских фигуристов на последнем чемпионате мира, о сговоре судей против российской пары и т. д. Именно это заставляет ее сделать вывод, который нами процитирован вначале. Кстати говоря, ссылка T.A. Тарасовой на слова ее отца, знаменитого советского хоккейного тренера, позволяет говорить о чрезвычайной устойчивости выделенного нами когнитивного стереотипа и о его объективном характере.
Интересно, что нами обнаружено достаточное количество контекстов, в которых синонимичными вербальными средствами объективирован рассматриваемый когнитивный стереотип:
«Нам, чтобы побеждать, нельзя давать ни малейшего повода, чтобы не зацепились. Надо быть на две головы выше…» (Из интервью Л. Латыниной, многократной чемпионки мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике).
Николай Дурманов: «Все говорят: «Нас не любят». Да не нужна нам ничья любовь, мы сами по себе» (Sport.ru 16.02.09).
Таким образом, можно констатировать, что представление и адресантов, и адресатов спортивного дискурса о том, что к российским спортсменам, как когда-то к советским, в мире относятся необъективно и предвзято, носит устойчивый характер, частотно вербализуется в текстах данного дискурсивного пространства и соотносится с более общими воззрениями россиян на отношение к ним со стороны граждан других стран. Впрочем, заметим, что в некоторых случаях такое отношение – «не любят и боятся» – трактуется как репрезентация признания силы и мощи и российских спортсменов, и страны вообще, а это может становиться предметом особой гордости говорящих:
Ну, на игру с нашей сборной любая команда настраивается особо. Боятся русской хоккейной красной машины. И не зря… (Из репортажа с чемпионата мира по хоккею. Первый канал, 08.05.2009).
✓ Русские спортсмены – «коллективисты» / У русских спортсменов сильнее других развит «командный» дух, чувство коллектива /Для русских спортсменов подвести команду страшнее, чем проиграть, выступая «за себя»
Идеологический лозунг советского периода «Прежде думай о Родине, а потом о себе» с точки зрения авторов книги «Русские: коммуникативное поведение» Ю.Е. Прохорова и И.А. Стернина является «понятным и отражает нравственный идеал русского человека» [Прохоров, Стернин 2006: 100].
«Коллективизм» – это идеологический «принцип общности» советской эпохи, утверждающий превалирование общего над индивидуальным. Однако этот принцип потому и оказался востребованным и воспринятым сознанием русских, что опирался на сущностную, исконную черту русской ментальности – соборность.
Впрочем, Н.А. Бердяев противопоставлял понятия «коллективизм» и «соборность», считая, что коллективизм – это сборностъ, он носит механистический рациональный характер и «не знает ценности личности» [Бердяев 1995: 332–334], в то время как «превращение дальних в ближних и есть преображение коллективизма в соборность» [Колесов 2007: 474].
Вообще содержание понятия соборность было и остается предметом дискуссий философов, культурологов, лингвистов (см. об этом [Колесов 2007: 473]), однако очевидно, что оно состоит во «взаимонеобходимости» индивида и коллектива [Лотман 1992: 10–11], в «общинности, коллективности сознания и бытия как национальном приоритете» [Прохоров, Стернин 2006: 100], наконец, «просто в любви к России», по выражению религиозного философа В. Розанова.
Современными исследователями соборность трактуется как «структурный элемент русского национального характера» [Киреев 2009: 2], суть которого в базовом принципе – «единство во множестве», а целью и средством реализации данного принципа является «бескорыстная любовь» [Там же: 3].
Выделяя один из самых частотно репрезентируемых в спортивном дискурсивном пространстве когнитивных стереотипов Русские спортсмены – «коллективисты», мы подразумеваем под ним как раз более глубинный смысл, нежели тот, что традиционно вкладывается в понятие «коллективист», а именно: русского спортсмена отличает соборность, его индивидуальность и талант прежде всего раскрывается в коллективе, в общине людей, связанных одним делом; над русским спортсменом всегда довлеет приоритет коллективных, общих целей над личными, индивидуальными; русский спортсмен должен ставить на первое место интересы коллектива, команды; русский спортсмен черпает силы в осознании того, что он часть огромной общности – своей страны, России.
Заметим, что репрезентация данного стереотипа происходит в разных видах спортивного дискурсивного пространства и отличается жанровым и языковым разнообразием, отражая специфику представлений субъектов спортивного дискурса (журналистов, спортсменов, тренеров) об истоках российских побед, об идеологических приоритетах, наконец, о собственной ментальности.
Приведем примеры текстовых реализаций названной когнитивной единицы:
В. Третьяк: «У нас… нея…я…я…а наша команда… и это правильно».
В. Быков: «Мои ребята…нельзя говорить «мои»…Наши ребята будут биться за свою Родину. Потому что мы команда…и они будут биться за свою Родину. И это правильно…».
В.Фетисов, хоккеист сборной СССР: «Простая формула: честь флага, который мы защищаем, и взаимопонимание» (Документальный фильм «Вячеслав Быков. «В атаку!», Первый канал, 14.02.2010).
Ковальчук П., капитан сборной России по хоккею: У нас (в сборной России по хоккею. – Е.М.) была одна большая семья на чемпионате мира в команде…Поэтому мы и выиграли…У нас был очень дружный коллектив (Телепрограмма «Сборная России. А. Морозов и И. Ковальчук», телеканал «Спорт», 01.06.08).
Типичными схематизированными языковыми формулами, в которых вербализуется рассматриваемый стереотип, являются словосочетания «биться за Родину», «бороться за честь флага», а также неизменно называемые как главное условие побед – «взаимопонимание», «дружный коллектив», «наша команда», «большая семья».
Кстати говоря, В.В. Колесов отмечает, что для В. Розанова именно семья как средоточие традиционных семейно-родовых отношений и есть «семейная соборность» [Колесов 2007: 475].
Любопытно также, что во многих текстах, которые репрезентируют изучаемый стереотип, воплощена базовая оппозиция «я – мы», связанная с понятием соборность. Однако языковая реализация этого сущностного противопоставления претерпевает изменения, связанные со спецификой спортивной сферы: я – мы, я – команда, я – Россия:
В.Фетисов: «Ребята играли за то, что впереди (показывает на майку с надписью «Россия». – Е.М.) и забыли о том, что сзади (сзади на майке написано имя хоккеиста. – Е.М.)…[в полуфинале]…выиграл коллектив, выиграла команда…» (Дневник чемпионата мира по хоккею, телеканал «Спорт», 17.05.08).
Именно способность «отодвинуть» на второй план индивидуальное ради общего дела, со-причастность с большой страной, с народом этой страны и ощущение, что он часть этой общности, придает русскому спортсмену силы, добавляет некий высший смысл его действиям и оправдывает его усилия:
Ковальчук И.: Я бросился (после гола, давшего надежду на победу в финале чемпионата мира. – Е.М.) к трибунам, где наш родной флаг…А куда еще? (Телепрограмма «Сборная России. А. Морозов и И. Ковальчук», телеканал «Спорт», 01.06.08).
Играть за свою страну для хоккейных миллионеров действительно почетно… («Неделя» с Марианной Максимовской, телеканал «Рен-ТВ», 24.05.08).
Риторический вопрос, прозвучавший в интервью И. Ковальчука в ответ на вопрос журналиста о том, почему хоккеист после самого важного в матче гола бросился на стеклянное заграждение перед трибунами, демонстрирует существование прежде всего у самого хоккеиста устойчивых представлений о том, что мы констатировали выше: он борется не для себя, не за себя, а за коллектив, вернее, за коллективы, общности – команду и свою страну, считая себя частью большого целого.
Заметим, что подобные стереотипные представления частотно эксплицируются и в телевизионных текстах рекламного дискурса, связанных со спортивной тематикой, авторы которых очевидно опираются на базовые, приоритетные элементы массового сознания:
Двадцать четвертая победа «Красной машины»: фантастический финал. Играть за друга, друг за друга и для России (Реклама на телеканале «Спорт» («Россия-2»): озвученные надписи на экране, музыкальный фон – песня «Варяг», видеоряд – победные кадры финала чемпионата мира по хоккею).
Показательно следующее: приведенный выше креолизованный текст, в котором, за счет использования текста и музыки песни «Варяг», происходит «наложение» понятий «Спорт» и «Война», «Играть» и «Воевать», содержит вербальную формулу «спортивной соборности», которой противоречил бы словесный компонент «за себя»: играть за друга, друг за друга и для России.
Таким образом, нам кажется очевидным, что один из основополагающих принципов русской ментальности находит свое отражение в спортивном дискурсивном пространстве, своеобразно преломляясь в нем, но не теряя при этом своего исконного содержания.
1.3.2. Идеологема 'Олимпиада 2014' в спортивном дискурсе: языковая репрезентация с опорой на национальные культурные кодыЗавершить описание этнокультурной специфики универсальной идеологемы «Спорт», репрезентированной в базовых когнитивных стереотипах, хотелось бы анализом своеобразной экспликации в современном спортивном дискурсе концепта «Олимпиада 2014», когнитивная структура которого позволяет говорить о нём как об общеупотребительной современной идеологеме.
На наш взгляд, анализируемый концепт изначально характеризовался как идеологический феномен со смешанным аксиологическим модусом, по-разному понимаемый носителями языка в связи с их политическими, идеологическими взглядами на специфику современного социально-экономического положения России.
Так, несмотря на то что в начале своей речи-заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи президент России В.В. Путин особо подчеркивал, что «эта заявка воспринята с огромным энтузиазмом всей Россией» и что «миллионы граждан России объединены олимпийской мечтой» (Речь В.В. Путина на сессии МОК в Гватемале, 04.07.2007), на самом деле идея проведения зимней Олимпиады в Сочи крайне неоднозначно оценивалась представителями разных слоев российского общества.
В качестве доказательства справедливости данного утверждения проанализируем фрагмент статьи А. Колесникова, опубликованной в газете «Коммерсантъ» (№ 116(3692) от 05.07.2007), в которой заданная автором ироническая тональность повествования о выборах столицы Олимпиады 2014 года и повышенная оценочность текста эксплицируют соответствующее отношение к самой идее проведения Олимпиады в условиях современной России:
«Он (Путин. – Е.М.) закончил на французском, вкратце повторив участникам сессии, что их решения ждут миллионы россиян. Надеюсь, это не прозвучало как угроза…
…Председатель правления российского заявочного комитета Елена Аникина поподробнее рассказала о русской душе (этот международный термин эксплуатировался на презентации особенно беспощадно): – «Русская душа» сформировалась как сочетание уникального географического положения нашей страны и ее многовековой истории… На нее оказало влияние и волшебная, мистическая русская зима! Сердца русских наполнены сентиментальностью, прагматизмом и щедростью! Мы научились полагаться друг на друга, чтобы пережить долгую русскую зиму… Мы научились доверять друг другу. Доверие – основа любых отношений… Ия могу заверить вас, дамы и господа, что вы можете доверять России и положиться на нее в том, что она примет эти игры на высшем уровне. Вы можете положиться на нашу русскую душу! Вот тут я на месте членов МОК был бы поосторожнее».
Авторская позиция по отношению к описываемому событию вербализуется в своеобразных «ремарках» (Надеюсь, это не прозвучало как угроза; Вот тут я на месте членов МОК был бы поосторожнее), которые характеризуют иронический настрой адресанта относительно преимуществ идеи проведения Олимпиады в России, среди которых на первое место ставилось желание «миллионов россиян» принять у себя Олимпиаду и опора на пресловутую «русскую душу», иронично названную А. Колесниковым «международным термином».
Однако в связи с тем, что политическая и идеологическая значимость идеологемы "Олимпиада 2014" чрезвычайно высока и что названный феномен сегодня коррелирует со все возрастающей идеологизированностью сферы спорта вообще, адресанты как спортивно-идеологического, так и политического дискурсов предпринимают адекватные усилия, чтобы восприятие базовых и периферийных слоев идеологемы "Олимпиада 2014" было одинаковым для всех носителей языка и характеризовалось безусловно положительным аксиологическим модусом в массовом сознании россиян.
Средством формирования соответствующих, еще не сложившихся до конца представлений относительно исследуемого когнитивного феномена стала своеобразная рекламная кампания в поддержку сочинской Олимпиады, которая получила «говорящее» название «Моя Олимпиада».
Начало этой кампании положило создание и многократное тиражирование в эфире рейтинговых телевизионных каналов (Первый канал, «Россия», «Россия-2») двух объединенных семантически, композиционно и стилистически социальных роликов под общим «рабочим» названием «Мы такие», посвященных Олимпийским играм 2014 года в Сочи, содержание и идеологическая составляющая которых позволяет отнести их к текстам спортивно-идеологического дискурса.
Основной задачей данных креолизованных текстов[71]71
О специфике такого рода текстов и аспектах их изучения см., например, в [Ворошилова 2006], [Ворошилова 2007] и мр. др.
[Закрыть] мы считаем воздействие на массового адресата с целью формирования позитивного отношения к проведению Олимпийских игр-2014 на территории нашей страны.
Заметим сразу, что концептуальной «основой» настоящих телевизионных текстов являются базовые, доминантные когнитивные стереотипы, культурные сценарии, модели поведения, представляющие собой, на наш взгляд, единицы национального культурного кода[72]72
В настоящей работе под этническим (национальным) культурным кодом понимается «определённая совокупность знаний о культуре данной языковой общности. Эти знания существуют в свёрнутом виде, включая в себя национальный предметный код. В культурный код входят: этническая картина мира, лингвально-национальное мировоззрение, базирующееся на истории общества, его стереотипах, традициях, нравах, шкале оценок, культурных ценностях. Единицы культурного кода номинируются ментальными, языковыми или предметными знаками» [Шаховский 2008: 118]. К кодовым единицам, или ключам кода, относятся не только вербальные элементы (имена собственные, имена нарицательные, фразеологизмы, паремии цитаты, афоризмы и т. п.), но и авербальными (предметными – природными и артефактными), а также ментальными (стереотипы, нравы, обычаи, традиции, обряды, ритуалы, ценностные ориентации, оценочные стандарты, типические представления, культурные сценарии и др.) (выделено мной. —Е.М.) [Шаховский 2008: 118].
[Закрыть]. Названные культурные «ключи» отражают стереотипные, национально специфичные представления россиян (русских) об их менталитете, об особенностях русского характера, русской души. Использование доминантных «ключей» культурного кода, которые «обладают культурными смыслами, значениями, коннотациями и ассоциациями, соотносящимися с определёнными культурными референтами» [Шаховский 2008: 118], и их репрезентация в креолизованном тексте посредством знаков разных семиотических систем позволяет адресантам спортивно-идеологического дискурса добиться чрезвычайно сильного перлокутивного эффекта и оказать суггестивное воздействие на массового адресата.
Еще раз подчеркнем, что названные единицы эксплицированы в «концентрированном» виде и во всех элементах рассматриваемых креолизованных текстов, таких как закадровый текст, изображение, звуковое сопровождение.
Если оперировать терминологией У. Эко, то можно описать «стратегию» адресантов следующим образом: они избирают такую заранее «просчитанную» систему разного типа кодов и субкодов телетекста, которая безусловно коррелирует с существующей у адресата «культурной рамкой» – идеологией (У. Эко) – т. е. «суммой знаний получателя информации, его идеологических, этических, религиозных убеждений, психологических установок, вкусов, системы ценностей» [Эко 1998]. Более того, коммуникативные тактики и ходы, избираемые авторами анализируемых креолизованных текстов, очевидно апеллируют к чувствам адресатов, их эмоциям, а не к их разуму, рациональному отношению к описываемому объекту, что также вписывается в систему стереотипных представлений о русских как о нации, ментальность которой «не есть ratio» [Колесов 2007: 62–63][73]73
В.В. Колесов цитирует Ивана Киреевского, который отмечал, что «односторонняя рассудочность западной линии» невозможна для русских, у которых преобладает «стремление к любви, а не к выгоде» (выделено мной. – Е.М.) [Колесов 2007: 63].
[Закрыть].
Вербальная составляющая анализируемых креолизованных текстов характеризуется достаточной самостоятельностью, ее содержание практически не нуждается в аудио-визуальной «поддержке»:
(Первый ролик. Голос В. Познера за кадром) «Мы люди крайностей. Мы трудно зарабатываем на севере и легко тратим на юге. Мы ездим по бездорожью так же хорошо, как и по дорогам. У нас даже Новый год может быть Старым. Когда мы занимаем места, то на всех, когда мы выигрываем – это надолго. Мы встречаем так, что с нами уже не расстаться. Мы проводим зимнюю Олимпиаду там, где вся страна отдыхает летом. У нас не получится обыкновенно: это будет Великая Олимпиада. Олимпиада всей страны. Олимпиада каждого. Поехали».
(Второй ролик. Голос В. Познера за кадром) «Мы люди крайностей. Мы даже в космосе первые на Земле. У нас слабость может быть силой. Мы можем все понимать без слов. Мы проигрываем так же красиво, как и выигрываем. Мы любим таким, какой есть. Мы верим в себя так, что заставляем поверить в себя других. У нас не получится обыкновенно: это будет Великая Олимпиада. Олимпиада всей страны. Олимпиада каждого. Поехали».
Итак, еще раз подчеркнем, что приведенные выше тексты представляют собой вербальный компонент («лингвистический код», в терминологии У. Эко[74]74
Обосновывая принципы семиотического анализа телевизионного сообщения, У. Эко определяет код как «системы коммуникативных конвенций, парадигматически соединяющих элементы, серии знаков с сериями семантических блоков (или смыслов), и устанавливающих структуру обеих систем: каждая из них управляется правилами комбинаторики, определяющим порядок, в котором элементы (знаки и семантические блоки) синтагматически выстроены» [Эко 1998]. Автор утверждает, что на сериях вербальных и невербальных кодов и субкодов, которые появляются в процессе создания и интерпретации телевизионного сообщения, основаны различные уровни смысла [Эко 1998].
[Закрыть]) креолизованных текстов, в которых невербальный компонент представлен «иконологическим» визуальным компонентом, видеорядом, и аудиальным компонентом (в терминологии У. Эко – «эмоциональным субкодом – разновидностью звукового кода»).
Значения всех вышеназванных элементов, взаимодействуя, интегрируются и «образуют сложно построенный смысл» [Анисимова 2003].
Вербальные компоненты, как и видеоряд, на наш взгляд, представляют собой элементы некоторого содержательного и композиционного единства, организованного повтором сильных позиций вербальной и визуальной составляющих – начала и конца текста.
Анафорический (Мы люди крайностей) и эпифорический (У нас не получится обыкновенно: это будет Великая Олимпиада. Олимпиада всей страны. Олимпиада каждого. Поехали) повторы в сочетании с синтаксическим параллелизмом основных частей приводит к смысловой целостности двух креолизованных текстов, которые связаны отношениями комплементарности.
Кроме того, семантическое единство данных креолизованных текстов поддерживается и тождественным для них аудиальным компонентом: в качестве эмоционального субкода используется лирическая, возвышенная по звучанию и экспрессивно воздействующая музыкальная тема композитора Э. Артемьева к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Чрезвычайно важным и «знаковым» и с точки зрения обеспечения целостности текста, и – главное – с точки зрения перлокутивного эффекта нам кажется выбор узнаваемого «голоса за кадром»: текст читает В. Познер – телевизионный ведущий, который, согласно проведенным исследованиям (см. об этом в [Трегубова 2003: 170–171], [Матвеева, Аникеева, Мочалова 2004: 216–233]), по таким показателям, как «вызывает доверие; сильная личность; умный; имеет высокий социальный статус; верит в то, что говорит; убеждающий» [Трегубова 2003: 171], намного опережает своих коллег. Таким образом, именно используемая В.Познером модель речевого поведения, подкрепленная на лексическом уровне данного текста многократным использованием местоимений первого лица («мы», «у нас»), является оптимальной для воздействия на аудиторию и для изменения мнения адресатов.
Говоря о содержательном и композиционном своеобразии исследуемых креолизованных текстов, необходимо заметить следующее.
Оба варианта вербальных (и – вслед за ними – визуальных) компонентов текстов организованы посредством композиционно и концептуально значимой антитезы, которая задается первой фразой: Мы люди крайностей.
Данное высказывание, думается, весьма многозначно, оно призвано рождать у адресата большое количество ассоциаций, связанных с теми или иными ментальными автостереотипами – ключами национального кода. Например такими: мы, русские, – люди парадоксов, наши мысли и чувства «умом не понять» и «аршином общим не измерить»; мы уникальны в своей непохожести на другие народы; лучшие свои черты мы проявляем в экстремальных ситуациях; у нас «широкая душа» и «большое сердце», особенности нашей натуры не поддаются рациональному объяснению.
Примечательно, что в качестве визуального компонента авторы текста избирают следующий: изображение девочки, которая показывает на карте территорию России, демонстрируя ее протяженность с запада на восток, от одного «края» к другому[75]75
Напомним в связи с этим, что в [Гусейнов 2005] собственно картографическое изображение России трактуется как идеологический элемент.
[Закрыть].
«Наложение» узуального значения лексемы «крайность»[76]76
«Крайность – крайняя степень чего-нибудь, чрезмерное проявление чего-нибудь» [Ожегов, Шведова, 1995: 296].
[Закрыть], ее контекстного смысла (люди крайностей – люди парадоксов, люди непредсказуемые, нерациональные) и семантики видеометафоры, позволяющей актуализировать этимологическую связь существительных «крайность» и «край» и «навести» еще один концептуально важный семантический элемент – «простор», «пространство», задает «когнитивный вектор» восприятия креолизованного текста адресатом.
Последующие текстовые составляющие семантически «разворачивают» базовую антитезу, придавая ее содержанию необходимый семантический объем, глубину и детализацию. Оппозиция при этом репрезентирована на всех уровнях текста: в вербальной составляющей – на лексическом, синтаксическом, интонационном уровнях, в визуальной – на противопоставлении видеоряда.
Характерно при этом, что оба текста строятся по принципу дедукции и композиционно делятся на три части.
Первая часть (4 предложения первого текста и 2 предложения второго текста) может быть названа общей, она никак не соотнесена со спортивной тематикой.
В ней эксплицированы стереотипные представления россиян о себе, и они подтверждены всем понятными, концептуально «просчитанными» примерами собственно российских реалий, традиций и исторических событий, которые отмечены для носителей языка безусловно положительными коннотациями: Мы трудно зарабатываем на севере и легко тратим на юге. Мы ездим по бездорожью так же хорошо, как и по дорогам. У нас даже Новый год может быть Старым //Мы даже в космосе первые на Земле.
На наш взгляд, очевидно, что адресанты используют предметные и ментальные кодовые единицы («ключи»), которые позволяют добиться соответствующего перлокутивного эффекта и оказать необходимое воздействие на массовое сознание.
Вторая часть обоих текстов может быть охарактеризована как собственно спортивная, при этом спортивная тематика в ней поддерживается прежде всего визуальным компонентом, поскольку собственно вербальная составляющая оставляет достаточный простор для ассоциаций разного рода, не обязательно спортивных: Когда мы занимаем места, то на всех. Когда мы выигрываем – это надолго. Мы встречаем так, что с нами уже не расстаться. Мы проводим зимнюю Олимпиаду там, где вся страна отдыхает летом // У нас слабость может быть силой. Мы можем все понимать без слов. Мы проигрываем так же красиво, как и выигрываем. Мы любим таким, какой есть. Мы верим в себя так, что заставляем поверить в себя других.
Впрочем, и здесь следует констатировать: из достаточного количества визуальных компонентов авторы текста выбирают те, которые будут однозначно поняты и интерпретированы носителями языка, в силу общности их коллективной когнитивной базы и единства ценностных ориентаций, оценочных стандартов, типических представлений, наконец, знаний о базовых культурных сценариях.
Так, вербальный компонент Когда мы занимаем места, то на всех иллюстрируется значимым изображением трех российских флагов, взмывающих над стадионом, и трех российских теннисисток, занявших весь пьедестал на Олимпиаде 2008 года в Пекине.
Вербальный компонент Когда мы выигрываем – это надолго сопровождается кадрами выступления Ирины Родниной и Александра Зайцева и показом плачущей на пьедестале Ирины Родниной, имя которой, как мы уже подчеркивали, является идеологемой-архетипом для русского национального сознания, а победы которой – символом могущества советского спорта. Наконец, вербальный компонент Мы встречаем так, что с нами уже не расстаться сопровождается историческими кадрами улетающего в московское небо Мишки – символа Олимпиады-80 – и вытирающей слезы зрительницы на трибуне.
Лексико-семантическое эксплицитное противопоставление контекстных и языковых антонимов (трудно-легко, север-юг, зарабатываем – тратим, новый – старый, в космосе – на земле, слабость – сила, понимать – без слов, встречаем – расстаться, проигрываем – выигрываем) позволяет «считать» имплицитное противопоставление мы – другие, в котором актуализируются ассоциативные семы «наши», «свои» – и «чужие».
Итак, отношения между вербальным и изобразительным (визуальным) компонентами в общей части креолизованных текстов (кроме первого предложения) выстроены по «комплементарному» принципу, когда «содержание невербальной и вербальной частей частично перекрывает друг друга» [Sauerbier 1978: цит. по: Чудакова 2005: 186], причем определяющая роль здесь отводится вербальному компоненту.
Концептуальной доминантой собственно спортивной части данных текстов является, на наш взгляд, их визуальная составляющая, которая актуализирует спортивную направленность семантики вербального компонента и задает вектор его интерпретации. В классификации С.Д. Зауэрбир такое отношение между компонентами креолизованного текста названо «интерпретативным», то есть таким, когда «между содержанием вербальной и невербальной частей нет прямых точек соприкосновения, и эта связь устанавливается на ассоциативной основе» [Sauerbier 1978: цит. по: Чудакова 2005: 186].
Впрочем, использование семантически «размытого» вербального компонента кажется нам не только оправданным, но и далеко не случайным: в вербальных компонентах этих текстов продолжается объективация национально специфических реалий, только теперь уже не предметного – событийного, бытового или артефактного, а сущностного, онтологического, ментального свойства. На наш взгляд, в вербальных составляющих второй части текстов репрезентированы черты национального характера, которые объективируются в видеоряде сквозь призму спорта.
Третья, резюмирующая, часть текстов представляет собой, как мы уже подчеркивали, анафорический повтор следующего вербального компонента: У нас не получится обыкновенно: это будет Великая Олимпиада. Олимпиада всей страны. Олимпиада каждого. Поехали».
В качестве прагмастилистических средств выразительности в этой части использованы приемы, характерные для современного публицистического дискурса: градация, усиленная лексическим повтором-подхватом ключевого слова (Олимпиада), семантическая оппозиция контекстных антонимов обыкновенно – великая, всех – каждого, отсылка адресата к прецедентному высказыванию («Поехали!» – слова космонавта Ю. А. Гагарина, ставшие для носителей языка, с одной стороны, символом открытия нового, неизведанного, символом побед планетарного масштаба, а с другой – символом открытости, простоты и красоты русского характера).
Содержательно финальный вербальный компонент текстов чрезвычайно насыщен: в семантической структуре атрибутива великая в результате контекстного сближения и тождества синтаксической позиции актуализируются ассоциативные семы «наша», «российская», в результате чего адресат должен сделать соответствующие выводы и поверить: эта Олимпиада – наша, а значит, и моя; эта Олимпиада объединяет всех россиян, независимо от места жительства и социального статуса; только русские смогут провести Великую Олимпиаду, поскольку у них, в силу особенностей менталитета, характера, иначе не получится; наконец, чтобы у нас получилась Великая Олимпиада, мы должны начать трудиться всем миром («Поехали!»).