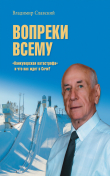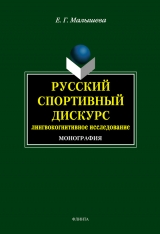
Текст книги "Русский спортивный дискурс: лингвокогнитивное исследование"
Автор книги: Е. Малышева
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
4. Концептуальный анализ дискурса: методология и операциональные единицы исследования
4.1. Обоснование актуальности лингвокогнитивного описания дискурсаНесомненно, что «трактовка дискурса, построение модели дискурса, выделение его параметров и индикаторов, стратегия дискурс-исследования в значительной степени зависят от подхода, от методологической «рамки», или же – от парадигмы, в контексте которой проектируется исследование» [Кожемякин 2009 URL: http://www.discourseanalysis.org].
В современной отечественной и зарубежной традиции, как уже подчёркивалось ранее, выработано достаточное количество методов и методик дискурс-анализа[21]21
См. об этом [ванн Дейк 1994], [Чернявская 2001], [Чернявская 2003], [Гаврилова 2004], [Баранов 2008], [Будаев, Чудинов 2006], [Будаев, Чудинов 2007], [Кожемякин 2009], [Переверзев 2009], [Филлипс, Харди 2009], [Grant, Keenoy, Oswick 1998], [Wood, Kroger 2000] и мн. др.
[Закрыть] разного типа, предложены модели описания отдельных типов дискурсов.
Впрочем, мы склонны согласиться с Е. А. Кожемякиным, который, проанализировав четыре подхода к дискурс-анализу (формальный, прагматический, критический и структурно-функциональный), констатирует, что «дискурс-анализ мыслился и продолжает мыслиться в академических кругах как новая аналитическая перспектива исследования условий производства культуры, социальных отношений, идентичности, знания. В связи с этим перед исследователями стоит задача как унификации понятия дискурса, так и уточнения модели дискурсного анализа» [Кожемякин 2009 URL: http://www.discourseanalysis.org].
При этом методологические трудности объективного характера, связанные с дискурс-анализом, обусловлены тем, что он не является «просто методом», а «представляет собой подход к изучению природы языка в связи с центральными концептами социальных наук» [Wood, Kroger, 2000. Цит по: Кожемякин 2009 URL: http://www.discourseanalysis.org].
Всё вышесказанное в данной главе свидетельствует о том, что, во-первых, традиция монографического описания определённого типа дискурса в лингвокогнитивной парадигме находится в стадии активного становления[22]22
См. об этом, например. [Будаев, Чудинов 2007: 24–26], [Панкратова 2005: 3] и мн. др.
[Закрыть], а во-вторых, что коммуникативно-прагматический подход к анализу дискурса в отечественной лингвистике пока является преобладающим.
Тем не менее вопрос о релевантности именно когнитивно-дискурсивной парадигмы исследования дискурса, об описании дискурса в соответствии со схемой «от смысла – к форме», «от когнитивной специфики дискурса – к дискурсивному (в том числе языковому) своеобразию ее воплощения» сегодня является одним из самых актуальных в лингвоконцептологии и дискурсологии, поскольку, с одной стороны, «динамичность как свойство концепта заключается в дискурсивно-коммуникативной обусловленности его реализации в дискурсе» [Олешков 2009: 70], ас другой – именно своеобразие системы концептуальных доминант, объективированных в дискурсивном пространстве, позволяет сделать адекватные выводы о специфике изучаемого типа институционального дискурса.
Исследователь Ли Же справедливо замечает: «…важно найти основной метод исследования [дискурса. – Е. М.]… этим главным методом является концептуальный анализ… Концепт зависит от цели, стратегии, социального пространства дискурса. И поэтому анализ определенного дискурса должен открываться анализом его ключевых концептов» [Ли Же URL: http: // work-inggroup.org.ua / publdzo.shtml.].
Разумеется, описание картины мира, репрезентированной в дискурсе невозможно без учёта специфики языковой личности, и поэтому логическим продолжением лингвокогнитивного исследования дискурса мы считаем анализ когнитивно-дискурсивной деятельности базовых субъектов дискурсов институционального типа. Целью такого исследования становится моделирование дискурсивной языковой личности, специфика которой, с одной стороны, определяется дискурсивными факторами, но с другой – детерминируется личностными особенностями адресанта (субъекта) дискурса.
Сказанное чрезвычайно актуально для большинства институциональных дискурсов, и в том числе для спортивного, поскольку языковая личность спортивного журналиста / спортивного телевизионного комментатора – это многоплановый феномен, конституирующие черты которого репрезентативны в том числе и при описании жанровой и речежанровой специфики дискурса.
Для нас очевидно, что прежде всего объектом исследования при описании любого дискурсивного пространства должна становиться дискурсивная разновидность, которая характеризует ядро дискурсивного пространства и отличается институциональностью.
В спортивном дискурсе в качестве ядра нами выделен спортивный журналистский дискурс. При этом нерелевантным в нашем исследовании оказывается параметр соотнесенности этого дискурса с тем или иным каналом передачи информации – печать, телевидение, интернет, в том числе по той причине, что массмедийность в принципе является одним из определяющих критериев данной дискурсивной разновидности.
Логика нашего исследования и определённые нами подходы к специфике структурирования спортивного дискурса приводят нас к необходимости детального анализа тех дискурсивных разновидностей, в которых репрезентировано представление об идеологической составляющей спортивной коммуникации, поскольку именно в этой сфере наиболее полно репрезентируется современная специфика представлений о спорте как о социальном институте, о спорте как о важнейшей части культуры и идеологии.
Действительно, многие формальные и содержательные параметры спортивного дискурса несут в себе определенные идеологические и культурологические характеристики: «Про весьма значительную часть спортивной тематики в СМИ можно сказать: это не про спорт, это про англичан и шотландцев, про локальные и региональные идентичности, про столицы и сельскую местность, про классы, пол, расу и этничность» [Блейн, Бойл 2005: 464].
Добавим к процитированному, что культурологические (включая и идеологические, политические) характеристики феномена Спорт репрезентируются с высокой степенью частотности как в текстах спортивных журналистов, комментаторов, аналитиков, так и в речи спортсменов, тренеров и спортивных чиновников, политических и государственных деятелей.
В текстах такого рода реализуется определенная коммуникативная цель
– репрезентация идеологических признаков концептуальных доминант ("Спорт", "Победа", "Патриотизм", "Спортсмен", "Олимпиада" и под.) дискурса и формирование определённых представлений о них в сознании массового адресата.
Коммуникативная интенция, ценностные характеристики, тип адресанта, специфический набор избираемых стратегий и тактик речевого воздействия, а также прагмастилистических средств реализации концептуальных доминант позволяют в этом случае говорить о корреляции спортивного дискурсивного пространства с идеологическим, политическим, публицистическим дискурсами.
4.2. Когнитивный стереотип как операциональная единица лингвокогнитивного описанияВ. В. Красных, рассуждая о понятии «русское культурное пространство», подчёркивает, что в него входит «всё многообразие знаний и представлений носителей русского ментально-лингвального комплекса», а также «стереотипы (стереотипы-образы и стереотипы-ситуации) и культурно значимые фреймы» [Красных 2003: 69].
Говоря об опорных, системообразующих концептах дискурсов институционального типа, в том числе спортивного, мы не раз подчёркивали, что в широком смысле практически каждый концепт такого рода обладает культурологической спецификой, которая включает и специфику национальную, определённую факторами и внелингвистического, и собственно языкового порядка.
Таким образом, особое значение приобретает культурологический анализ дискурса, о котором Е. В. Переверзев пишет следующее: «В процессах ежедневных жизненных практик люди «осуществляют» культуру, производят, воспроизводят, трансформируют и приспосабливают её элементы. Возникающая в результате этого производства реальность (Я, индивидуальная, национальная, гендерная индентичность и т. д.) представляет собою, прежде всего, культурный конструкт» [Переверзев 2009 URL: http://www.discourseanalysis.org].
На наш взгляд, «инструментом», операциональной единицей анализа культурологически, идеологически и национально релевантных компонентов базовых многоуровневых концептов дискурса является когнитивный (ментальный) стереотип, а методика выявления и описания такого рода когнитивных феноменов может стать весьма продуктивной в подобных исследованиях.
Вообще феномену стереотипизации мышления, сознания и языка посвящено достаточное количество современных гуманитарных исследований.
Стереотипные единицы находятся в фокусе внимания психологов, социологов, философов, культурологов и, наконец, лингвистов[23]23
Cм., например: [Кон 1966], [Карбовский 1984], [Агеев 1990], [Прохоров 1996], [Мельник 1996], [Меренков 2001], [Красных 2002] и мн. др.
[Закрыть].
В связи с изучением стереотипов, прежде всего когнитивных, чрезвычайно актуальным оказывается многоплановое понятие национального менталитета, который «в широком смысле… понимается как образ мыслей, система навыков и установок различных социальных групп» [Вепрева 2002: 207], как «национальный способ восприятия и понимания действительности, определяемый совокупностью когнитивных стереотипов нации» [Прохоров, Стернин 2006: 92].
Менталитет нации, как подчеркивают упомянутые выше исследователи, обнаруживается в «определенной стандартности поведения, действий представителей этнической группы в сходных ситуациях, а также в общении, в коммуникативном поведении народа» [Прохоров, Стернин 2006: 92].
В связи со сказанным выше уместно процитировать А. А. Леонтьева, который утверждает, что «в основе мировидения и мировосприятия каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем» [Леонтьев 1993: 20].
Добавим, что национальный менталитет и «этническая обусловленность» мировосприятия, на наш взгляд, обнаруживает себя в том числе в некоторой стандартности и однотипности представлений и, следовательно, суждений, касающихся различных аспектов жизни и деятельности человека, оценки событий и фактов как исторического, так и современного характера: «ментальность устойчива, она… восходит к бессознательным глубинам психики. Захватывая бессознательное, ментальность выражает устойчивые образы мира, свойственные данной культурной традиции, данному обществу» [Вепрева 2002: 207].
Кроме того, национальный менталитет проявляется, по нашему мнению, и в оценке значимости или незначимости тех или иных сфер человеческой деятельности представителями национально-лингво-культурного сообщества.
Как уже было сказано выше, понятие «когнитивный (ментальный) стереотип» неразрывно связано с понятием «концепт»: именно в стереотипах отражается «интерпретация» тех или иных базовых концептов, которая задается всей совокупностью бытовых, социально-экономических, социально-политических, исторических, природных, этнических, культурологических факторов.
Итак, концепты и их стереотипные интерпретации и составляют по сути национальную когнитивную картину мира [Прохоров, Стернин 2006: 92], и в этом смысле когнитивные стереотипы, наряду с концептами, могут рассматриваться в качестве концептуальных доминант дискурсов институционального типа и определять их когнитивную специфику.
В лингвистической науке существует достаточное количество определений когнитивного (ментального) стереотипа, и во всех имеющихся дефинициях так или иначе подчеркиваются базовые, дифференциальные признаки исследуемого феномена.
Когнитивный (ментальный) стереотип формируется на когнитивном уровне как устойчивое типизированное представление о действительности или её элементе (предмете или ситуации) с позиций обыденного массового сознания [Маслова 2001: 109–110], мифологического по своей сути.
Когнитивный стереотип – это «содержательная форма кодирования и хранения информации» [Красных 2002: 23], «некий устойчивый фрагмент картины мира, хранящийся в сознании» [Вепрева 2002: 206]. Он характеризуется, по мнению исследователей, относительной устойчивостью и повторяемостью, схематичностью, стандартизированностью, однозначностью, массовостью, оценочностью, национально-культурной спецификой.
Если задаться вопросом о существовании вненациональных когнитивных стереотипов (например, связанных с феноменами мужчина и женщина, мать и отец, ребенок, родители и т. д.), то можно предположить, что многие из них в целом обладают относительной универсальностью (.Родители должны любить своих детей и воспитывать их; ребенок должен слушаться родителей и пр.), хотя и в этих стереотипах обязательно обнаружатся этноспецифические черты, обусловленные своеобразием историко-культурологических, социально-экономических, политических и религиозных характеристик государства, нации, этноса.
Таким образом, утверждая, что «сознание человека всегда этнически обусловлено» [Леонтьев 1993: 20], можно, по-видимому, говорить и о том, что практически любой когнитивный стереотип, который «интерпретирует» содержательную структуру концептов, обладает – в большей или меньшей степени – этнокультурной спецификой, проявляющейся в отражении особенностей мировидения и мировосприятия национально-лингво-культурного сообщества.
Думается, однако, что вовсе не в каждом дискурсивном пространстве названные когнитивные феномены эксплицируются так явно и частотно и с таким языковым разнообразием, как это происходит в спортивном дискурсе, поскольку, как справедливо замечают теоретики журналистики Нейл Блейн и Раймонд Бойл, «модели освещения в СМИ спорта становится источником – возможно, уникальным источником – информации о том, каковы наши убеждения и мнения, какова наша культура в широком смысле этого слова» (выделено мной. – Е. М.) [Блейн, Бойл 2005: 471].
Заметим далее, в том числе и в связи со сказанным выше, что нам не кажется неоспоримой эксплицированная в большей части определений такая характеристика способов языковой объективации когнитивного стереотипа, как стандартизированность и клишированность.
По-видимому, разнообразие средств экспликации когнитивного стереотипа в языке находится в зависимости от типа дискурса, в котором эта объективация происходит, от типа субъекта дискурса и его коммуникативной позиции.
Так, например, определенная субъективность позиции адресантов русского спортивного дискурсивного пространства (агентов, в терминологии дискурсивной социолингвистики): журналистов, спортсменов, тренеров, болельщиков – позволяет говорить о том, что вербализация названных феноменов в этом типе дискурса характеризуется разнообразием и относительной нестандартностью.
Однако мы можем сделать безусловный вывод о том, что при языковой репрезентации исследуемых концептуальных доминант русского спортивного дискурса отражаются стандартизованные, повторяемые, частотные, национально-специфичные и повышенно оценочные представления носителей русского языка не только о спорте и о спортивных победах или поражениях, но и – шире – о собственном государстве, стране, Родине, власти – с одной стороны, и о русском характере, этических и моральных принципах русских, об их отношении к Родине, отечеству, его истории сквозь призму спорта и спортивных достижений – с другой.
Кроме того, характерным признаком анализируемых в данном исследовании когнитивных стереотипов является их взаимосвязанность и явная семантическая сопоставленность: так, стереотипы, характеризующие один из базовых концептов дискурса, как правило, семантически сопоставлены не только с другими стереотипами, реализованными в этом типе дискурса, но и с другими концептами, доминирующими в данном дискурсивном пространстве.
В. В. Красных полагает, что когнитивный стереотип имеет две разновидности – стереотипы-поведения и стереотипы-представления.
Для нашего исследования актуальными оказываются прежде всего стереотипы-представления, основными видами которых являются, по мнению исследователя, стереотипы-ситуации и стереотипы-образы.
В основе стереотипов-ситуаций находится некоторое стандартизированное представление о ситуации (например, о поведении болельщиков на трибунах), а в основе стереотипов-образов – типизированные представления о предмете, лице, феномене (например, профессиональные и поведенческие стереотипы-образы спортсмен, тренер, спортивный фанат, болельщик; национальные русский, француз, финн; социумные (легенда спорта, звезда спорта). Они выполняют предикативную функцию, определяют, что следует ожидать от какой-либо ситуации или предмета реальной действительности.
На наш взгляд, необходимо выделить еще одну разновидность стереотипов-представлений – стереотипы-суждения, которые, мы полагаем, могут быть определены как схематичная, типизированная, национально маркированная интерпретация содержания концептов, прежде всего культурных.
Думается, что стереотипы-суждения – это своего рода стереотипные модели, некоторая область пересечения стереотипных частей базовых концептов дискурса. Применительно к русскому спортивному дискурсу можно говорить о «пересечении» содержательной структуры доминирующих концептов «Спорт», «Победа/Поражение», «Спортсмен», «Свои/Чужие» и т. д. В определённом смысле стереотипы-суждения (стереотипные модели) коррелируют с более широким понятием «концептуальная модель», хотя, безусловно, и не тождественны ему.
Так, например, в русской национальной картине мира отражено стереотипное, национально-специфическое суждение, связанное с интерпретацией победы вообще и спортивной победы в частности как победы «любой ценой», «вопреки всему», более того, как победы, почти всегда тождественной военной.
Таким образом, на наш взгляд, стереотипная, национально маркированная интерпретация ядерных или периферийных когнитивных слоев тех или иных многоуровневых концептов (таких, например, как концепты "Спорт", "Олимпиада", "Победа/Поражение", "Спортсмен", "Патриотизм") представляет собой сочетание стереотипов-ситуаций, стереотипов-образов и стереотипов-суждений и, кроме того, находит своё отражение в стереотипах-поведениях.
Подчеркнем еще раз, что выделение и описание стереотипов-суждений, использование их в качестве одной из основных операциональных единиц лингвокогнитивного анализа базовых концептов спортивного дискурса и медиадискурса вообще, на наш взгляд, чрезвычайно продуктивно, поскольку позволяет исследователю, во-первых, обнаружить национально специфичные «векторы» стереотипной интерпретации содержания того или иного многоуровневого концепта как в картине мира, продуцируемой СМИ, так и в наивной картине мира адресата; а во-вторых, проанализировать специфику языковой объективации заданных представлений в определённой дискурсивной разновидности.
Заметим также, что лингвокогнитивный анализ интерпретации концептов посредством когнитивных стереотипов неразрывно связан с моделированием когнитивных слоёв концепта и исследованием специфики лексикосемантической репрезентации концептов.
Разноаспектные выводы, к которым приходит исследователь в результате использования совокупности разнонаправленных методов и методик исследования, отличаются большей степенью объективности и верифицированное™.
Если говорить о своеобразном метаязыке описания когнитивных стереотипов-суждений в лингвистике, то можно констатировать, что названной концептуальной единице соответствует сформулированная исследователем – в результате проведённого анализа – своеобразная «этическая максима» (Н. А. Кузьмина), то есть некоторое высказывание, характеризующееся модусами должествования, констатации и/или оценки, которое представляет собой когнитивно-пропозициональную структуру, называющую объект или субъект характеризации ("Победа "Спорт / Спортивная борьба "Русский спортсмен / Русский тренер / Русские в спорте «Русский спортивный чиновник») и его доминирующий признак (признаки): Русские в спорте – максималисты / Русские спортсмены признают только победу и под.
Нами уже подчёркивалось, что посредством когнитивных стереотипов, объективирующих концепт "Спорт", транслируются общие представления носителей русского языка об особенностях русского характера, о специфике российского жизнеустройства, об отношениях гражданина и государства, о русском патриотизме. Так, например, выявленный нами стереотип «Русских спортсменов в мире не любят и всегда засуживают», очевидно, коррелирует с более общим ментальным стереотипом «Русских в мире не любят».
Это наблюдение подтверждает мысль о том, что в русском спортивном дискурсе, в сфере «медиаспорта», отражаются как определенные идеологические и мировоззренческие «установки» современных носителей языка, так и особенности русского национального менталитета.
Итак, любая когнитивная структура, будь то концепт, концептуальная модель или когнитивный стереотип, эксплицируется в языке – вербализуется в разных типах дискурсов.
Лексическими и лексико-синтаксическими маркерами когнитивных стереотипов в тексте могут являться, во-первых, частотно повторяемые, отчасти клишированные высказывания, коррелирующие с пропозициональной структурой, посредством которой формулируется стереотип, а во-вторых, разнообразные сегменты текста – от словосочетания до нескольких взаимосвязанных предложений, в которых вербализуется содержательная структура стереотипа.
Заметим, что стереотипы-суждения, интерпретирующие базовые концепты дискурса, репрезентируют как ядерные, так и периферийные когнитивные слои концептов, которые тем не менее могут характеризоваться актуальностью, содержательной значимостью и разнообразием языковых (и внеязыковых) средств, участвующих в их объективации в дискурсивных практиках.