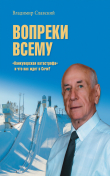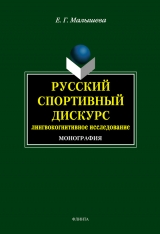
Текст книги "Русский спортивный дискурс: лингвокогнитивное исследование"
Автор книги: Е. Малышева
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
4.3.1. Согласно учению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «наша концептуальная система в значительной степени метафорична» [Лакофф, Джонсон 2004: 25], и именно метафора структурирует восприятие, мышление и деятельность человека.
3. И. Резанова подчеркивает, что в современных исследованиях по метафорическому смысломоделированию «метафорическое мышление и его языковое представление интерпретируются не только как генетически первичные, но и сущностные для современного состояния языков и когниций» [Резанова, Мишанкина, Катунин 2003: 25].
Как следует из современной когнитивной теории метафоры, в основе процессов метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний – фреймов и сценариев [Баранов 2004: 9].
Метафоризация основывается на «понимании и переживании сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [Лакофф, Джонсон 2004: 27]
и, следовательно, на взаимодействии двух когнитивных структур – области источника (source domain) и области цели (target domain).
Таким образом, в процессе метафоризации «некоторые области цели структурируются по образцу источника, иначе говоря, происходит «метафорическая проекция» [Баранов URL: http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Baranov.pdf.], или «когнитивное отображение» [Баранов 2004: 9].
Термином концептуальная метафора (а также синонимичными терминами метафорическая модель, концептуальная метафорическая модель) принято называть «устойчивые соответствия между областью источника и областью цели, зафиксированные в языковой и культурной традиции данного общества» [Там же: 111, «существующую и/или складывающуюся в сознании носителей языка схему связи между понятийными сферами» [Чудинов 2007: 131].
Итак, метафорическая модель отражает такое отношение между компонентами формулы «X – это У», которое характеризуется «не как прямое отождествление, а как подобие» (выделено мной. – Е. М.) [Там же].
По сути дела, о том же пишет и Н. А. Кузьмина, исследуя специфику языкового воплощения концептуальных метафорических моделей в поэтическом дискурсе: «Второй компонент – означающее[24]24
Термины «означаемое» и «означающее» употребляются в настоящем диссертационном исследовании в значении, отличном от семиотического понимания: означаемое здесь – это «тема, понятие, подвергаемое… интерпретации» [Кузьмина 1999: 194], означающее – это «некоторое обобщение, накопленный опыт, совокупность данных» [Арутюнова 1988: 125].
[Закрыть] – выступает преимущественно в образной форме» [Кузьмина 1999: 195].
Кстати говоря, отнюдь не случайным нам кажется в этом справедливом замечании слово преимущественно, которое косвенно подтверждает, что экспликация означаемого в речи может быть и неметафорической, лишенной образности.
Итак, если мы выделяем в качестве концептуальных доминант спортивного дискурса такие концептуальные метафорические модели, как "Спорт – это смерть " или "Спорт – это бизнес то это означает, согласно вышесказанному, что референтная область, означаемое, понятийная сфера, сфера-источник «Спорт» осмысливается и означивается в терминах другой понятийной сферы, сферы-мишени («Смерть», «Бизнес»), по метафорическому принципу подобия названных сфер.
В современных исследованиях концептуальных метафор чрезвычайно продуктивной[25]25
См., например, работы уральской лингвистической школы [Феденева 1997], [Колотнина 2001], [Вершинина 2002], [Ряпосова 2002], [Каслова 2003], [Красильникова 2005], [Чудакова 2005], [Шаова 2005], [Шехтман 2005], [Шинкаренкова 2005], [Будаев 2006] и мн. др., в которых моделируются различные фрагменты не только русской метафорической картины мира, но и сопоставляется метафорическая репрезентация мира в разных языках и лингвокультурах
[Закрыть] оказалась методика анализа метафорической модели, предложенная А. П. Чудиновым, который, в свою очередь, опирался как на фундаментальное исследование в области теории метафорического моделирования[26]26
Названная теория возникла в США (М. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, А. МакКормак, Ж. Фоконье, М. Тернер и др.) и успешно развивается российскими филологами А. Н. Барановым, В. З. Демьянковым, Ю. Н. Карауловым, И. М. Кобозевой, Е. С. Кубряковой, Л. В. Ивиной, Т. Г. Скребцовой, А. П. Чудиновым и мн. др.
[Закрыть] Дж. Лакоффа и М. Джонсона, так и на учение М. Минского о фреймах-структурах для представления знаний [Минский 1979], «адаптированное» на лингвистической почве Ч. Филлмором [Fullmore 1982: 111 – 137] (см. также о фреймовой семантике Ч. Филлмора [Колесник 2002]).
Основными задачами описания метафорической модели являются, по мнению А. П. Чудинова, выделение «сферы-источника» («области источника») и «сферы-магнита», «сферы-мишени» («области цели»), их лингвокогнитивная характеристика, анализ системы фреймов и слотов исследуемой модели как «когнитивного динамического сценария, отражающего представления о типичной последовательности развёртывания модели» [Чудинов 2007: 132]. Чрезвычайно важной для нашего исследования является и справедливая мысль о том, что система метафорических моделей – это «важная часть национальной языковой картины мира, национальной ментальности, она тесно связана с историей соответствующего народа и современной социально-политической ситуацией» [Чудинов 2007: 131].
Добавим, что именно описанная методика будет использована в данной диссертационной работе для лингвокогнитивного анализа доминантных концептуальных метафорических моделей русского спортивного дискурса.
4.3.2. Метафора, по меткому и точному определению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «объединяет разум и воображение», она суть «воображаемая рациональность» (выделено мной. – Е. М.) [Лакофф, Джонсон 2004:215].
Заметим еще раз, что научный «пафос» теоретиков концептуальной метафоры базируется на основополагающем представлении о метафоричности понятийной системы человека, а следовательно, и о том, что понимание на основе метафор есть образная форма рациональности.
Однако цитируемые авторы, разумеется, не отрицают сосуществования метафорических способов познания, освоения и понимания действительности с метонимическими, рациональными, неметафорическими по своей сути, основанными на логических методах обнаружения связи между концептами, между означаемым и означающим концептуальной модели[27]27
В этом смысле показательны рассуждения Дж. Лакоффа и М. Джонсона о категории Истины и о субъективистском и объективистском подходе к концептуальной метафоре в философии и в лингвистике [Лакофф, Джонсон 2004: 187–229].
[Закрыть].
И в этом смысле нам близка позиция Р. Якобсона [Якобсон 1990], Ю. М. Лотмана [Лотман 1996], П. Рикёра [Рикёр 1995], А. Е. Серикова [Сериков 2007], Д. Г. Трунова [Трунов 2005] и других исследователей, которые говорят об универсальности «полюсов» метафоры и метонимии как механизмов познания действительности, развития речевого события[28]28
«Метафора и метонимия являются основой смыслообразования в любой семиотической системе» [Якобсон 1999: 129]. Сравните далее мнение того же исследователя: «Речевое событие может развиваться по двум смысловым линиям: одна тема может переходить в другую либо по подобию (сходству), либо по смежности. Для первого случая наиболее подходящим будет термин „ось метафоры“, а для второго – „ось метонимии“, поскольку они находят наиболее концентрированное выражение в метафоре и метонимии соответственно… В нормальном языковом поведении оба процесса действуют непрерывно…» [Там же].
[Закрыть], о противоположности метафорических (основанных на ассоциации по сходству) и метонимических (основанных на смежности явлений действительности, на взаимной связи или родстве понятий) процессов[29]29
Очень ценным для нас является следующее замечание А. Е. Серикова: «Переходя от рассмотрения речевых актов к человеческим действиям вообще, можно предположить, что и здесь работают механизмы переноса значений. Действие – это знак его смысла, извлекаемого из множества образцов на основе того, что можно назвать практической метафорой и практической метонимией. Если такой практический перенос значений имеет место, то соответствующие языковые процессы – это его проявления в речевых актах. В той же мере, в какой речевые акты являются разновидностью действий вообще» (выделено автором. – Е. М.) [Сериков 2007: 133].
[Закрыть].
Таким образом, «в основе любых тропов как риторических фигур лежит взаимодействие метафорического и метонимического механизмов восприятия мира и генерации текстов» (выделено автором. – Е. М.) [Сериков 2007: 134].
Более того, можно утверждать, вслед за П. Рикёром и Р. Якобсоном, что «существует возможность придать полярному отношению между метафорой и метонимией более общий функциональный смысл, свидетельствующий о полярности метафорического и метонимического процессов мышления [Рикёр 1995: 109] и что «конкуренция между двумя механизмами поведения – метафорическим и метонимическим – проявляется в любом символическом процессе, как внутриличностном, так и социальном» [Якобсон 1990: 129].
Кстати заметим, что традиция разноаспектного изучения метафоры и метафорических механизмов познания действительности в риторике, стилистике, лексикологии, лингвистической поэтике, наконец, в когнитивной лингвистике неизмеримо богаче, чем традиция изучения метонимии[30]30
Р. Якобсон указывает на следующую причину такого «неравенства»: «Смысловое подобие связывает символы метаязыка с символами соответствующего языка-объекта. Сходство связывает метафорическое обозначение с заменяемым обозначением. Поэтому, строя метаязык для интерпретации тропов, исследователь располагает большим числом однородных средств для описания метафоры, тогда как метонимия, основанная на другом принципе, с трудом поддается интерпретации. Вследствие этого мы не можем указать для теории метонимии ничего сравнимого с богатой литературой по метафоре» [Якобсон 1990: 129].
[Закрыть].
Несмотря на объективную сложность интерпретации метонимических процессов, по нашему глубокому убеждению, объектом исследования в когнитивной лингвистике могут и должны быть не только концептуальные метафорические модели (концептуальные метафоры)[31]31
В отечественной когнитивной лингвистике более традиционным является употребление термина «когнитивная модель» (синонимы – концептуальная область, наивная модель), под которым понимается «характеристика процесса категоризации в естественном языке… механизмы мышления и образования концептуальной системы человеческого сознания как той базы, на которой мышление протекает» [Демьянков, Кубрякова 1996: 56–57]. В настоящей диссертационной работе термин «концептуальная модель», по сути, используется как синоним термина «когнитивная модель» – подобную трактовку используемого нами термина см. [Кузьмина 1999: 191–250], [Курячая 2008] и др.
[Закрыть], объективированные в разных типах дискурсов и демонстрирующие универсальность метафорического способа категоризации действительности, но и концептуальные метонимические модели (термин предложен H. А. Кузьминой), репрезентирующие принципиально иную, не метафорическую, а рациональную, логическую форму структурирования человеческого восприятия, мышления и деятельности и также вербализованные в дискурсах.
Об особенностях организации концептуальной метонимической модели будет сказано подробно несколько позже, однако уже сейчас заметим, что если мы на основе анализа текстов русского спортивного дискурсивного пространства выделяем в качестве доминанты концептуальную модель "Спорт – это смерть" ("Спорт есть причина смерти"), то это означает, что в исследуемых текстах эксплицируется устойчивое соотношение концептуальных понятий "Спорт" и "Смерть" и что тем самым репрезентируется наличие в структуре концепта "Спорт" когнитивных признаков, присущих содержанию концепта "Смерть".
Необходимость разграничения двух видов концептуальных моделей – метафорических и метонимических – становится, на наш взгляд, все более настоятельной, поскольку, во-первых, как нам кажется, очевидно объективное сосуществование когнитивных феноменов двух типов, принципиально различающихся способом освоения тех или иных фрагментов действительности и их языковой репрезентации; а во-вторых, исследовательская практика показывает, что термин метафорическая модель (или концептуальная метафорическая модель) достаточно часто – и, по нашему мнению, ошибочно – используется при описании языковой объективации когнитивных структур, элементы которых связаны неметафорическими, рациональными, метонимическими отношениями, то есть являются концептуальными метонимическими моделями.
Впрочем, справедливости ради следует сказать, что немногочисленные попытки по большей части интуитивного разграничения двух видов концептуальных моделей встречаются в современных исследованиях [Курячая 2008], однако они не носили до сих пор более или менее последовательного характера.
4.3.3. Прежде чем говорить о том, что кардинально различает описываемые нами виды концептуальных моделей – модели метафорические и метонимические, необходимо подчеркнуть, что объединяет эти понятия и является одной из причин их синонимического понимания в современной когнитивной лингвистике.
Думается, что общность исследуемых феноменов очевидна и обнаруживается прежде всего в идентичности их природы: и метафорическая, и метонимическая модели прежде всего единицы когнитивного уровня, часть когнитивного аппарата человека [Кузьмина 1991], они концептуальны, поскольку описывают специфику универсальных процессов мышления и освоения, осмысливания тех или иных явлений действительности, а также эксплицируют направление языковой объективации коллективных представлений относительно тех или иных фрагментов картины мира.
Впрочем, кроме вышесказанного, сходство концептуальных метафорических и метонимических моделей видится нам и в следующих, общих для них, сущностных, конституирующих характеристиках:
• это абстрактные структуры, с помощью которых моделируются те или иные предметные референтные области;
• в этих структурах (или моделях) отражается взаимосвязь разного рода понятий, посредством которых описываются моделируемые области;
• эти структуры репрезентируют причинно-следственные связи между понятиями; свойства, признаки и характеристики сопоставляемых понятий;
• и метафорическая, и метонимическая модели двухкомпонентны; при этом левая часть – означаемое – это всегда тема, осмысливаемое, интерпретируемое понятие той или иной степени обобщения; правая часть – означающее – «называет» направление, «указывает» на сферу интерпретации означаемого и «задает» способы языкового воплощения, развертывания означаемого в речи;
• оба типа моделей отражают процессы перекодировки «свернутого» знака в единицу мышления, предикативную по своей природе: «Простейшая единица мышления, простейшая коммуникация состоит из сочетания двух представлений, приведённых движением воли в предикативную (т. е. вообще определяющую) связь» (выделено мной. – Е. М.) [Шахматов 1941: 19].
Основное отличие исследуемых типов моделей, как уже подчёркивалось ранее, состоит в кардинальной разнице способов и механизмов интерпретации и осмысления понятийных областей.
4.3.4. Необходимо констатировать, что для обозначения структур, подобных тем, что названы нами концептуальными метонимическими моделями, в разных отраслях научного знания (психологии, экономике, педагогике, социологии, естественных науках, прикладной лингвистике) используется более общий термин «концептуальная модель», который понимается (если обобщить имеющиеся дефиниции) как содержательная абстрактная модель предметной области, состоящая из перечня взаимосвязанных понятий, определяющая структуру моделируемой системы и свойства её элементов, для формулировки которой используются теоретические концепты и конструкты данной предметной области знания[32]32
См., например, [Словарь психологических терминов URL: http://psygrad.ru/ slovar/k/kontsep tualnaya-model.html], [Аверкин, Гаазе-Рапопорт, Поспелов 1992 URL: http://www.raai.org/library/tolk/], [Википедия URL: ru.wikipedia.org].
[Закрыть].
И. П. Михальчук [Михальчук 1997] обосновывает лингвокогнитивное понимание термина «концептуальная модель», который, с его точки зрения, означает способ экспликации семантической структуры концепта: «Моделирование концепта включает…определение базовых компонентов его семантики, а также выявление совокупности устойчивых связей между ними» [Михальчук 1997: 29]. При таком подходе к феномену концептуальной модели нельзя не согласиться со следующим утверждением исследователя: концептуальная модель – это не реальность языка, а лишь гипотеза, которая является полезной для анализа концепта, вербализованного словом.
Вслед за И. П. Михальчуком С. В. Кузлякин, ссылаясь на мнение М. Р. Проскурякова[33]33
См. подр.: [Проскуряков 2000].
[Закрыть], делает вывод о том, что «при создании концептуальной модели принципиально важен собственно семасиологический анализ лексем (лексемы), эксплицирующих данный концепт, ибо общий смысл инварианта определенных значений формируется лишь на основе совокупности этих значений» [Кузлякин 2004: 88–89] и, таким образом, что под концептуальной моделью следует понимать «систематизированные данные о концепте, полученные по материалам языка и культуры» [Кузлякин 2004: 89].
На наш взгляд, очевидно, что проанализированный подход к феномену «концептуальная модель» является чрезвычайно широким и неопределённым: под названным понятием, по сути дела, понимаются как способы, так и результаты лексико-семантического анализа содержания концепта на основе исследования разноаспектных лексикографических данных (дефиниции толковых, исторических, этимологических, ассоциативных словарей), деривационных связей лексем, вербализующих тот или иной концепт, сочетаемости лексем-маркеров концепта в общеязыковом употреблении и/или в текстах, объективированных в разных дискурсах. Показательно, однако, что данное представление о концептуальной модели предполагает, как кажется, исследование прежде всего неметафорических способов экспликации концепта и определение базовых компонентов когнитивной структуры концепта.
Итак, приведём обоснование нашего представления о содержании введённого в настоящей работе понятия «концептуальная метонимическая модель». При этом подчеркнём, что для лингвокогнитивного понимания данного феномена чрезвычайно информативным и важным является представление о структуре простого суждения вообще и атрибутивного суждения в частности, закреплённое прежде всего в традиционной логике.
Как известно, суждение есть особая форма мышления, в которой «утверждается или отрицается наличие связей между предметами и их свойствами, а также отношения между самими предметами» [Рузавин 1997: 77].
Суждения имеют внутреннюю структуру, в которую входят субъект (S) и предикат (Р). Субъект – это то, «о чём или о ком что-то сообщается в суждении» [Ненашев 2004: 127], понятие о предмете суждения, логическое подлежащее. Предикат – это то, «что сообщается о субъекте» [Там же], понятие о признаке предмета, рассматриваемого в суждении, логическое сказуемое.
Такого рода суждение строится по следующим схемам: «S есть (суть) Р», «S – это Р» или «S не есть Р» (утвердительные и отрицательные суждения).
Описываемый вид суждений является самым частотным и носит название «атрибутивное суждение».
На наш взгляд, несомненно, что концептуальная метонимическая модель формально и – главное – содержательно организована по типу атрибутивного логического суждения, при этом в позиции субъекта в метонимической модели оказывается концепт-означаемое, а в позиции предиката – концепт-означающее.
Кроме того, для нас существенно, что в зависимости от того, обо всём классе предметов, о части этого класса или об одном предмете идет речь в субъекте, суждения делятся на общие, частные и единичные.
Как правило, при выделении концептуальных метонимических моделей, объективированных в разных типах дискурсов, речь идёт прежде всего об общеутвердительных атрибутивных суждениях, в которых опущен квантор – «элемент суждения, стоящий перед субъектом» [Ненашев 2004: 129].[34]34
В общих суждениях используется квантор общности (каждый, любой, всякий); в частных – квантор существования (большинство, меньшинство, многие, немногие и под.); в единичных – квантор единичности (этот, тот, вот этот).
[Закрыть]
Таким образом, концептуальная метонимическая модель "Спорт – это смерть" ("Спорт есть смерть") – это пример модели, структурированной по принципу общеутвердительного атрибутивного суждения.
Однако, по нашему мнению, помимо выделения такого рода инвариантных метонимических моделей, возможна их конкретизация посредством введения в модель разнотипных кванторов и, следовательно, сужения объёма прежде всего субъекта – концепта-означаемого.
Например, названная выше инвариантная модель конкретизируется более частными метонимическими моделями "Профессиональный спорт есть причина смерти", "Большой спорт есть причина (приводит к) смерти", где в моделях используются кванторы существования («большой», «профессиональный»), которые превращают данные структуры в частноутвердительные суждения.
Итак, приведя необходимые для дефиниции вводимого нами термина теоретические положения из области логики, констатируем, что в настоящем исследовании под концептуальной метонимической моделью понимается двухкомпонентная когнитивная структура, организованная по типу простого общеутвердительного (или частноутвердительного) атрибутивного логического суждения («S – это Р», «S есть (суть) Р»), где отношения между концептом-означаемым и концептом-означающим, «субъектом» и «предикатом» могут быть охарактеризованы как отношения тождества (эквивалентности), перекрещивания (частичного тождества) или субординации (подчинения объема понятий)[35]35
См. подробнее об отношениях между понятиями [Рузавин 1997: 45–48].
[Закрыть].
Из сказанного следует, что при таком понимании термина «концептуальная метонимическая модель» речь не может идти о метафорическом осмыслении означаемого, об образной природе означающего и – в результате – о метафорическом способе языковой объективации «субъекта».
Важно заметить в финале наших рассуждений, что, подчеркнув формальную тождественность метафорических и метонимических моделей ("Спорт – это смерть"), мы отнюдь не считаем, что содержательно метафорические модели соответствуют общеутвердительным логическим суждениям: как было уже неоднократно сказано, принцип соотношения концептов в такой модели совершенно иной, не соответствующий организации логического суждения.
Кстати говоря, и формально названные модели в полном виде (со связочным звеном) будут выглядеть по-разному: "Спорт есть смерть" – модель метонимическая; "Спорт подобен смерти" – модель метафорическая. Думается, это тот самый случай, когда и «форма содержательна».
Таким образом, необходимо понимать, что когнитивные механизмы взаимодействия, соотнесения концептов в концептуальной метонимической модели принципиально иные, нежели в метафорической, а следовательно, иным является и способ языкового «развертывания» такой модели.
Так, если речь идет о концептуальных метонимических моделях "Спорт – это смерть "Спорт – это бизнес "[36]36
«Спорт стал областью обращения крупных капиталов, где постоянно возрастают размеры призовых фондов, сумм, выплачиваемых по контрактам профессиональным спортсменам и тренерам. Масс-медиа усиливают коммерциализацию спорта: сезонные игры и чемпионаты, стадионы, трибуны и сами тела участников, эфирное время и печатные площади, задействованные в освещении соревнований, рассматриваются как пространство для размещения рекламы, которую видит огромная аудитория. Такое продвижение разнообразных товаров и услуг… приносит большие доходы клубам, их владельцам, компаниям, прямо или косвенно связанным со спортом… Сочетание отлаженной индустрии… и сравнительной открытости делает спорт не только местом выгодных инвестиций…» [Зверева 2006: 64].
[Закрыть], "Спорт – это политика,[37]37
«Спорт как медиасобытие нагружается политическими смыслами, поскольку любая система включения / исключения подразумевает определенный порядок, власть и маргиналии» [Зверева 2006: 65].
Также см. подробнее о корреляции понятий "Спорт" и "Политика" в Главе 2 настоящего исследования.
[Закрыть] или "Спорт – это шоу "[38]38
«Спорт… сделался одним из наиболее популярных мировых шоу, в производстве и распространении которого ключевую роль играют СМИ… Популярные спортсмены превращаются в медийных персонажей, звезд массовой культуры, чье регулярное появление в иных, неспортивных контекстах оправдано их статусом как законодателей моды и экспертов в выстраивании стиля жизни. Влиятельность фигуры спортивного медиамагната в современном обществе указывает на соединение СМИ, бизнеса, политики и индустрии шоу» [Зверева 2006: 64].
[Закрыть], "Спорт – это национальная идея то это означает, что в тексте будет эксплицировано представление носителей языка – как правило коллективного, даже стереотипного характера – согласно которому происходит, как правило, частичное отождествление или подчинение признаков, свойств понятийных областей.
Методика лингеокогнитиеного анализа концептуальных метонимических моделей, объективированных в том или ином типе дискурса, в настоящей работе состоит в следующем: 1) исследование текстов, репрезентированных в дискурсе, и выявление – на базе критериев продуктивности, частотности и разнообразия лексико-семантического воплощения – доминантных для данного типа дискурса метонимических концептуальных моделей;
2) лексико-семантический, в том числе компонентный, текстовый, прагмастилистический, композиционный анализ специфики лексико-синтаксической репрезентации изучаемой когнитивной структуры в текстах;
3) выделение – на основе результатов проведенного исследования – концептуальных признаков в полевой структуре концепта-означаемого, обусловленных особенностями взаимодействия понятийных областей означаемого и означающего, «субъекта» и «предиката».
Таким образом, подчеркнем ещё раз, что под концептуальными метафорической и метонимическими моделями должны, по нашему мнению, пониматься принципиально разные когнитивные единицы, в которых отражены различные способы осмысления действительности (метафорический, по принципу подобия, и метонимический, рациональный, неметафорический, по принципу смежности понятий, в том числе их полного или частичного отождествления) и которые – соответственно – кардинально отличаются с точки зрения объективации в языке взаимосвязи означаемого и означающего.
Тем не менее, берёмся утверждать, что именно моделирование базового концепта дискурса посредством выявления и описания системы доминантных метафорических и метонимических концептуальных моделей позволяет исследователю сделать верифицированные выводы как о специфике категоризации и когнитивного структурирования фрагмента действительности, обусловленного соответствующим концептом и объективированного в дискурсе, так и о своеобразии языковых способов репрезентации опорного концепта дискурса.