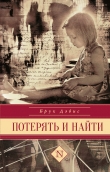Текст книги "Дядя Сайлас. История Бартрама-Хо"
Автор книги: Джозеф Шеридан Ле Фаню
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Глава XIII
Вопрос и ответ
Дядя в тот день, однако, справился со своим недугом, какой бы странной природы он ни был. Старуха Уайт, по обыкновению недовольным тоном, подтвердила, что с дядей «ничего худого, чтоб разговоры разговаривать». А вот я не могла отогнать страх и унять душевную боль. Доктора Брайерли, несмотря на тень, брошенную на его репутацию моим дядей, я считала истинным и мудрым другом. Я была приучена всегда на кого-то полагаться и в Бартраме, терзаемая неясной, неопределенной тревогой, я устремлялась мыслями к доктору Брайерли, но, когда исчез мой энергичный и предприимчивый друг, сердце у меня упало.
Оставалась конечно же моя дорогая кузина Моника и мой славный, мой надежный лорд Илбури. Вскоре от леди Мэри пришло приглашение мне и Милли погостить на Ферме, где мы встретимся с нашей кузиной из Элверстона. Леди Мэри добавляла, что вместе с ее приглашением лорд Илбури шлет моему дяде письмо, в котором присоединяется к ее словам. И вот после полудня дядя велел, чтобы я явилась к нему в комнату.
– Адресованное вам и Милли приглашение от леди Мэри Кэризброук – на встречу с Моникой Ноуллз… вы получили его? – спросил дядя, как только я села.
Услышав мой утвердительный ответ, он продолжил:
– А теперь, Мод Руфин, я жду от вас правды. Я с вами честен, вам надлежит быть честной со мной. Леди Ноуллз когда-либо отзывалась обо мне дурно?
Я пришла в замешательство.
Я почувствовала, что покраснела. На его проницательный холодный взгляд я ответила растерянным молчанием.
– Да, Мод, это так.
Я опустила глаза.
– Я знаю, что это так, но вам надо отвечать: так это или нет.
Я прокашлялась – раз, другой, третий. Горло сдавило.
– Я пытаюсь вспомнить… – проговорила я наконец.
– Вспомните, прошу вас, – сказал он повелительным тоном.
Опять наступило недолгое молчание. Я бы тогда все на свете отдала, только бы очутиться в другом месте.
– Мод, вы, разумеется, не хотите обманывать вашего опекуна? Ну же, вопрос простой, и я давно знаю правду. Еще раз спрашиваю вас: леди Ноуллз когда-либо отзывалась обо мне дурно?
– Леди Ноуллз, – начала я, с трудом выговаривая слова, – очень свободно высказывается и больше говорит в шутку; но… – продолжила я, заметив какую-то угрозу в его лице, – но я слышала, как она осуждала некоторые ваши поступки.
– Ну же, Мод, – произнес он сурово, хотя по-прежнему не повышая голоса, – не выдвинула ли она уже тогда обвинение, слышанное нами от этого лукавого аптекаря, – вероятно, существовавшее только в зародыше, а на днях явленное уже оперившимся, с острыми когтями и клювом… – обвинение в том, что я обманываю вас и занимаюсь рубкой леса в поместье?
– Она, конечно, упоминала об этом обстоятельстве, но добавляла, что все объясняется, вероятно, неведением относительно степени ваших прав.
– Ну же, Мод, не уклоняйтесь от прямого ответа. Я получу его. Не говорит ли она постоянно в пренебрежительном тоне обо мне в вашем присутствии и конкретно вам? Отвечайте!
Я опустила голову.
– Да или нет?
– Возможно… возможно, что так… да, – запинаясь, произнесла я и расплакалась.
– Ну-ну, не плачьте. Допускаю, что вам это неприятно. Но не говорила ли она о вещах, уже упомянутых, в присутствии моей дочери Миллисент? Я все знаю, повторяю. Ваши колебания бессмысленны. Я требую ответа.
Всхлипывая, я сказала правду.
– А теперь сидите тихо, пока я напишу письмо.
Он писал с угрюмой усмешкой, вызывавшей у меня душевную боль, хмурился и усмехался, глядя на бумагу, потом положил ее передо мной.
– Прочтите, моя дорогая.
Вот что я прочла:
«Любезная леди Ноуллз,
Вы оказали мне честь письмом, в каком присоединяетесь к просьбе лорда Илбури – позволить моей подопечной, а также моей дочери воспользоваться приглашением леди Мэри. Будучи хорошо осведомленным о неприязни, Вами ко мне беспричинно питаемой, равно как о выражениях, в каких Ваше воспитание и Ваша совесть позволяют Вам говорить обо мне в присутствии моей дочери и моей подопечной и адресуясь к ним, я могу выразить лишь удивление скромностью Вашего пожелания и категорически отказываю Вам. Употребив действенные меры, я приложу все старания, чтобы предотвратить с Вашей стороны любую попытку явным злословием или намеком повредить моему авторитету и моему влиянию на подопечную, а также на дочь.
Ваш оклеветанный и оскорбленный родственник
Сайлас Руфин».
Я пришла в ужас, но какими мольбами могла я отвести удар, направленный против моей свободы общения? Я громко рыдала, стиснув руки, и не сводила глаз с мраморного лица старика.
Будто не слыша моих рыданий, он сложил письмо, запечатал и принялся за ответ лорду Илбури.
Закончив, дядя положил и это письмо передо мной, а я прочла его от первой до последней строки. Адресата просто отсылали к леди Ноуллз «для выяснения обстоятельств, вынуждавших писавшего отклонить приглашение, которое племянница и дочь писавшего приняли бы с превеликой радостью».
– Вы видите, моя дорогая Мод, как честен я с вами, – сказал он, помахивая только что прочтенным мною письмом, прежде чем его запечатать. – И думаю, я вправе рассчитывать на вашу ответную откровенность.
Когда он отпустил меня, я побежала к Милли, которая расплакалась от разочарования, и мы обе рыдали и причитали. Но, наверное, у меня было больше причин горевать.
В унынии я села писать дорогой леди Ноуллз. Я молила ее заключить мир с моим дядей. Я сообщала ей, как прямодушен он был со мной, как показал свое печальное послание в Элверстон. Сообщала о беседе дяди с доктором Брайерли, произошедшей в моем присутствии, о том, что дядю мало взволновали обвинения и что он держался с уверенностью человека, которому не в чем раскаиваться. Я заклинала ее найти какой-нибудь выход и, помня о моей изоляции, помириться с дядей Сайласом. «Только подумайте, – писала я, – мне всего девятнадцать, а впереди два года затворничества. Я не вынесу такой долгой разлуки!» Ни один разорившийся торговец не подписывал бумагу о своем банкротстве, вздыхая горше, чем я, когда ставила в конце письма свое имя.
Огорчения юности подобны ранам богов, кои исцеляются от самой ихор{28}, проливающейся из ран. Так и мы с Милли утешились. На другое утро мы уже наслаждались прогулкой, разговором и чтением, удивительно покорные нашему жребию.
Мы с Милли напоминали лорда Дуберли и доктора Панглосса:{29} моей обязанностью было исправлять ее «вопизмы», и это занятие развлекало нас обеих. Мы подчинились судьбе, наверное, с тайной надеждой, что неумолимый дядя Сайлас все же смягчится или что кузина Моника, эта сирена, одержит победу и обратит его в кого пожелает.
Некоторое успокоение, испытанное мною в отсутствие Дадли, было, увы, недолгим. Однажды утром, когда я в одиночестве вязала и размышляла о многих вещах, не лишенных приятности, в мою комнату вошел кузен Дадли.
– Вот я и обратно – вернулся, как в кошелек фальшивый полпенни. А ты как тут поживала, девочка? Невиннейший вид у тебя, клянусь. Страшно рад, что вижу тебя, ага! Ни одна с тобой не сравнится, Мод.
– Я должна вас просить: отпустите руку, иначе я не могу продолжать работу, – проговорила я, своим чопорным ответом надеясь немного охладить его пыл.
– Сделаю все, чего просишь, Мод, я не хочу тебе перечить. Я был в Вулвергемптоне, покутили на славу, так что пришлось сбежать в Лемингтон. Чуть шею себе не свернул, клянусь, на чужой лошади… когда за собаками припустил порезвей. Ты б не горевала, Мод, ежели бы я шею свернул? Может, самую малость… – добродушно добавил он, потому что я хранила молчание. – Неделя, как уехал, а мне, черт возьми, сдается, что половину календаря зачеркнули. И знаешь почему, Мод?
– Вы повидались с вашей сестрой Милли и с вашим отцом после возвращения? – спросила я холодно.
– Они подождут, Мод, ничего им не сделается. Тебя хотел видеть. О тебе только и думал. Говорю тебе, девочка, ты у меня из головы не выходишь.
– Мне кажется, вам следует повидаться с вашим отцом. Вы на время уезжали, и я думаю, это неуважительно – не явиться к нему, – проговорила я немного резко.
– Ежели просишь, считай, я уже ушел, хотя еще тут. Нет ничего на свете, чего б я для тебя не сделал, Мод, вот только одного не могу – уйти от тебя.
– А это, – сказала я, раздражаясь и поэтому краснея, – единственная на свете вещь, о которой я вас прошу.
– Ей-богу, ты покрасне-е-е-ла, Мод, – протянул он с чудовищнейшей ухмылкой.
Его глупость была невыносимой.
– Просто ужас! – проворчала я и возмущенно стукнула носком туфли об пол, показывая, что готова затопать ногами.
– Ну, вы, девчонки, народ чудной. Ты сердишься на меня, потому что думаешь что я набрался греха, – так, Мод? Нет, говорю тебе, резвунья ты неразумная, ничего такого не было в Вулвергемптоне. А ты, только я вернулся, уже гонишь меня. Не за дело!
– Я не понимаю вас, сэр. И прошу: уйдите.
– Ну разве я не говорил, Мод, про то, чтоб уйти от тебя… Только этого и не могу сделать. Я просто дитя малое в твоих руках, точно. Могу крепкого парня избить, измочалить, черт подери! – Должна заметить, что его ругательства на самом деле были еще более грубыми. – Ты ж видела недавно. Ну, не сердись, Мод. Тогда из-за тебя все и вышло – я чуток приревновал, ага. Значит, любого поколочу. Но вот смотри на меня: просто дитя малое в твоих руках!
– Я хочу, чтобы вы ушли. У вас нет никакого занятия? Вам ни с кем не нужно увидеться? Ну почему… почему вы не можете оставить меня одну, сэр!
– Не могу, потому что не могу. А ты… какая ж ты злая, видишь, что со мной, и… Как ты можешь?
– Скорее бы Милли пришла, – раздраженно сказала я, устремив взгляд на дверь.
– Я говорю тебе как есть, Мод. Откроюсь, чего там. Ты мне нравишься больше всех девчонок, которых встречал, вот тебе честное слово. Ты в сто раз лучше их всех, нету другой такой… нету. И я хочу, чтоб ты пошла за меня. Деньжат у меня немного – отец иногда подкидывает, да он и сам на мели, ты ж знаешь. Но хотя я не богатый, как некоторые, может, я получше их буду. И ежели б ты пошла за порядочного человека, который тебя страшно любит и умрет ради тебя, так вот он перед тобой.
– Что вы хотите сказать, сэр? – вскричала я, озадаченная и возмущенная.
– Я хочу сказать, Мод, что, ежели пойдешь за меня замуж, не пожалеешь: ни в чем не будешь знать отказа, слова плохого от меня не услышишь.
– Это же предложение! – выговорила я, будто во сне.
Я стояла, держась за спинку стула, и взгляд, устремленный на Дадли, вероятно, был преглупым, ведь от крайнего изумления я плохо соображала.
– Ну да, оно самое, девочка, и ты мне не скажешь «нет», – выпалил этот ужасный человек. Он оперся коленом о сиденье стула, за которым я стояла, и попытался обвить мою шею рукой.
Я разозлилась, отпрянула и топнула ногой в неподдельной ярости.
– Что, сэр, в моем поведении, в моих речах и взглядах могло бы оправдать эту неслыханную дерзость? Но пусть вы так же глупы, как дерзки, грубы и отвратительны, вы должны были давно понять, что вы мне очень неприятны. Как вы осмелились, сэр? Не думайте препятствовать мне, я иду к дяде!
Никогда и никому на свете я еще не говорила таких резких слов.
Он, казалось, тоже растерялся, и я, разгневанная, быстро скользнула мимо его протянутой, но не шевельнувшейся руки.
Со свирепым видом он двинулся было за мной к двери, но остановился и только выругался мне вслед, употребив те «плохие слова», которых, как обещал, я никогда от него не услышу. Впрочем, гнев и быстрый шаг помешали мне вникнуть в их смысл, и, не успев собраться с мыслями, я постучала к дяде Сайласу.
– Войдите, – прозвучал дядин голос – внятный, высокий и капризный.
Я вошла и взглянула дяде прямо в лицо:
– Ваш сын, сэр, меня оскорбил.
Несколько секунд он с холодным любопытством изучал меня, а я стояла перед ним, раскрасневшаяся, тяжело дыша.
– Оскорбил? – переспросил он. – Вот дела – вы меня удивляете! – Это восклицание больше, чем все, мною от него слышанное, характеризовало «прежнего» дядю Сайласа. – Каким образом, – продолжил он, – каким образом Дадли оскорбил вас, мое дорогое дитя? Вы взволнованны; сядьте, успокойтесь и все расскажите. Я не знал, что Дадли вернулся.
– Я… он… это оскорбление. Он понимал… он должен понимать, что неприятен мне, и осмелился предложить выйти за него замуж.
– О-о-о! – протянул дядя с интонацией, ясно говорившей, что он считает случившееся событием. Он откинулся в кресле и смотрел на меня с прежним невозмутимым любопытством, к которому прибавилась улыбка, почему-то меня пугавшая. Его лицо казалось мне нечестивым, будто лицо колдуна, отмеченное печатью неведомого греха. – И это все ваши жалобы? Сделал предложение!
– Да, предложил выйти за него замуж.
Я остыла и почувствовала некоторое смущение, подозревая, что со стороны могу показаться – если других жалоб нет – излишне резкой в выражениях и несдержанной в поведении.
От дяди, должна сказать, не укрылось мое беспокойство, потому что он, по-прежнему улыбаясь, произнес:
– Моя дорогая Мод, сколько бы ни было правоты в ваших словах, думаю, вы немного жестоки: кажется, вы забываете о своей явной вине. У вас, по крайней мере, один верный друг, к которому советую обратиться, – я имею в виду зеркало. Глупый юноша не обучен манерам. И он влюблен, отчаянно увлечен. Aimer c’est craindre, et craindre c’est soufrir[74]74
Любить – значит страшиться, и страшиться – значит страдать (фр.).
[Закрыть]. А страдание вынуждает искать облегчения. Нам не следует быть слишком строгими к грубоватому, но романтическому юноше, в чьих речах видны и его глупость, и его мука.
Глава XIV
Привидение
– Но, в конце концов, – неожиданно, будто его посетила новая мысль, продолжил дядя, – такая ли это глупость? Мне вдруг показалось, дорогая Мод, что об этом стоит еще подумать. Нет, нет, вы не откажетесь меня выслушать! – проговорил он, заметив мое желание возразить ему. – Конечно же я допускаю, что, по вашему мнению, вы вправе выбирать. Я также допускаю, что Дадли вам совершенно безразличен и вы даже воображаете, что он неприятен вам. Помните, в той прелестной пьесе по воле покойного Шеридана – восхитительный автор! увы, все наши гении нас покинули! – миссис Малапроп замечает, что нет ничего лучше легкой неприязни вначале{30}. Это только шутка, что касается брака, но что касается любви, поверьте мне, это почти истина. Автор имел в виду, как я знаю, свою собственную женитьбу на мисс Оугл, которая при первом знакомстве пришла от него в совершеннейший ужас, но несколько месяцев спустя, кажется, умерла бы, если бы не стала его женой.
Я вновь хотела заговорить, но он с улыбкой сделал мне знак молчать.
– Вам не следует забывать про определенные обстоятельства. Одна из счастливейших привилегий, даруемая вам вашим состоянием, заключается в том, что вы, не опасаясь раскаяний в неблагоразумии, можете вступить в брак просто по любви. Мало найдется в Англии мужчин, которые предложили бы вам земельные владения, сравнимые с уже принадлежащими вам, или существенным образом добавили бы великолепия к вашему состоянию. Поэтому, если бы он подходил во всех прочих отношениях, не вижу в его бедности препятствия, которое могло бы вас смущать. Он – неотшлифованный алмаз. Подобно многим молодым людям из высших слоев общества, он был слишком предан атлетике и тому кругу, который составляет аристократию ринга, беговой дорожки и всего подобного. Заметьте, я начинаю с упоминания о наименее достойных моментах. Но в свое время я знавал немало молодых людей, которые, проявив безрассудство, посвятили несколько лет жизни атлетике, переняли у жокеев и боксеров их манеры, их жаргон и тем не менее расстались с этими привычками и усвоили правила хорошего тона. Например, когда милый Ньюгейт, усерднее других предававшийся таким шалостям, устал от них, то сделался одним из самых изящных, самых благовоспитанных англичан, подлинным украшением палаты лордов. Бедный Ньюгейт – его тоже нет! Я перечислю вам с полсотни друзей моей юности, которые вступили в жизнь как Дадли, и все так или иначе преобразились подобно Ньюгейту{31}.
В этот момент раздался стук в дверь, и Дадли просунул голову, разрушив картину его будущего изящества и благовоспитанности.
– Мой добрый друг, – сказал отец игриво, – я говорю о своем сыне и не хотел бы, чтобы меня подслушивали, а поэтому прошу вас выбрать другое время для посещения.
Дадли с хмурым видом переминался у двери, но еще один взгляд, брошенный отцом, заставил его ретироваться.
– А теперь, моя дорогая, вам следует запомнить, что Дадли обладает замечательными качествами, что при всей его грубости он самый преданный сын, каким может быть благословен отец. Другие его достойные восхищения качества – это неукротимая смелость и чувство чести. Наконец, в нем течет кровь Руфинов – благороднейшая, берусь утверждать, кровь в Англии.
Произнося эти фразы, он невольно чуть выпрямился, его трепещущая рука легла на сердце, а лицо преисполнилось столь удивительного достоинства и печали, что я глядела на него как зачарованная и не смогла вникнуть в смысл говорившегося далее.
– Поэтому, дорогая, естественным образом обеспокоенный тем, чтобы ему не пришлось покинуть дом, – а он будет вынужден уехать, упорствуй вы в отклонении его ухаживаний, – прошу вас повременить с решением ровно две недели, когда я с превеликой охотой послушаю, что вы скажете. Но до тех пор – обещайте! – больше ни слова об этом.
В тот вечер он и Дадли надолго закрылись в комнате. Подозреваю, что отец просвещал сына в отношении психологии молодых леди, потому что со следующего утра, приходя к завтраку, я находила у своей тарелки букет, который совсем не просто было достать, ведь теплица в Бартраме давно обратилась в пустыню. Еще через несколько дней прибыл зеленый попугай в золоченой клетке; на конверте, который протянул мне посыльный, значилось: «Мисс Руфин из Ноула, проживающей в Бартраме-Хо и т. д.» В конверте я обнаружила только «Руководство по уходу за зелеными попугаями», которое заключала подчеркнутая строка: «Эту птичку зовут Мод».
Букеты я неизменно оставляла на столе, где их находила, птичку, по моему настоянию, Милли взяла себе. В течение тех двух недель Дадли ни разу не появлялся к ленчу, как прежде, не заглядывал в окно, когда мы сидели за завтраком. Удовольствовался он тем, что лишь однажды, облаченный в охотничий костюм, возник передо мной в холле и, с неуклюжей, деланной вежливостью сняв шляпу, сказал:
– Наверно, Мод, я нагрубил… ну, тогда. Уж так я разволновался, не больше дитяти понимал, что говорю. Я хочу, чтоб ты знала, я… сожалею и прошу простить… покорнейше, ага.
Я не могла придумать, что ответить ему, поэтому промолчала и с суровым видом прошла мимо.
Два-три раза мы с Милли, гуляя, видели его невдалеке. Но он никогда не пытался присоединиться к нам. Только раз он проходил настолько близко, что без приветствия нельзя было обойтись, и он остановился, молча приподнял шляпу, неуклюжий в своем старании проявить к нам почтение. Впрочем, и на расстоянии он всячески показывал, как он вежлив. Он открывал перед нами ворота, подзывал к себе собак, отгонял скот, а потом исчезал и сам. Однако, думаю, он иногда поджидал случай оказать нам такую услугу и вызвать благодарное чувство, ведь наши маршруты пересекались значительно чаще после того, как он сделал мне свое лестное предложение.
Можете не сомневаться, что мы с Милли постоянно возвращались в разговорах к этому происшествию. И как ни ограниченно было ее знание людей, теперь она ясно видела, насколько ниже достойного уровня оказывался ее питавший надежды брат.
Две недели истекли очень быстро – так всегда летит время, когда близится событие, которого мы желали бы избежать. Эти две недели я не виделась с дядей Сайласом. Наш последний разговор, когда дяде, как никогда, давался легкий тон, вселил в меня неведомый мне прежде страх и предчувствие опасности. С тревогой и унынием в душе на редкость хмурым днем я ожидала в комнате у Милли зова от моего пунктуального опекуна.
Глядя в окно на косой дождь и свинцовое небо, думая о ненавистном разговоре, который мне предстоял, я прижала руку к трепещущему сердцу и прошептала: «О, будь у меня крылья голубки, я бы упорхнула и нашла бы покой!»
Почему-то в ту минуту мой слух пронзило щелканье попугая. Я обернулась в сторону клетки и вспомнила слова: «Эту птичку зовут Мод».
– Бедная пташка! – сказала я. – Мне кажется, Милли, она хочет на волю. Будь она родом из наших краев, разве не согласилась бы ты открыть окно, а потом – дверцу этой чудовищной клетки, разве бы не позволила ей улететь?
– Господин желает видеть мисс Мод, – донесся неприятный голос Уайт из приоткрытой двери.
Я молча последовала за старухой, сердце мое сжималось в тревоге, как у человека, направляющегося туда, где его поджидает со всеми своими инструментами хирург.
Когда я вошла в комнату, сердце заколотилось, и так сильно, что я лишилась дара речи. Фигура дяди Сайласа высилась предо мной; я сделала неловкий реверанс.
Дядя метнул из-под бровей свирепый, яростный взгляд на старуху Уайт и надменно указал костлявым пальцем на дверь. Уайт вышла – и мы остались одни.
– Сядете? – произнес он, указывая на стул.
– Благодарю вас, дядя, я… я лучше постою, – запинаясь, проговорила я.
Он тоже стоял – наклонив вперед белую голову, устремив на меня исподлобья взгляд своих странных фосфорических глаз, а кончиками ногтей касаясь стола.
– Вы видели – багаж увязан, снабжен адресом? И стоит в холле, готовый к отправлению, – проговорил он.
Да, я видела. Мы с Милли читали бирки, свисавшие с ручек чемоданов и чехла для охотничьего ружья. Адрес значился такой: «Мистер Дадли Р. Руфин. Париж via[75]75
Через (фр.).
[Закрыть] Дувр».
– Я стар, я волнуюсь… от близости минуты, когда прозвучит столь важное решение. Прошу, положите конец мучительной неопределенности. Должен ли мой сын сегодня покинуть Бартрам в печали, или он остается, ликуя? Прошу, отвечайте скорее!
Я что-то пролепетала… что-то невразумительное, возможно даже нелепое, но подтверждающее неизменность моего решения. Мне показалось, его губы делались все белее, а глаза разгорались все ярче.
Когда я добралась до последнего слова, он издал тяжелый вздох и, медленно поведя глазами вправо, потом влево – как человек в полном отчаянии, – прошептал:
– Да свершится воля Господня!
Я подумала, что вот сейчас он потеряет сознание, – бледное лицо его приобрело землистый оттенок; казалось, забыв о моем присутствии, он сел и устремил безнадежный взгляд на свою старческую серую руку, лежавшую на столе.
Я стояла, смотрела на него и чувствовала себя почти убийцей старого человека, а он по-прежнему не отрывал глаз от своей руки, и его взгляд был безумен.
– Я могу уйти, сэр? – наконец осмелилась я спросить шепотом.
– Уйти? – проговорил он, вдруг подняв глаза. Мне показалось, что из них хлынул холодный туманный поток света и на мгновение окутал меня пеленой. – Уйти? О да… да, Мод… уйдите. Я должен увидеть бедного Дадли перед его отъездом, – добавил старик, будто разговаривая с самим собой.
Опасаясь, как бы он не отменил позволения уйти, я быстро и бесшумно выскользнула из комнаты.
Старая Уайт держалась поблизости – делала вид, что стирает тряпкой пыль с резной дверной рамы. Старуха окинула меня любопытным взглядом из-под морщинистой руки, когда я выходила. Поджидавшая меня Милли устремилась мне навстречу. Когда я закрывала дверь, мы обе расслышали голос дяди Сайласа, призывавшего Дадли. Вероятно, Дадли скрывался в смежной спальне. Под охраной Милли я поторопилась в свою комнату, где нашла облегчение после пережитого волнения в слезах, как то и свойственно девушкам.
Чуть позже мы видели из окна Дадли: очень бледный, как мне показалось, он сел в экипаж, на верху которого едва хватило места для его багажа, и покинул Бартрам.
Я начала успокаиваться. Его отъезд был несказанным облегчением для меня. Его окончательный отъезд! Долгая и далекая поездка!
Вечером мы пили чай в комнате у Милли. Пламя камина и свечей действует на меня ободряюще. В этом алом вечернем освещении я всегда чувствовала и чувствую себя в большей безопасности, чем при свете дня, что странно, ведь нам известно: ночь – пора тех, кто любит тьму и не любит света, это пора, когда поблизости бродит зло. Но, возможно, само сознание опасности, подстерегающей снаружи, усиливает нашу радость в ярко освещенной комнате – как буря, ревущая и завывающая над крышей.
Очень уютно устроившись, мы с Милли болтали, как вдруг послышался стук в дверь, и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла старуха Уайт. Хмуро глядя на нас, уцепившись темными когтистыми пальцами за дверную ручку, она сказала Милли:
– Хватит веселиться, мисс, вам черед у отца быть.
– Он болен? – спросила я.
Она ответила, обращаясь не ко мне, но к Милли:
– Два часа мучается в припадке – как господин Дадли уехал. Сдается мне, помрет бедняга. Я сама горевала, глядя, как господин Дадли уезжал в сырость-то такую. И без того столько уж бед на эту семью свалилось! Да, семье конец подходит, так думаю. Беда за бедой, беда за бедой – вслед за последними переменами.
Судя по ее мрачному взгляду, при этих словах брошенному на меня, именно я олицетворяла собой «последние перемены», с какими связывались все печали дома.
Нерасположение даже такой ужасной старухи меня обидело, ведь я, увы, принадлежала к тем несчастным созданиям, которые не способны держаться равнодушно, когда того требует разум, и всегда жаждут доброты, пусть и от самых ничтожных людей.
– Надо идти. Вот бы ты, Мод, со мной пошла! Мне одной так страшно… – проговорила Милли.
– Конечно, Милли, – ответила я упавшим голосом – ведь вы догадываетесь, что я тоже боялась, – тебе не придется сидеть там одной.
И мы пошли вместе, а старая Уайт по пути заклинала нас не шуметь.
Мы прошли через кабинет старика, где в тот день состоялся его краткий, но столь важный разговор со мной, где он прощался с сыном, и вошли в спальню.
В камине горел неяркий огонь. Комната почти погрузилась в сумерки. Кроме тусклой лампы на полу у дальнего конца кровати, комната ничем не освещалась. Старая Уайт потребовала, чтобы мы говорили только шепотом и не отходили от камина – разве больной позовет или совсем обессилеет. Таковы были распоряжения доктора, навещавшего дядю.
И вот мы с Милли сели у камина, а старая Уайт оставила нас справляться, как сможем. Мы слышали дыхание больного, но он не шевелился. Говорили шепотом: впрочем, разговор наш вскоре сам собой угас. Я, по обыкновению, порицала себя за доставленные всем страдания. Через полчаса перешептываний с паузами, которые длились все дольше, я поняла, что Милли одолевал сон.
Она боролась со сном, и я старалась разговорить ее, но тщетно. Она заснула, и в этой мрачной комнате я теперь бодрствовала одна.
Воспоминания о моем прошлом бдении здесь наполняли душу трепетом. Не занимай я свой ум мыслями о прозаических предметах – не возвращайся к ужасному предложению Дадли, к подозрительной терпимости, проявленной в этих обстоятельствах дядей, и к моему собственному поведению в неприятнейшие для меня дни, – мне было бы намного тягостнее.
Но я могла размышлять о моих действительных бедах, немного думала о кузине Монике и, признаюсь, очень много – о лорде Илбури. Направив взгляд в сторону двери, я вдруг увидела человеческое лицо, страшнее которого не нарисовало бы и мое воображение; некто не отрываясь смотрел в комнату. Я увидела только часть фигуры, скрывавшейся за дверью, и цепкие пальцы на ней. Лицо было обращено к кровати и в слабом свете казалось иссиня-серой маской, с глазами белыми как мел.
Я так часто пугалась подобных видений, когда случайная игра света и тени искажала знакомые предметы, что наклонилась вперед, ожидая (хотя и охваченная дрожью), что сейчас оно исчезнет, распадется на безобидные элементы. Но, к моему невыразимому ужасу, я уверилась, что вижу лицо мадам де Ларужьер.
Я вскрикнула, отшатнулась и яростно затрясла спящую Милли.
– Смотри! Смотри! – кричала я. Но фигура – или то был мираж? – исчезла.
Я так крепко ухватилась за руку Милли, съежившись позади нее, что она не могла встать.
– Милли! Милли! Милли! Милли! – продолжала кричать я, будто лишившаяся рассудка и позабывшая все другие слова.
Милли, которая ничего не видела и не могла понять причину моего ужаса, в панике собрала силы и вскочила на ноги; прильнув друг к другу, мы укрылись в углу комнаты, я же продолжала громко кричать: «Милли! Милли! Милли!»
– Что… где… что ты видишь? – закричала и Милли, прижимаясь ко мне столь же крепко, как и я к ней.
– Вернется! Вернется! О Боже!
– Что… что, Мод?
– Лицо! Лицо! – кричала я. – О Милли! Милли! Милли!
Мы услышали тихие шаги, приближавшиеся к раскрытой двери. Sauve qui peut![76]76
Спасайся, кто может! (фр.)
[Закрыть] В ужасе, наталкиваясь друг на друга, мы устремились к лампе у изголовья дядиной кровати. Но голос представшей перед нами старой Уайт несколько ободрил нас.
– Милли, – сказала я, как только добралась до своей комнаты (я едва держалась на ногах), – никакая на свете сила больше не заставит меня войти в ту спальню после заката.
– Мод, дорогая, что, черт возьми, ты видела? – спросила Милли, испуганная, наверное, чуть меньше меня.
– Не могу, не могу, не могу, Милли… Никогда не спрашивай! Это комната с привидениями… с ужасными привидениями!..
– Чарк?.. – шепотом спросила ошеломленная Милли, оглядываясь через плечо.
– Нет, нет. Не спрашивай меня! Злой дух в худшем из обличий.
Наконец я нашла облегчение в слезах. Всю ночь добрая Мэри Куинс сидела подле меня, а Милли спала со мной рядом. Пробуждаясь с криком, прибегая к нюхательной соли, я пережила ту ночь сверхъестественного ужаса и вновь увидела благословенный свет небес.
Доктор Джолкс, утром навестивший дядю, зашел и ко мне. Он объявил, что я крайне истерична, подробно расспросил о моем режиме и диете, поинтересовался, что я ела накануне за обедом. Прозвучавшая затем холодная и уверенная критика моей теории касательно привидений подействовала на меня несколько успокаивающе. Предписания же были такие: исключить чай, заменив его шоколадом и портером, раньше ложиться… что-то еще, но что – я уже забыла. Он ручался: если я буду следовать его рекомендациям, то больше не увижу ни одного привидения.