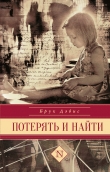Текст книги "Дядя Сайлас. История Бартрама-Хо"
Автор книги: Джозеф Шеридан Ле Фаню
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Глава XXVIII
Меня убеждают
Итак, я наконец узнала таинственную историю бесчестья дяди Сайласа. Какое-то время мы сидели молча, и я, глядя в пустоту, посылала пышную, разукрашенную гирляндами и бубенцами триумфальную колесницу – через воображаемый город – за ним, возглашая: «Невинен! Невинен! Да будет увенчан мученик!» Все достоинства и добродетели, справедливость, совесть в мириаде оттенков на лицах людей – а люди теснятся всюду: на тротуарах, в окнах, на крышах, – соединились в ликующем кличе; трубы трубят, барабаны бьют, под величавый орган из раскрытых врат храма гремит хор – поет хвалу и благодарение… колокольный звон… залпы из пушек… воздух трепещет от бурных созвучий вселенской радости, а Сайлас Руфин как на портрете, в полный рост, – стоит в блистающей колеснице, с гордым, печалью затуманенным ликом, не веселясь с веселящимися… за его спиной раб – тонок как призрак и бледен – что-то глумливо нашептывает ему в ухо… я же и голоса всего города – мы оглашаем: «Невинен! Невинен! Да будет увенчан мученик!» Но вот видение пропало, и передо мной осталось лишь задумчивое, серьезное, не без тени сарказма лицо леди Ноуллз, а снаружи гудела, в отчаянии стенала буря.
Как хорошо, что кузина провела со мной столько времени. Но, боюсь, это было невыразимо утомительно. Теперь же она заговорила о делах дома и открыто готовилась к отъезду. Сердце у меня защемило.
Я и тогда не могла разобраться, какие чувства приводили меня в смятение, не уверена, что могу сделать это сейчас. Любые подозрения в отношении дяди Сайласа, казалось, подрывали бы основы моей веры, были бы святотатством. И все же, наверное, именно подозрения, неотчетливые, то гаснувшие, то вновь вспыхивавшие в глубине моей души, и причиняли боль, от которой я так страдала.
Мне нездоровилось. Леди Ноуллз гуляла, долгие променады освежали ее. Солнце садилось. Вошла Мэри Куинс – с письмом, только что доставленным почтой. Мое сердце учащенно забилось. Я не решалась сломать большую черную печать Письмо было от дяди Сайласа. Пытаясь смягчить возможный удар, я перебирала в уме все рескрипты, которые оно могло содержать. Наконец я вскрыла письмо. В нем было повеление приготовиться к переезду в Бартрам-Хо. Было сказано, что я могу взять с собой двух горничных, если уж мои потребности в прислуге столь нескромны. О деталях предстоявшего мне путешествия и о дне отъезда в Дербишир он сообщит дополнительно. На время отсутствия мне предлагалось распорядиться в отношении Ноула, но дядя заявлял, что не считает себя достаточно осведомленным в подобных вопросах, чтобы давать мне советы. Засим он молился чтобы ему достало сил исполнить долг для вящего спокойствия его совести, а также призывал, чтобы я, вступая в новый круг, укрепила молитвой и свой дух.
Я окинула взглядом комнату, такую знакомую и ставшую мне такой дорогой при мысли о том, что скоро расстанусь с ней. Старый дом, милый, о милый Ноул, как я оставлю тебя и твоих благожелательных обитателей, добрые улыбки и голоса… ради чужбины!
С тяжелым вздохом взяла я письмо дяди Сайласа и спустилась вниз, направляясь в гостиную. Помедлив у окна в холле, я разглядывала деревья в лесу, который так хорошо знала. Солнце село. Уже настали сумерки, и дыхание ночи белым туманом затянуло поредевшую, пожелтевшую листву. Все источало грусть. Как же мало завидовавшие молодой, сказочно богатой наследнице подозревали о тяжести у нее на сердце и как радовались за нее в миг, когда она почти прощалась с жизнью!
Леди Ноуллз все не возвращалась. Быстро темнело, в небе, на западной его стороне, собирались мрачные тучи, меж ними еще виднелся слабый сероватый блеск потухшего дня.
В гостиной уже сгустились тени; если бы не этот слабый холодный свет, я бы не увидела черную фигуру, стоявшую у зашторенного окна.
Человек в скрипучих башмаках порывисто двинулся мне навстречу. Это был доктор Брайерли.
Я испугалась и удивилась – как же он проник сюда? Я застыла на месте, не сводя с него глаз; боюсь, я показалась ему ужасно неловкой.
– Здравствуйте, мисс Руфин, – произнес он, протягивая руку с длинными пальцами, жесткую, коричневую, как у мумии. Он слегка наклонился – в сумрачной гостиной разглядеть лицо было трудно. – Вы удивлены, я полагаю, видя меня здесь снова так скоро?
– Я не знала, что вы приехали. Рада вас видеть, доктор Брайерли. Ничего неприятного не произошло, надеюсь?
– Нет, мисс, ничего неприятного. Завещание представлено и в свое время будет утверждено. Но у меня есть некоторые соображения, есть два-три вопроса к вам, на которые лучше отвечать не торопясь, обдуманно. Леди Ноуллз еще не уехала?
– Она в Ноуле. Но пока не вернулась с прогулки.
– Я рад, что она здесь. Я думаю, у нее здравый взгляд на вещи. И женщины скорее поймут друг друга. Что касается меня, мой долг – высказать вам мои соображения и предложить, в случае вашего согласия, свои услуги в устройстве дела иным образом. Ведь вы не знаете вашего дядю, как говорили недавно?
– Нет, я никогда не видела его.
– Вам понятно намерение вашего покойного отца, назначившего мистера Сайласа Руфина вашим опекуном?
– Я думаю, мой покойный отец желал показать, сколь высоко оценивает дядину пригодность к такого рода ответственности.
– Совершенно верно, но характер опеки в данном случае необычен.
– Не понимаю вас.
– Если вы умираете, не достигнув двадцати одного года, все ваше состояние переходит к нему – вам ясно? Пока же он держит вас под своей опекой – вы живете в его доме под его наблюдением и под его властью. Думаю, теперь вам все ясно. Когда ваш отец читал проект завещания, я высказался против этого распоряжения, мне оно не понравилось. А вам?
Я молчала – не уверенная, что правильно поняла доктора.
– И чем больше я думаю об этом распоряжении, тем меньше оно мне нравится, мисс, – произнес доктор ровным, жестким голосом.
– Господи милосердный! Не хотите же вы сказать, доктор Брайерли, что под крышей моего дяди я буду в меньшей безопасности, чем была бы у лорда-канцлера? – воскликнула я, прямо глядя доктору в глаза.
– Но разве вы не понимаете, мисс, что он окажется в сложном положении, – несколько поколебавшись, сказал доктор в ответ.
– Допустим, он так не думает. Думай он так, он отклонил бы ответственность.
– Верно, но он не сделал этого. Вот письмо, – доктор показал письмо, – где он официально выражает согласие принять опекунство над вами. Считаю, до его сведения следовало бы довести, что он поступает неделикатно, учитывая все обстоятельства. Вам ведь известно, мисс, что о вашем дяде, мистере Сайласе Руфине, шла дурная молва?
– В связи… – начала я.
– В связи со смертью мистера Чарка в Бартраме-Хо.
– Да, мне известно об этом, – сказала я, пугаясь слишком уверенного тона доктора.
– Мы, конечно, обязаны считать, что говорили без оснований, но многие думают совершенно иначе.
– Возможно, доктор Брайерли, именно по этой причине мой дорогой отец назначил его моим опекуном.
– Несомненно, мисс. Ради того, чтобы очистить его от подозрений.
– А если он пообещал с честью исполнить долг и оправдать доверие, не кажется ли вам, что, сделав это, он заставит клеветников замолчать?
– Сложись обстоятельства благоприятно, возможно, толков будет и меньше, впрочем, вы ждете слишком многого. Но предположим, вы умрете, мисс, не достигнув совершеннолетия. Все мы смертны, а речь идет о сроке в три года и несколько месяцев. Что тогда? Разве вы не понимаете? Только вообразите, что будут говорить тогда!
– Кажется, вы знаете, мой дядя – человек набожный, заметила я.
– И что же, мисс? – спросил доктор.
– Он… он столько страдал, – продолжала я. – Он давно удалился от мира, он очень религиозен. Поинтересуйтесь у нашего викария, мистера Фэрфилда, если вы сомневаетесь.
– Я не оспариваю сказанного, мисс, просто я рассуждаю о том, что может случиться несчастье. Например, оспа или дифтерия. Такое часто бывает. Три года и три месяца – долгий срок. Вы едете с поклажей в Бартрам-Хо, думая, что запаслись на годы, но Господь говорит: «О, глупое создание! Сегодня твоя душа берется от тебя». Вы едете и… Что думать о вашем дяде, мистере Сайласе Руфине, которого давно в его графстве именуют «вором-карманником» и даже похуже, как я слышал?
– Вы, доктор Брайерли, – религиозный человек… в соответствии с вашими представлениями?
Сведенборгианец улыбнулся.
– Вы сами испытали могучее воздействие веры и знаете, что он тоже верует, – так не думаете ли вы, что ему можно предаться без опасения? Не думаете ли вы, что эта возможность – доказать одновременно чистоту своих помыслов и справедливость мнения моего дорогого отца о брате – открыта перед ним ко благу и что нам следует предоставить все в руки Господни?
– Очевидно, в том была воля Господа, – произнес доктор Брайерли очень тихо; выражения его лица я не видела, ведь он опустил глаза и тростью чертил какие-то диаграммы на темном ковре, – да, воля Господа, что о вашем дяде до сей поры шла дурная слава. Противодействуя Провидению, нам следует прибегать к нашему разуму и стараться честно оценивать средства: если ими можно как навредить, так и принести пользу, мы не вправе наш эксперимент обращать в испытание. Я думаю, вам необходимо все хорошо взвесить, я убежден, что принятое вами решение можно оспорить. Если вы посчитаете опеку над собой желательной, знайте – ее можно передать леди Ноуллз. Я приложу все усилия, чтобы устроить это.
– Но ведь без его согласия такое решение невозможно, – заметила я.
– Невозможно, – подтвердил доктор, – однако у меня не пропала надежда добиться его согласия – на определенных условиях, разумеется.
– Я не совсем понимаю вас.
– Предположим, ему выплатят сумму, предназначавшуюся на ваше содержание. Что вы на это скажете?
– Я очень ошибаюсь в дяде, – сказала я, – если эти деньги представляют для него хоть что-то в сравнении с неоценимой моральной выгодой назначенной ему роли. Лишившись ее, он, уверена, откажется и от денег.
– Наше дело попробовать. – На смуглом жестком лице доктора Брайерли даже при скудном свете, едва проникавшем из окна в гостиную, я различила улыбку.
– Возможно, я кажусь вам крайне наивной, полагая, что он способен руководствоваться любыми целями, кроме корыстных, – сказала я. – Но он мой близкий родственник, и я не могу думать о нем иначе, сэр.
– Все это очень серьезно, мисс Руфин, – ответствовал доктор Брайерли. – Вы еще так молоды и сейчас не можете понять того, что поймете позже. Он человек пренабожный, говорите вы, но его дом – неподходящее для вас место. Заброшенное поместье, хозяин-изгой, стены, видевшие скандалов без счету и одно страшное злодеяние. Леди Ноуллз убеждена, что, поселившись там, вы навредите себе непоправимо и на всю жизнь.
– Да-да, Мод, – подтвердила леди Ноуллз, незаметно вошедшая в гостиную. – Здравствуйте, доктор Брайерли! Навредите себе непоправимо, Мод. Вы не представляете, как осуждают тот дом, как его сторонятся; даже имена обитателей под запретом.
– Чудовищно!.. Чудовищная жестокость! – воскликнула я.
– Очень неприятно, моя дорогая, но совершенно естественно. Вам следует помнить, что независимо от истории с мистером Чарком о доме всегда отзывались плохо и что джентльмены в графстве отвергли вашего дядю Сайласа задолго до этого случая. Что касается надежды, будто ваше пребывание под опекой Сайласа хоть в малой степени послужит восстановлению его репутации в графстве, – а эта надежда толкнула на особое распоряжение вашего покойного отца, который с самого начала придерживался крайне одностороннего взгляда на дело, – вы должны оставить ее. Кроме меня – если я буду допущена – и священника, ни одна душа не посетит Бартрам-Хо. Вас, возможно, пожалеют, решат, что так распорядиться вашей судьбой – предел безрассудства и бессердечия, но не захотят, как не хотели прежде, ездить в Бартрам-Хо и водить знакомство с Сайласом и его домочадцами.
– Они узнают, по крайней мере, как смотрел на дело мой дорогой отец.
– Они давно это знают, – сказала леди Ноуллз, – и его мнение для них не имело и не может иметь никакого значения. Там есть люди, считающие свой род ничем не ниже и даже выше рода Руфинов, а идею вашего покойного отца, будто он сможет убедить их подобной демонстрацией, правильнее назвать просто нелепой фантазией человека, который забыл, что такое свет, и привык мерить все своей меркой, живя в долгом затворничестве. Мне известно, что под конец он сам сомневался в правильности своего замысла, а будь ему отпущен еще год, он вычеркнул бы этот пункт завещания.
Доктор Брайерли кивнул и сказал:
– Если бы он писал завещание сейчас, разве он оставил бы это распоряжение – с любой точки зрения ошибочное и вредящее вам, его дочери? Предположим, вы умираете, находясь под крышей вашего дяди, под его опекой. Прискорбным образом рухнет замысел завещателя, волна подозрении, расспросов прокатится по всей Англии, и о старом скандале заговорят столь же громко, как прежде.
– Доктор Брайерли все устроит, я не сомневаюсь. В действительности, думаю, будет нетрудно договориться с Сайласом. А если вы не согласны на предложение доктора, запомните мои слова, Мод: вам придется раскаиваться до конца дней.
Двое людей были передо мной – со своим взглядом на вопрос, оба совершенно чуждые корысти, оба, каждый по-своему, проницательные, наверное, даже мудрые. И оба искренне пытались удержать меня от исполнения воли покойного отца, но лишь растревожили мое воображение и взволновали мой ум. В наступившем молчании я переводила взгляд с одного лица на другое. Уже принесли свечи, и я могла хорошо видеть их лица.
– Я жду только вашего решения, мисс Руфин, – сказал попечитель, – и тогда встречусь с вашим дядей. Если его выгода являлась главной целью, преследуемой сим распоряжением, ваш дядя будет самым лучшим судьей тому, действительно ли приняты во внимание его интересы, и я полагаю, он ясно увидит, что это не так. И даст соответствующий ответ.
– Я ничего не могу сказать вам сейчас… Позвольте подумать… Я постараюсь… Я вам очень признательна, дорогая моя кузина Моника, вы так добры. И вы тоже, доктор Брайерли.
Доктор Брайерли в этот момент изучал свою записную книжку и не ответил на мою благодарность даже кивком.
– Мне необходимо быть в Лондоне послезавтра. Бартрам-Хо – примерно в шестидесяти милях отсюда, и только двадцать из них по железной дороге. Сорок миль на почтовых через горы Дербишира – дело долгое. Но если вы говорите: «Пробуем!» – я увижусь с ним завтра утром.
– Вы должны сказать: «Пробуем!» Должны, моя дорогая Мод.
– Но я не могу решить так сразу! О дорогая кузина Моника, я в совершенной растерянности.
– Но вам не надо ничего решать – решение за ним. Он знает больше вас. Вы только должны сказать «да».
Опять я переводила взгляд с кузины на доктора Брайерли и с доктора на кузину. Я кинулась ей на шею и, крепко обнимая, вскричала:
– О кузина Моника, дорогая кузина Моника, дайте совет мне, несчастной! Дайте же мне совет!
Я и не подозревала до того момента, насколько я нерешительная.
Не видя ее лица, я догадалась, что она улыбается, когда услышала ее слова:
– Но, дорогая, я дала вам совет. Я советую вам… – И она с горячностью добавила: – Я умоляю и заклинаю вас последовать моему совету. Вы обязаны предоставить вашему дяде Сайласу, который, поверьте, знает больше, чем вы, право решать – когда он переговорит с доктором Брайерли, осведомленным о взглядах и намерениях вашего покойного отца лучше нас с вами.
– Сказать «да»? – говорила я, беспомощно прижимаясь к кузине, целуя и целуя ее. – О, велите… велите мне сказать «да».
– Да, конечно же да. Она согласна на ваше предложение, доктор Брайерли.
– Мне вас так и понимать? – переспросил он.
– Хорошо… да, доктор Брайерли, – ответила я.
– Мудрое и правильное решение, – проговорил он тоном человека, скинувшего гору с плеч.
– Я забыла предложить, доктор Брайерли… это так неучтиво с моей стороны… Вы должны остаться на ночь у нас.
Он не может, моя дорогая, – вмешалась леди Ноуллз, – путь долог.
– Но пообедать… Вы пообедаете у нас, доктор Брайерли?
– Нет, он не может. Вы же знаете, что не можете, сэр, – проговорила она категоричным тоном. И опять обратилась ко мне: – Не беспокойте его, моя дорогая, любезностью, на какую он не может ответить согласием. Он прощается с нами. До свидания, доктор Брайерли. Напишите сразу же, не откладывайте до возвращения в Лондон. Попрощайтесь с доктором, Мод. Я должна сказать ему несколько слов в холле.
И она буквально увела его из гостиной, оставив меня в смятении, в замешательстве, лишенной возможности что-либо изменить и недовольной этим.
Я стояла там, где меня оставили, смотрела им вслед, и вид у меня был, наверное, глупейший.
Леди Ноуллз вернулась через считанные минуты. Будь я менее взволнована, я бы догадалась, что она отправила бедного доктора Брайерли искать ночлег где-нибудь на полпути к Бартраму-Хо, чтобы только удалить доктора от меня и тем самым сделать мое решение – если оно вообще принадлежало мне – бесповоротным.
– Браво, моя дорогая, – сказала кузина Моника, в свою очередь заключая меня в сердечные объятия. – Вы – маленькая умница и поступили именно так, как должны были поступить.
– Надеюсь… – проговорила я неуверенно.
– Вы еще сомневаетесь? Что за глупости! Это же ясно как день.
И тут вошел Бранстон, объявляя, что обед подан.
Глава XXIX
Как ездил посол
Когда мы сели за обеденный стол при ярких свечах, леди Ноуллз, судя по ее лицу, была, как и я, чрезвычайно взволнована, но вместе с тем утешена и обрадована. Она говорила не умолкая, делилась со мной ранними воспоминаниями о моем дорогом отце. Большей частью я их уже знала, но готова была слушать снова и снова.
И однако, в мыслях я иногда – а на самом деле часто – возвращалась к тому разговору – столь непредвиденному, столь неожиданно решающему и, возможно, необыкновенно важному. И меня все тревожил вопрос: правильно ли я поступила?
Думаю, кузина понимала мой характер лучше, чем я сама понимаю себя даже сейчас, после всех моих честных попыток разобраться в себе. Подверженная колебаниям и внезапно меняющая свои же решения, импульсивная в действиях, я, по ее мнению, была способна лишить полномочий доктора Брайерли и послать ему вдогонку контрприказ, чего она и опасалась.
Поэтому, добрая душа, она старалась занять мои мысли и, истощив одну тему, находила другую, в постоянной готовности увести меня от вопроса, который она после стольких усилий, казалось, закрыла.
В ту ночь я измучилась. Я уже укоряла себя. Не в силах заснуть, я наконец села в кровати и дала волю слезам. Я сожалела о своей слабости, из-за которой уступила доктору Брайерли и кузине. Разве не нарушаю я клятву, принесенную моему дорогому отцу? Не согласилась ли я, чтобы дядю Сайласа склонили подкрепить мою чудовищную измену не менее страшным предательством?
Кузина Моника поступила мудро, поспешно отослав доктора Брайерли, потому что, останься он в Ноуле, вне всякого сомнения, наутро я, увидевшись с ним, отменила бы свое поручение.
В тот день в кабинете я обнаружила четыре бумаги, растревожившие меня еще больше. Каждая была подписана рукою дорогого отца: «Копия моего письма к…» И назывались имена четверых попечителей, упомянутых в завещании. Итак, передо мной были копии запечатанных писем, возбудивших у меня и у леди Ноуллз любопытство в тот волнующий день, когда огласили последнюю волю отца.
Вот что я прочла.
«Называю моего пострадавшего и бедного брата, Сайласа Руфина, проживающего в принадлежащем мне имении Бартрам-Хо, опекуном моей дорогой дочери, чтобы уверить свет, если возможно, – а если невозможно, дать всем потомкам нашей фамилии доказательство, – что брат, который лучше других знает брата исполнен доверия к нему и этот последний его заслуживает. Не вижу более верного способа положить конец низкой и абсурдной клевете, порожденной политическим злоумыслием и никогда бы не запятнавшей брата, не будь он лишен средств и опрометчив в поступках. Все мое имущество переходит к брату в случае смерти моей дочери до достижения ею совершеннолетия, опеку над дочерью поручаю ему одному, веря, что мое дитя будет в такой же безопасности, предавшись его заботе, в какой было при мне. Полагаюсь на вашу память о дружбе, давно связавшей нас, и надеюсь, что при всякой возможности вы упомянете о сказанном мною в сем письме, присовокупив слова, к каким побуждает справедливость».
Содержание всех четырех писем было схожим. Сердце у меня упало, когда я прочла их. Я дрожала от страха. Что я наделала? Осмелилась помешать мудрому и благородному замыслу отца защитить нашу опороченную фамилию. Как трус, уклонилась от своего участия в деле, такого простого, такого незначительного. И еще – о Боже милосердный! – предала мертвого!
С письмами в руке, бледная от страха, я кинулась в гостиную, где была кузина Моника, и попросила ее прочесть их. По лицу кузины я поняла, как ее встревожил мой вид, но она промолчала. Пробежала глазами письма, а потом воскликнула:
– И только-то, мое дорогое дитя? Я уже воображала, что вы нашли другое завещание и потеряли все на свете! Мод, дорогая, мы это знали. Мы прекрасно понимаем мотивы покойного Остина. Вас так легко растревожить!
– Но, кузина Моника, я думаю, он прав, теперь я вижу, что это разумно, и мне – о, я преступница! – мне надо остановиться.
Мод, дорогая моя, прислушайтесь к голосу разума. Доктор Брайерли встретился с вашим дядей в Бартраме, по крайней мере, два часа назад. Вы не можете переменить свершенного, и зачем вам, зачем – даже если могли бы? Вы не считаете, что мнение вашего дяди следует принимать во внимание?
– Но он уже решил. Есть же письмо, где говорится о деле как о решенном. А доктор Брайерли… о кузина Моника, доктор поехал искушать его.
– Вздор, девочка! Доктор Брайерли, несомненно, порядочный и честный человек. О каком совращении речь? Доктор поехал искушать его? Вот выдумали! Доктор поехал представить факты и предложить ему поразмыслить над ними. И я вижу – учитывая то, что часто подобную ответственность принимают на себя по легкомыслию, и то, как долго Сайлас ведет жизнь в праздном уединении, отгородившись от мира, разучившись слушать других, – я вижу в этом благородство и разумную предусмотрительность доктора, поехавшего в Бартрам, чтобы Сайлас представил себе во всех подробностях и со всех сторон дело, прежде чем по лености мысли подвергнет себя самому большому риску, на который когда-либо отваживался.
Так возражала мне леди Ноуллз, с присущей женщинам горячностью и, должна признать, часто повторяясь, что, как я иногда замечала, отличает логиков женского пола. Она запутала меня, не убедив.
– Не знаю, зачем я пошла в кабинет, – проговорила я, очень взволнованная, – и почему взялась за эти бумаги. Мы их никогда там не видели – как же случилось, что именно сегодня они попались мне на глаза?
– Что вы хотите сказать, дорогая? – спросила леди Ноуллз.
– Я хочу сказать… я думаю, я была приведена туда… это призыв моего покойного папы ко мне, столь же явственный, как если бы его рука появилась и оставила знак на стене. – Я почти перешла на крик, завершая свое безумное признание.
– У вас разгулялись нервы, дорогая, сказываются ночи, лишенные здорового сна. Давайте выйдем – вам полезно подышать воздухом. И я уверяю вас, очень скоро вы поймете, что мы правы, и искренне порадуетесь принятому решению.
Но радость не приходила, хотя возбуждение несколько улеглось. Моя вечерняя молитва была полна раскаяния. А когда я коснулась головой подушки, я испытала мук вчетверо больше прежнего. Каждой нервической, легко возбудимой натуре знакомо это: призрачные лица, искаженные на всякий лад, одно за другим появляются перед вами, не успели вы смежить веки. В ту ночь меня беспокоило лицо отца – то бледное и резко очерченное, как будто вырезанное из слоновой кости, то странно прозрачное, как из стекла, то с ужасающе обвисшей кожей мертвеца, но неизменно – обезображенное немыслимой гримасой сатанинской ярости.
Избавиться от этого чудовищного видения я могла, только сев в кровати и неотрывно глядя на свечу. Наконец, истомленная, я заснула. И во сне отчетливо услышала папин резкий голос из-за полога: «Мод, мы опоздаем в Бартрам-Хо!»
В ужасе я пробудилась; стены, казалось, еще звенели от громкого клича, и мне почудилось, что говоривший стоял за пологом кровати.
Но страшная ночь миновала. И утром я в ночной сорочке, похожая на призрак, уже сама стояла у кровати леди Ноуллз.
– Меня предупредили, – сказала я. – О кузина Моника, ночью со мной был папа, он велел ехать в Бартрам-Хо. И я должна ехать.
Она с тревогой глядела в мое лицо, а потом попыталась обратить все в шутку, но я поняла, что она была обеспокоена странным состоянием, в которое привели меня волнения и напряженное ожидание вестей из Бартрама-Хо.
– Не слишком торопитесь с выводами, Мод, – сказала она. – Сайлас Руфин, весьма вероятно, не даст согласия на предложение доктора и настоит на том, чтобы вы приехали в Бартрам-Хо.
– На все воля Господня! – воскликнула я. – Но если дядя и согласится, мне все равно – я еду. Пусть он прогонит меня, но я попробую искупить свое вероломство.
Еще несколько часов оставалось до прибытия почты. Часы эти мы обе провели в тревожном и тягостном ожидании… я – едва не в агонии. Наконец – в минуту, ничем не похожую на вожделенную, – вошел Бранстон с почтовой сумкой. Было письмо, адресованное леди Ноуллз, – большой конверт со штемпелем Фелтрама. Депеша от доктора Брайерли. Мы вместе прочли ее. Она была датирована предыдущим днем, и говорилось в ней следующее:
«Достопочтенная мадам, сим днем в Бартраме-Хо я встречался с мистером Сайласом Руфином, и он категорически, не принимая никаких условий, отказался сложить с себя обязанности опекуна, а также позволить мисс Руфин проживать где бы то ни было, кроме как в его доме. Поскольку он обосновал свой отказ, во-первых, препятствиями морального свойства, заявив, что не вправе, из боязни каких-либо случайностей частного характера, отречься от обязательства, которое свято, будучи возложенным покойным на него как на единственного брата, и, во-вторых, указал на последствия, какие подобный отказ, ответь он на просьбу исполняющего обязанности попечителя, имел бы для его репутации, – а это в глазах света было бы равносильно самообличению, – и также поскольку он не снизошел до обсуждения со мной указанных мотивов, мне от него ничего не удалось добиться. Убедившись, что он не отступит от своего решения, я вскоре расстался с ним. Он упомянул, что приготовления к приему его племянницы завершаются и что через несколько дней он пошлет за ней, а посему, полагаю, мое присутствие в Ноуле было бы желательно для мисс Руфин, которой я смог бы помочь советом перед ее отъездом, дабы она рассчитала слуг и провела опись имущества, вверяя дом и земли попечению вплоть до ее совершеннолетия.
С почтением к Вам, мадам,
Ханс Э. Брайерли».
Я не в силах описать лицо кузины, изумленной и разгневанной. Она фыркнула раз-другой, а потом язвительно произнесла приглушенным голосом:
– Теперь, надеюсь, вы довольны.
– Нет, нет, нет, вы же знаете, что нет! Я огорчена до глубины души, о мой единственный друг, дорогая моя кузина Моника! Но теперь меня не мучает совесть. Вы не представляете, что это за жертва для меня, – несчастная я, несчастная! Я предчувствую беду… я так боюсь. Но ведь вы не оставите меня, кузина?
– Нет, дорогая, никогда, – ответила она с грустью.
– И будете навещать, когда сможете?
– Да, дорогая… если Сайлас позволит. А я уверена, что позволит, – поспешила добавить она, увидев, наверное, ужас на моем лице. – Не сомневайтесь, я сделаю все, что смогу. И возможно, он согласится время от времени отпускать вас ненадолго ко мне. Я живу всего в шести милях от него – чуть больше получаса езды, – и хотя я ненавижу Бартрам и презираю Сайласа… да, я презираю Сайласа, – повторила она, отвечая на мой удивленный взгляд, – я буду наезжать в Бартрам… то есть буду, если он мне позволит. Видите ли, я не бывала там уже четверть века, и, хотя я не понимаю Сайласа, мне кажется, он ничего не прощает.
Я недоумевала – какая застарелая обида заставляла кузину всегда с такой желчью говорить о дяде Сайласе? Я считала это несправедливым. С моим героем у меня на глазах с недавнего времени обращались столь неуважительно, что, подобно идолам, он утратил какую-то толику святости. Но как объект поклонения он по-прежнему сохранял для меня божественную свою суть, а косвенные внушения изгнать нечистую силу я отвергала, принимая их за злой умысел. Но я ошибалась, приписывая леди Ноуллз скрываемую обиду, или злобу, или еще что-то. Было только стремление держаться твердого мнения – характерное, как некоторые считают, для женского пола.
Итак, робкую надежду на опекунство кузины Моники – что, будь на то воля моего покойного папы, сделало бы меня безмерно счастливой – действительность опрокинула, план погиб окончательно. Я утешала себя обещанием кузины возобновить связь с Бартрамом-Хо, и мы немного успокоились.
Помню, на следующее утро, когда мы очень поздно сидели за завтраком, леди Ноуллз читала какое-то письмо. Неожиданно, издав возглас удивления, она рассмеялась и стала читать дальше с удвоенным интересом. Затем, опять рассмеявшись и опустив руку с раскрытым письмом возле своей чайной чашки, она подняла глаза.
– Вам не догадаться, о ком я читала, – сказала она с лукавой улыбкой, чуть склонив голову набок.
Я почувствовала, что вся залилась краской: щеки, лоб до корней волос; пунцовели даже кончики пальцев. Она веселилась. Неужели… неужели же капитан Оукли женился?
– Не представляю, – ответила я с тем притворным безразличием, какое всегда нас выдает.
– По вашему виду совершенно ясно, что не представляете, но знали бы вы, как мило вы покраснели, – заметила она, забавляясь моим смущением.
– Я на самом деле не имею ни малейшего представления, – проговорила я в тщетной попытке не уронить достоинство и краснея все сильнее.
– Попробуйте угадать!
– Я не могу.
– Сказать вам?
– Если хотите.
– Хорошо, скажу, то есть я прочту вам страничку из этого письма, и вы все поймете. Вы знакомы с Джорджианой Фаншо?
– С леди Джорджианой? Нет, – ответила я.
– Не важно, она сейчас в Париже, это письмо от нее, и она пишет… Дайте-ка найду место… «Вчера – что бы вы думали, нет, вы только вообразите! Вот так видение! Вчера мой брат Крейвен настоял, чтобы я сопровождала его в лавку Le Bas, приютившуюся на старой улочке возле Гревской площади{36}, – там торгуют всякими забавными древностями. Забыла, как у них зовутся такие лавки. Мы оказались чуть ли не единственными, кто желал потешить себя стариной, и в лавке действительно было столько всяких любопытных вещей, что вначале я не заметила высокую женщину в сером шелковом платье, черной бархатной накидке и в прехорошенькой, по последней парижской моде, шляпке. Между прочим, вы будете очарованы новым фасоном. Он вошел в моду всего три недели назад. Неописуемо элегантная шляпка, по крайней мере, я так считаю. Я уверена, ими уже торгуют у Молница, и больше ничего не добавлю. Но раз уж я заговорила о нарядах, то скажу, что кружево вам приобрела, и, думаю, с вашей стороны будет неблагодарностью не прийти от него в восторг; очаровательное кружево». Так, это пропустим… вот… И кузина продолжила чтение: – «Но вы спросите о моей таинственной даме в модной шляпке. Дама восседала на стуле у прилавка и, очевидно, не покупала, но хотела продать камешки и всякие безделушки, которыми у нее была полна коробка для визитных карточек, человек же брал из коробки вещицы одну за другой и, наверное, оценивал. Я уже присмотрела прехорошенький маленький крестик, усыпанный жемчугом, – с полдюжины действительно дивных жемчужин! – и уже мечтала дополнить им свой гарнитур, как тут леди окинула меня взглядом и узнала… Мы узнали друг друга. И кто бы, вы думали, она была? Вы за неделю не отгадаете! А я не могу ждать так долго, поэтому лучше скажу вам сразу. Она была той ужасной старухой – мадемуазель де Бласмар, – которую вы однажды показали мне в Элверстоне. У меня навсегда запечатлелось в памяти ее лицо, а она, кажется, не забыла мое, потому что в ту же минуту отвернулась, и когда я взглянула на нее опять, ее вуаль была опущена». Разве вы, Мод, не говорили мне, что потеряли жемчужный крестик как раз во время пребывания той отвратительной мадам де Ларужьер в вашем доме?