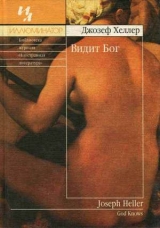
Текст книги "Видит Бог"
Автор книги: Джозеф Хеллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Она делает несколько размашистых, торопливых шагов взад-вперед, проходя совсем близко от моего ложа. Обладай я хоть частью проворства и силы прежних моих дней, я бы уже сцапал ее за промежность достаточно крепко, чтобы затащить к себе в постель. Видит Бог, мне этого хочется. На ней сегодня просторный жемчужного тона покров, с очень открытой грудью и с безвкусным боковым разрезом, восходящим вдоль ее пухлого бедра почти до узкой талии. Когда она останавливается, чтобы резко развернуться, или плюхается в кресло и подбирает ноги, чтобы снова подняться, взгляд мой почти неизменно натыкается на пепельно-светлые лохмы и на изгибы плоти, образующей половину ее ягодицы. Голова моей высокой, белокурой жены отливает сегодня светозарной желтизной, ноги чисто вымыты. Она напомадилась чем-то сладким, отдающим лавандой с некоей неуловимо едкой примесью.
– Ты, я вижу, перестала носить белье, – замечаю я.
– Поскольку меня теперь тошнит от любви, – рассеянно бормочет она, – я не считаю себя обязанной выглядеть сексуальной.
Мы все уже знаем, что нижнее белье так и не вошло у нас в моду. Вирсавия же претерпела очередное творческое разочарование.
– Ты обещал, – бранчливым тоном продолжает она, – что положишь конец его выходкам.
– Это ты говорила, что я должен положить им конец, – добродушно поправляю я ее, не пытаясь, когда наши взгляды на миг встречаются, скрыть обуревающее меня веселье.
– Какое он имеет право провозглашать, что будет царем?
– Провозглашать? – переспрашиваю я.
Она малость сдает назад:
– Ну, почти провозглашать. Во всяком случае, он разъезжает повсюду на колеснице и говорит, что скоро станет царем.
– Скорее всего, и станет. Так что пусть себе провозглашает.
– Значит, ты велел ему объявить об этом?
– А разве он не имеет на это права?
– Утверждать, что он станет царем?
– Когда я умру, он им станет.
– Но не сейчас же. И почему обязательно он?
– Потому что он старший сын, вот почему.
– Опять «старший»? – Вирсавия с отвращением глядит на меня. – Покажи мне, где это написано. Мы евреи, а не месопотамцы. Разве Рувим не был у Иакова старшим? И посмотри, в какой заднице он оказался?
– Ты снова совещалась с Нафаном, так, что ли? – наступает мой черед сделать выпад. – Рувим был ненадежен, как вода.
– Тебя послушать, – презрительно фыркает Вирсавия, – так все ненадежны, как вода. Адония твой, что ли, надежен? Рувима обошли, потому что он спал с одной из женщин своего отца, разве нет? А ты не заметил, как Адония пялится на Ависагу? Как он ей подмигивает? Можешь мне поверить, он не будет дожидаться, пока ты помрешь, чтобы на нее навалиться. Она знает, о чем я говорю.
Вирсавия бросает взгляд на мою скромную служанку, сидящую с горшочками косметики перед полированного металла зеркалом, умащая косточки, выступающие вкруг глаз и накладывая сиреневую краску на веки.
– Так ведь, дитя мое?
Ависага, немного краснея, с улыбкой кивает.
– Как он с тобой обходился, что говорил?
– Он глядел мне прямо в глаза и все время хихикал, – отвечает Ависага. – И подмигивал.
– А говорил он тебе, что будет царем?
– Говорил, – отзывается Ависага, – и просил быть с ним поласковее. А Адония правда будет царем, господин мой?
– Видал? – восклицает Вирсавия. – Разве мой Соломон так поступил бы?
– Ладно, давай сюда Соломона, – решаюсь я.
Вирсавия громко вздыхает.
– Ты ни на минуту не пожалеешь, что послал за моим Соломоном, – провозглашает она. – На него нарадоваться нельзя, на моего Соломона. Сокровище! Ты будешь им гордиться.
– Соломон, – очень терпеливо начинаю я, преисполнившись лучших намерений – попытаться еще раз проникнуть в глубины души нашего сына, если, конечно, мне повезет и я их обнаружу. В конце концов Адония тоже далеко не Эйнштейн. – Ты знаешь… даже ты знаешь… – Я прерываюсь, чтобы перевести дыхание, ежась от неуютного нажима его цепенящей пристальности. Он, как обычно, сидит, каменно вслушиваясь в мои слова, держа наготове стило и глиняную табличку, безрадостная башка наклонена ко мне с уважительностью, почти оскорбительной, глядя на него, можно подумать, будто всякое мое слово надлежит немедленно высекать в камне.
– Соломон, – отхлебнув воды из кувшина, вновь начинаю я тоном еще более мягким, – даже ты знаешь о Семее, сыне Гера, – ты помнишь? – который злословил меня тяжким злословием в день, когда я бежал из Иерусалима в Маханаим. Однако, когда я вернулся к Иордану, он пришел ко мне в раскаянии, и я именем Господа поклялся перед ним, что не предам его смерти от меча. Теперь слушай внимательно. – Соломон серьезно кивает, показывая, что слушает внимательно, и с застывшей от напряжения образиной придвигается поближе. К сожалению, мне некуда отодвинуться от него. Дыхание его отвратительно, в нем слишком много сладости, похоже, он пользуется каким-то гнусным мужским одеколоном, мажет им лицо и подмышки. – Однако я не поклялся, что ты не предашь его смерти от меча, правильно? – с лукавым напором заключаю я и прищелкиваю языком, неспособный удержаться, чтобы не фыркнуть, радуясь собственному хитроумию.
– Ты ведь понял, о чем я толкую, не так ли?
Соломон, покивав, точно слон, головой, ответствует:
– Я понял.
– Что ты понял?
– Ты поклялся, что не предашь его смерти, – бестонно зачитывает он с таблички. – Но не поклялся, что я не предам его смерти.
Он произносит эти слова без какого-либо проблеска веселья на мрачной физиономии, и меня охватывает тяжкое ощущение, что ни черта он не понял, о чем я ему толковал.
– Соломон. – Ависага, голубушка, принеси мне немного этой пакости, которую ты приготовила, чтобы угомонить мой желудок.
– Бикарбоната натрия?
– Нет, тут требуется что-нибудь покруче. Помнишь, та смесь алоэ, горечавки, валерианы, хины, водосбора, сыти, ревеня, дудника, мирра, пупавки, шафрана и мятного масла?
– «Ферне-Бранка»?
– Да, лапушка моя. Соломон, придвинься поближе, еще ближе – нет, довольно.
Не выношу мужских одеколонов, как и сладости мужского дыхания, и то, и другое заставляет меня виновато вспоминать о кучах дерьма, которыми человек метит свой жизненный путь, старательно делая вид, что они к нему никакого отношения не имеют.
– Соломон, возлюбленный сын мой, – говорю я ему голосом, пониженным до уровня почти священной серьезности, – я собираюсь открыть тебе ныне бесценную тайну всякого царствования, тайну, которая позволит тебе править достойно, заручившись почтением всех твоих подданных, даже тех, кто исполнен вражды к тебе. Ты ведь хочешь когда-нибудь стать царем, правда? Царем стать хочешь?
– Царем стать хочу.
– А почему ты хочешь стать царем?
– Потому что люблю обезьян и павлинов.
– Обезьян и павлинов? Шлёма, Шлёма, ты сказал – обезьян и павлинов?
– Я люблю обезьян и павлинов.
– Ты любишь обезьян и павлинов?
– А еще я люблю сапфиры и престолы из слоновой кости, обложенные чистым золотом, и чтобы два льва стояли у локотников, и еще двенадцать львов стояли на шести ступенях по обе стороны, и чтобы на кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов.
– Огурцов и распускающихся цветов?
– Ага, огурцов и распускающихся цветов.
– И поэтому ты хочешь стать царем?
– Это мама хочет, чтобы я стал царем.
– Что еще за огурцы такие?
– Не знаю. Она думает, что, став царем, я буду счастлив.
– Я вот стал царем, а счастья что-то не прибавилось, – говорю я ему.
– Может быть, тебе следовало завести обезьян и павлинов.
– Много?
– Чем больше, тем лучше.
– Соломон, ты произносишь это и не улыбаешься. Ты вообще не улыбаешься. По-моему, я ни разу не видел твоей улыбки.
– Наверное, повода не представилось. Вот если бы у меня были обезьяны и павлины…
– Соломон, мальчик мой, – говорю я, – позволь поделиться с тобой мудростью. Мудрость, знаешь ли, лучше жемчуга, и, может быть, она даже лучше обезьян и павлинов.
– Можно я это запишу? – учтиво прерывает меня Соломон. – Это звучит как мудрость.
– Это она самая и есть, – важно нахмурясь, сообщаю я.
– Значит, как ты сказал?
– Мудрость лучше жемчуга, – повторяю я, – и, может быть, она даже лучше обезьян и павлинов.
– Мудрость лучше жемчуга. – Писать, не шевеля губами, у него не получается. – И, может быть, она даже лучше обезьян и павлинов. Так это и есть мудрость?
– И даже премудрость, Соломон. А теперь, прошу, выслушай меня со вниманием. – В горле у меня опять пересохло. – Если ты когда-нибудь станешь царем, и если ты хочешь, чтобы тебя почитали как царя и считали, что ты достоин царства, и если тебе когда-нибудь случится вкушать из царского кубка вино сока пальмы финиковой или вино гранатовое в окружении тех, чье доброе мнение ты норовишь заслужить, всегда следи, чтобы нос твой не покидал пределов кубка царского.
– Пределов кубка?
– Пределов кубка.
– Чтобы нос не покидал пределов кубка царского, – повторяет сам себе Соломон и записывает и, закончив писать, ждет продолжения без малейших признаков интереса на лице.
– Ты не хочешь спросить меня почему? – испытываю я его.
– Почему? – послушно повторяет он. Вот почти и вся любознательность, какой мне удалось от него когда-либо добиться.
– Потому что в противном случае, – уведомляю я его, давая наконец волю чувствам, – вино прольется тебе на шею, идиот чертов! Ависага! Ависага! Укажи ему на дверь. Укажи ему на долбаную дверь! Укажи Шлёме, где тут у нас эта распродолбанная дверь!
– Дверь я вижу.
– Пошел вон отсюда, пошел вон, кретин, истукан, убирайся прочь, убирайся! Ависага, тащи сюда эту гадость для успокоенья желудка! О, если б только слова мои были записаны в книгу! Какой бы козел в них поверил?
Ависага бы и поверила. Ависага верит всякому моему слову.
Не то что Вирсавия – Вирсавия по-прежнему старается убедить меня в том, что Соломон мудрейший человек во всем моем царстве.
– После тебя, конечно, – с ритуальной учтивостью заверяет она. – Он записывает каждое твое слово.
– И ни хрена в них не понимает. Да еще и выдает их за свои собственные. Я-то знаю. Доносчиков мне хватает.
– Поужинай с ним нынче вечером, – просит она. Сегодня на ней аквамариновый халат с цветастым шлейфом, который, расходясь, обвивает ей лодыжки, когда она, вышагивая, резко поворачивается, а под халат она надела узенькие «цветунчики», которые зовет «панталонами». Она встает коленями на мое ложе и берет меня за руку. Ладони ее дышат ласковым теплом. Она теперь редко прикасается ко мне.
– Тебе нужно узнать его получше. Получится так мило, правда? Вас будет только двое, никого больше. Ну что ты? – Почувствовав, как меня передернуло, она отпихивает мою руку, точно какую-нибудь рептилию. – Ну, может быть, еще я буду. И возможно, Нафан. И Ванея.
– Нет-нет-нет-нет, за миллион лет нет, – говорю я ей. – Даже за миллиард. Никогда в жизни я больше не сяду с Соломоном за стол и уж тем более не в один из последних моих дней. Он провожает глазами каждую проглоченную мной ложку, а после старается съесть ровно столько же. Если у него спросить, сколько сейчас времени, он, может, и скажет, но потом непременно прицепится сам с тем же вопросом. И он никогда не шутит. Тебе приходилось видеть, как он смеется?
– Да с чего бы ему смеяться? – пожимая плечами, спрашивает она. – У него вон любимый отец совсем стал старенький, того и гляди помрет.
Я поворачиваюсь на бок чтобы получше вглядеться в нее.
– Он так и таскается по улицам, понося глухих последними словами?
– Это лишь доказывает, какой он добрый человек, – отвечает моя жена. – Глухие его все равно не слышат, какая им разница, что он говорит?
– И подсовывает камни слепым под ноги?
– Но ведь никто другой об них все равно не споткнется.
– И когда он утром берет у человека плащ в залог, он нипочем не возвращает его на закате, так? Чтобы нищему было чем согреться в ночное время?
– А как бы еще он смог убедиться в своей способности делать накопления?
– Вот именно, накопления. Я ему покажу накопления! Да черт меня подери, разве вся суть заповедей не в том и состоит, что нельзя принуждать человека платить, когда ему это не по карману? Не действует по принужденью милость. Тебе не приходилось об этом слышать? Как теплый дождь, она спадает с неба на землю и вдвойне благословенна. Хоть что-нибудь ты из Исхода и Второзакония извлекла?
– Я их больше не читаю.
– Ну да, тебе хватает краткого переложения в исполнении Нафана, не так ли?
– При чем тут Нафан?
– А твой Соломон, этот хрен моржовый, не удосужился даже огородить свою крышу, чтобы уберечь себя от обвинений в пролитии крови невинного, если кто-нибудь свалится оттуда. Погоди-погоди. Если не книга Левит, то Второзаконие точно до него доберется.
– Он мудрый.
– Соломон?
– Он же все равно никого к себе не приглашает, – поясняет она с видом человека, приводящего неотразимое доказательство. – Зачем же бросать деньги на ветер и строить ограду, которая ему не нужна? Видишь, какой он мудрый? Видишь, какая польза будет от него экономике нашей державы?
– Гниль от него по всей державе пойдет, – отвечаю я. – Если ему не хватает денег на то, чтобы укрепить крышу своего дома, пусть продаст гнусные амулеты, которые он собирает. Вот на что у него все деньги уходят, на амулеты. Да еще ему обезьян подавай с павлинами.
– Амулеты – это хорошее вложение капитала. Они непременно вырастут в цене.
– Какое, к черту, «вложение»? Я ему устрою «вложение»! Распаляют они его, вот он за них и хватается. Ну, наградила ты меня сынком, спасибо! Мало того, он еще и по чужеземным бабам шастает, ездит к ним в Едом, Моав и Аммон, скажешь, не так?
– Как будто ты не шастал.
– Я забирал их в гарем. А он строит алтари всяким странным богам.
– Можно подумать, что наш не странный.
– Он-то, по крайности, наш. И я всегда хранил верность моим наложницам и женам.
– Это когда со мной шился? – спрашивает она.
– Ну, почти всегда, – покорно поправляюсь я.
– Ты совершал прелюбодейство, Давид. И знал об этом, прямо когда мы ему предавались. А ведь тебе известно, что говорят о прелюбодействе Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие и Нафан.
Ависага Сунамитянка определенно получит хорошее образование, всего только слушая нас, думаю я, хоть она и старается не смотреть в нашу сторону и делает вид, будто не слушает.
– Ну хорошо, давай вместе рассудим, – уже спокойнее, в самой дипломатичной моей манере предлагаю я. – Если Соломон будет кадить иноземным богам, он же всех нас погубит. А эти его обезьяны, слоновая кость и павлины вконец разорят страну. Ты знаешь, какой трон он хочет себе завести? Он мне все рассказал: большой престол из слоновой кости, обложенный чистым золотом, с двумя львами у локотников и еще двенадцатью – двенадцатью! – стоящими на шести ступенях по обе стороны.
– Божественно, – с самым серьезным видом произносит Вирсавия.
Стоит ли удивляться, что я все еще схожу по ней с ума?
– Четырнадцать львов? – восклицаю я. – Хотя он-то, возможно, имел в виду двадцать шесть. Он считает, что и мне следует такой же трон завести.
– Если у Соломона будут львы, – кивая, говорит она, – то и у тебя должны быть. И у меня тоже.
Как отличается она от уравновешенной, бескорыстной Авигеи, к которой я всегда питал гораздо большее уважение, хоть и куда меньшую страсть. Когда Авигея умерла, я почувствовал себя таким одиноким – да так с той поры и чувствую.
– Бог не потерпит такого престола, – вслух размышляю я, пожирая глазами лицо и тело Вирсавии, которые и поныне кажутся мне прекрасными. – Нашему Богу подобная показуха не нравится.
– Бог любит Соломона, – уверяет меня Вирсавия, – и согласится исполнить любое его желание.
– Я бы не стал на это рассчитывать, – возражаю я. – Мне вон тоже всегда казалось, будто Он именно так ко мне и относится. А Он взял и убил нашего ребенка. У Соломона нет ни единого шанса стать царем.
– Это ты мне повторяешь с того самого дня, как он родился, – не уступает Вирсавия. – А теперь перед ним остался всего лишь Адония.
– Адония популярен, – говорю я, чтобы ее позлить. – А Соломон нет.
Вирсавия неожиданно впадает в философический тон.
– У богатого много друзей, – замечает она, – а бедный ненавидим бывает даже близким своим.
– Это кто же тебя такому научил? – сварливо интересуюсь я.
– Соломон часто так говорит, и, по-моему, это очень мудрая мысль. А почему ты спрашиваешь?
– Потому что он от меня ее слышал, – холодно сообщаю я, – вот почему. Полистай-ка мои притчи.
– Соломон тоже сочинил кучу притчей, – хвастается она.
– Ну да, – отзываюсь я, – и лучшие среди них – мои. Ты и ахнуть не успеешь, как Соломон объявит, будто это он написал мою знаменитую элегию.
– Какую элегию? – спрашивает моя жена.
На миг я лишаюсь дара речи.
– То есть как это какую? – издаю я наконец пронзительный вопль. – Какого хрена ты хочешь этим сказать? Какую элегию? Мою знаменитую элегию, элегию на смерть Саула и Ионафана. Ты, может быть, другую знаменитую элегию знаешь?
– По-моему, я и об этой ни разу не слышала.
– Ни разу не слышала? – Я вне себя от изумления. – В Сидоне ее знают. В Ниневии поют. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих». Этого ты ни разу не слышала? «Быстрее орлов, сильнее львов они были». «Как пали сильные!» «Он одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы».
Она выпрямляется, расширив глаза.
– Кто это написал? – спрашивает она.
– Вот именно, кто? – переспрашиваю я. – Кто, в лоб твою мать, написал это, как по-твоему?
– Соломон?
– Соломон? – взвиваюсь я.
Меня охватывает тошное чувство, будто ничего этого на самом деле не происходит.
– Она написана за десять лет до того, как я перебрался в Иерусалим! – ору я. – Ее пересказывали в Гафе, ее возвещали на улицах Аскалона за дюжину лет до того, как я тебя встретил. И ты не помнишь, кто ее написал? Соломон? Какой, бубена масть, Соломон, если он еще не родился?
– Ну что ты так распалился, Давид? – укоряет меня Вирсавия. – Ты же знаешь, я вечно путаюсь в датах.
Она садится рядом со мной на кровать, кладет мне руку на грудь. На секунду мне кажется, что вернулись старые времена. Член мой слегка набухает. Сладострастные ароматы смирны и алоэ, и касии, которыми веет, как из чертогов слоновой кости, от тела ее и одежд, увеселяют мои чувства.
– Не надо, – произносит она, когда я опускаю ладонь ей на колено.
– Ты не всегда была против. – Теперь я обращаюсь в просителя.
– Жизнь не стоит на месте.
– Еще одна премудрость Соломонова?
– Жизнь идет, – продолжает она, не слыша меня. – Давид, – взывает она ко мне, – я нутром чую опасность. Нафан боится, что после этого царского банкета, на котором главным будет Адония, мы все можем оказаться в тюрьме. Даже ты.
– Занятно, – с бесстрастной насмешкой отзываюсь я. – А вот Авиафар заходил ко мне нынче утром и сказал, что, по его мнению, устроить такой пир – мысль хорошая.
– Авиафар? – рассеянно переспрашивает она, словно никогда не слышала его имени.
– Ага, тот самый, что состоит при мне всю мою жизнь, – ядовито напоминаю я ей, – еще со времен изгнания.
– Ну, ты же знаешь, я вечно путаюсь в именах, – лживо заявляет она и тяжко вздыхает. – И все почему-то на А. Авигея, Ахиноам, Авесса – теперь еще Авиафар.
– Да не теперь. Лет уж пятьдесят.
– Мне иногда кажется, что во всей стране только два имени и начинаются с В – мое да Ванеи.
– Авиафар мой священник, – неторопливо напоминаю я ей о том, что, как оба мы знаем, ей и без меня хорошо известно. – Тот, что одним из первых присоединился ко мне, когда Саул убил его отца.
– Твой священник – Садок.
– У меня их двое.
– Ну пусть, а зато Нафан – твой пророк, – парирует она.
– Нафан – пустомеля, и, кстати сказать, он всегда относился к тебе с неодобрением.
– А пророк выше священника, – преспокойно продолжает она, словно не расслышав моих слов. – Нафан считает, что тебе не следует доверять Адонии. Боже милостивый, снова на А. У нас теперь даже Ависага есть. А как звали эту твою покойницу-жену, ту, вдовую, которая все молчала? Авитала, мать Сафатии.
– Ты у нас вроде бы вечно путаешься в именах.
– А если у человека имя начинается с А, так это всегда не к добру. Асаил, Ахитофел, Амнон, Авессалом, Авенир, Амаса – чем все они кончили? Милый, – она вкрадчиво склоняется надо мной, и мне вдруг приходит в голову, что выражение столь всеобъемлющей доброжелательности просто не может не быть двуличным, – ну пообещай мне, что ты никогда не назначишь царем человека, имя которого начинается на А. Больше я тебя ни о чем не прошу.
У меня дыхание спирает от такого бесстыдства.
– Я обдумаю твою просьбу со всей серьезностью, – обещаю я, гадая о том, до каких пределов затрепанного маразма я, по ее мнению, докатился.
– Вчера, – это первое, что сообщает мне Вирсавия на следующее утро, – ты дал мне слово, что никогда не назначишь Адонию царем.
На сей раз она в платье из огненного шифона, на голове ее красуется диадема из жемчугов и каких-то еще драгоценных камней. Она и теперь, приодевшись, становится столь соблазнительной, что мне, как обычно, не терпится содрать с нее платье, оставив ее в чем мать родила.
– Что-то не припоминаю, – отвечаю я, упиваясь ее нахальством.
– Вон Ависага была здесь и слышала, как ты это сказал.
Сидящая за своим косметическим столиком Ависага – истинный образец осмотрительности, я знаю, она меня никогда не подведет.
– Неужели ты не понимаешь, что Ависага засвидетельствует все, что угодно, если я ее о том попрошу? – с достоинством отвечаю я Вирсавии.
– Чем это тут пахнет? – с невинным видом спрашивает она, в очередной раз меняя тему с находчивостью, которая всякий раз меня поражает. Она морщит нос, приоткрывая маленькие, крошащиеся зубки, и вид у нее при этом становится опасливым, точно у кролика. – Кто-нибудь, откройте окно.
Я хохочу. У Ависаги, когда она улыбается, ямочки появляются на щеках. Медноватого тона румяна, которые она накладывает на лицо, выделяют высокий обвод ее смуглых скул.
Пахнет тут, разумеется, мной – затхлым, завосковелым, иссыхающим. Слуги душат мое ложе алоэ, корицей, мирром, но пахнет от него все едино мной. Смрадом смертности и зловонием мужчины.
По всему дворцу курится едкий фимиам. Горит, быть может, тысяча наполненных ладаном кадильниц. Эти ароматические курения и смолы наверняка обходятся нам каждый год в бешеные деньги. Стоит ли дивиться, что торговый баланс наш выглядит бледно. Еще добавьте сюда антисептическое миро, и мед, и благовонные притирания, и снадобья, которыми Ависага умащает мои язвы и пролежни. Мои сыпи и прыщи она умеряет припарками из инжира. Милая, неутомимая в своей заботливости девочка не жалеет для меня сил, она всегда к моим услугам. Она грациозно и беззвучно снует вокруг, сохраняя безупречную прямоту осанки и нерушимую ровность повадки. Или я выдумываю Ависагу Сунамитянку, пересоздаю ее из своих желаний? Благоуханна, как виноград на горе ароматов, подобна золотым яблокам в серебряных сосудах. Она трепещет от блаженства, когда я глажу и ласкаю ее, и беру в ладони ее лицо, и мягко опускаю голову ее себе на грудь или во впадинку у плеча. В такие минуты душевного единения я жалею, что милая девочка не знала меня в мои лучшие годы, задолго до того, как побелели волосы у меня на груди. Слава юношей, сами понимаете, – сила их, а украшение стариков – седина. Видит Бог, этих украшений у меня ныне в избытке, но Ависага вот признается, что ее притягивают белые волосы у меня на груди. Она часто ласкает меня здесь, навивая их на пальчик. Косматые мужчины ей не нравятся, признается она, надувая губки, мужчины вроде Исава, с кустистой порослью на плечах и спине. Видимо, я в этот список не попадаю, если только дитя не врет, а я знаю – не врет.
В Сонаме, с простодушной гордостью сообщает нам Ависага в ответ на наши расспросы, отец ее владеет хорошей землею и живет в обильном достатке. Она стерегла виноградники сыновей матери ее, а своими пренебрегала. Другие часто посмеивались над ней, самой юной и робкой в большой, процветающей семье, и она с готовностью убедила себя в собственной никчемности. Для них это была игра. А ей так хотелось заслужить похвалу. Ту же неуемную потребность радовать других, жертвуя собой, она выказывает теперь и со мною. Как мне хотелось бы быть достаточно бодрым, чтобы прислуживать ей. Это я мог бы время от времени подавать ей еду, я мог бы помогать ей раздеваться и одеваться, приносить ей тазик чистой воды или корзинку с плодами летними. Ее искали и нашли для меня, потому что она оказалась самой красивой девицей во всех пределах Израильских. Я вызываю ее на разговор. Мне нравится слушать ее.
– Помню, они все дразнили меня одной песенкой, – негромко рассказывает она, – я так из-за нее горевала. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее». Как-то раз они спели ее на свадьбе. Я закрыла лицо руками и убежала в темноту. Мне хотелось умереть. Так до утра и не вернулась. И не отвечала, когда они звали меня. Лежала на земле и плакала, чувствуя себя тоненькой, как лист, а потом заснула средь дынь, у корней деревьев.
– Теперь-то у тебя есть сосцы, – утешаю я ее.
– А они не очень маленькие?
– Для чего? – снисходительно улыбаюсь я.
– Для тебя.
– Голубушка, мне хоть и немного, а все же за семьдесят, – сокрушенно осведомляю я ее. – Вон Адония уже желает тебя, дай срок, пожелает и Соломон. Потому что ты прекрасна и потому что была с царем.
– Разве я красивее Вирсавии?
– Гораздо красивее.
– Красивее, чем она была, когда ты впервые увидел ее?
– Ты – запертый сад, заключенный колодезь, запечатанный источник. Для меня ты прекраснее, чем когда бы и кто бы то ни был в мире.
Она не променяет меня и на обоих моих сыновей. Я-то теперь знаю, как разговаривать с женщиной, а они не знают. Груди ее с темными сосцами, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями, совершенные ягодицы, точно лани полевые, подобранные под пару. Я первый в ее жизни человек, получающий от разговора с ней удовольствие, слушающий как зачарованный ее ответы, внимающий ее разрозненным мыслям. Где она еще такого найдет?
Она сознает, что может ныне без стыда сказать мне все, что придет ей в голову, и сознает, что может молчать со мной обо всем, что ей хочется скрыть. Не диво, что ей представляется, будто она без памяти любит меня, не диво, что ей кажется, будто со мной ей бояться нечего. Когда голова ее уютно покоится у меня на плече, я вожу большим пальцем по очертаньям ее чела, или по изгибу ноздри, или по податливому ободку ее пухлой верхней губы, отдающей в мерцающем, меркнущем свете моих оплывающих светильников цветом сливы или граната. Так я ласкаю ее, привычно и ненасытно. Чем бы утешился я ныне в мире, не будь в нем моей Ависаги? Ни один из мужчин, каких она знала, не был так счастлив с нею, как я, счастлив одной лишь возможностью видеть ее лицо и прикасаться к нему, счастлив простым осознанием ее близости. Благодаря Ависаге Сунамитянке я узнаю теперь о себе то, что узнал от Вирсавии да после забыл, – что я всю жизнь мою жаждал влюбленности. Я могу целовать ее уши, виски, шею, глаза, пока во рту у меня не пересыхает и слова мои не становятся едва различимы, а потом целовать еще и еще, хоть губы мои и язык цепенеют от сухости. По причинам, мне самому непонятным, я стесняюсь целовать ее в губы.
Она – мой нарцисс Саронский, от всего сердца говорю я ей как-то, зарывшись лицом в ее волосы, дыша ей в ухо, она – моя лилия долин. Она приходит от этого сообщения в такую радость, в какую не пришла бы Вирсавия, даже уступи я ее просьбам и отдай царство мое Соломону. Вирсавия ощутила бы облегчение, не благодарность, никак уж не благодарность, и меньше чем через полдня ей снова стало б казаться, будто ее несправедливо обделили в каком-то ином отношении, и она принялась бы терзаться новой нуждой. Точь-в-точь как с алавастровой ванной.
Едва она перебралась в мой дворец, как потребовала себе алавастровую ванну и немедля ее получила. Мелхола завыла-заголосила и получила такую же.
И чего этим бабам нужно, часто дивился я вслух, впадая в супружеское раздражение, ну какого еще рожна им не хватает? Ответ – и ответ хороший, не хуже прочих – я получил от моей Авигеи, как-то под вечер заскочив к ней, чтобы передохнуть.
– Нужно совсем немногое, чтобы сделать нас счастливыми, – объяснила мне Авигея, – но больше, чем есть на земле и на небе, чтобы мы такими остались.
– Как это умно, Авигея, – сказал я. – Я навсегда сохраню великую, великую благодарность к тебе за твое разумение и доброту. А тебе не нужна алавастровая ванна?
– Нет, Давид, спасибо, мне и моей вполне хватает.
– Ты ведь никогда ничего не просишь, верно?
– У меня есть все, что нужно для счастья.
– Значит, ты исключение из рода женского, который только что так хорошо описала?
Авигея вновь улыбается.
– Возможно, я исключение.
– Неужели тебе ничего не нужно, сокровище мое? Нет, правда, Авигея, я бы с радостью подарил тебе что-нибудь.
Авигея качает головой:
– Правда, Давид, ничего. Чаша моя преисполнена.
– Какие благозвучные, редкостно благозвучные слова, Авигея. Я навсегда их запомню.
Теперь Вирсавии благоугодно, чтобы в ее покои перетащили мои огромные, пышные подушки из кож бараньих и барсучьих, красных и синих. Соломон, вслух размышляет она, отдаст их ей, когда станет царем. Соломон, радостно напоминаю я ей, никогда царем не станет.
– А что, если Адония умрет? – загадывает она.
– Не смей, – впиваясь в нее проницательным взглядом, остерегаю я, – не смей даже на миг задумываться о такой возможности. С какой это стати Адония умрет?
– Как мне всегда хотелось иметь кожу вроде твоей, – отвечает она – Ависаге. – Моя никогда не была такой шелковистой и гладкой. Я бы и сейчас все отдала, чтобы стать смуглянкой.
– А я отдала бы все за твою белую кожу, – искренне заверяет ее Ависага. – Моя-то потемнела от солнца.
Ависага смугла, но мила, и ей очень важно, чтобы мы знали – она смугла лишь оттого, что солнце заглядывалось на нее.
– Так загар и не сошел.
Если не считать персидского ковра в моей столовой, про который Вирсавии ведомо, какой он дорогой, да голубовато-зеленого с умброй гобелена, на котором изображены две четы охряных херувимчиков, соприкасающихся распростертыми крыльями, все в моих покоях не дотягивает до высоких Вирсавиных стандартов, даром что косяки у моих дверей из масличного дерева. Впрочем, масличного дерева Вирсавия не любит. Кровать у меня, сколько помню, яблоневая. Адония с Соломоном уже и теперь возлежат на ложах из слоновой кости и нежатся на постелях своих. Вирсавии тоже хочется возлежать на ложе из слоновой кости и нежиться. Сами слышали, как она разговаривает, эта манда. «Какую элегию?» И отлично же знает – какую. Такова ее гнусненькая, эгоистичная манера поддразнивать меня. С зоркостью интриганки она примечает, что моя сунамитяночка Ависага по-прежнему носит разноцветное девичье платье. Адония тоже это приметил. Вот такую же яркую, свободную одежду любила и девственная моя дочь Фамарь, сестра Авессалома, желанная, обманутая, взятая силой, облитая презрением, отвергнутая.








