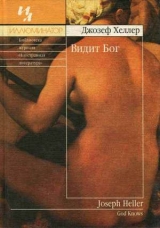
Текст книги "Видит Бог"
Автор книги: Джозеф Хеллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Джозеф Хеллер
Видит Бог
А одному как согреться?
1
Ависага Сунамитянка
Ависага Сунамитянка моет руки, пудрит их до самых плеч, снимает одежды и приближается к моему ложу, чтобы возлечь поверх меня. Я понимаю, еще до того как она нежно облекает меня маленькими руками и ногами, крохотным пухлым животиком и благовонным ртом, что проку все едино не будет. Меня по-прежнему колотит дрожь, да и Ависага боится, что опять меня подведет. Холод, который снедает меня, идет изнутри. Ависага прекрасна. Говорят, она девственница. Ну и что? Прекрасных девиц я познавал и прежде и только зря время потратил. Обе женщины, которых я любил пуще всего в жизни, были замужем, когда я встретился с ними, обе научились тому, как меня ублажать, у своих первых мужей. И оба раза мне повезло, потому что мужья их померли в самое для меня подходящее время. Ависага Сунамитянка – милая, опрятная девушка, уступчивая и услужливая по натуре, со спокойными, грациозными движениями. Она моется каждое утро, каждый полдень и каждый вечер. Ступни и ладони она ополаскивает даже чаще, она скрупулезно чистоплотна и душится под мышками всякий раз, как приближается ко мне, чтобы покормить меня, или укрыть, или возлечь со мной. У нее хрупкое, нежное тело, гладкая, смуглая кожа, лоснистые прямые черные волосы, зачесанные назад и вниз и спадающие ей на плечи ровными прядями; большие, кроткие, призывные глаза с огромными белками и темными райками почти такого оттенка, как черное дерево.
И все же я предпочел бы мою собственную жену, которая теперь просит о встрече со мной чуть ли не по два раза на дню. Однако она приходит сюда лишь в суетной надежде заручиться, после того как я, что называется, отойду из собрания живых, для себя – безопасностью, а для сына своего – высоким положением. До меня ей дела нет, да, верно, и не было никогда. Ей хочется, чтобы сын ее стал царем. Шиш ей. Он, разумеется, и мой сын тоже, однако у меня есть и другие – больше, наверное, чем отыщется имен в моей памяти, если я когда-нибудь попытаюсь их перечислить. Чем старше я становлюсь, тем меньше интересуюсь моими детьми, да если на то пошло, и прочими людьми – вообще всем остальным. Черта ли мне в моей стране? Жена моя, крупная, с широкими бедрами, являет собою живой контраст Ависаге почти во всяком идущем в счет отношении. В отличие от Ависаги, она глядит на людей с привычной враждебностью, а глаза у нее синие, маленькие и пронзительные. Кожа ее бела, волосы она по-прежнему красит в желтый цвет – той самой смесью шафрана с вербейником, которую она довела-таки до совершенства лет сто назад, после десятилетних экспериментов. Высокая, наглая, себялюбивая и устрашающая, она составляет превосходную пару тихой служаночке и часто разглядывает ее самым беззастенчивым образом. Присущий Вирсавии инстинкт прирожденного знатока сообщает глазам ее выражение презрительной уверенности, что во всем, касающемся мужиков, она разбирается много лучше Ависаги. Вероятно, так оно до сих пор и есть. И вероятно, всегда так будет. Однако сама она давным-давно с мужиками покончила.
Как обычно, жена моя знает, чего хочет, и не стесняется этого попросить. Как обычно, хочет она всего и сразу. С виноватым выражением глаз, нервно скошенных в сторону от меня, она изображает отсутствие каких-либо скрытых помыслов и, напуская на себя простодушную рассеянность, как бы между делом напоминает мне об обещаниях, которых, как оба мы знаем, я ей никогда не давал. И как обычно, желание добиться своего поглощает Вирсавию настолько, что ей и в голову не приходит прибегнуть к каким-то уловкам потоньше, которые, быть может, и помогли бы ей получить желаемое. Она, к примеру, не способна поверить, что я, возможно, и вправду все еще люблю и желаю ее. Я раз за разом прошу ее возлечь со мной. Но она говорит, что мы уже слишком старые. Я-то так не считаю. И в итоге согревать меня и ходить за мной некому, кроме Ависаги Сунамитянки, которая умащивает свои руки и прелестные смуглые груди сладко пахнущими притираниями и душит благовониями волосы, уши и шею. Ависага старается изо всех сил, да только ничего у нее не выходит, и, когда она встает с моего ложа, я остаюсь таким же холодным, каким был, и таким же одиноким.
Весь день свет в моем покое еле теплится, как будто плотное облако невидимой пыли затмевает его. Тускло мерцает пламя в масляных лампадах. Часто глаза мои закрываются, и я, не замечая того, вплываю в очередной краткий сон. И все-то мне кажется, что их запорошило песком, что они воспалились.
– Красные у меня глаза? – спрашиваю я Ависагу.
Она говорит – красные и успокаивает их струйками холодной воды и каплями глицерина, которые выдавливает из жгутиков белой шерсти. Страннейшее из безмолвий воцарилось под моей кровлей и на улицах за моими окнами, удерживая и потопляя в своих убийственных объятиях все нестройные звуки города. В залах моих стражи и слуги ходят на цыпочках и разговаривают шепотком. Небось пари заключают. Иерусалим процветает как никогда прежде, но население его взбудоражено слухами и тревожными ожиданиями. Воздух города пропитан подозрениями, нарастающим страхом, и все чаще прорываются наружу честолюбивые стремления, обман и нетерпеливое пройдошество. Ничто из этого меня больше не удручает. Народ разделился на враждующие лагеря. И пусть его. Угроза кровавой резни уже пронизывает электрической дрожью дующий с моря ночной ветерок. Ну и что с того? Дети мои ждут не дождутся, когда я помру. Кто вправе винить их в этом? Я прожил полную, долгую жизнь, так? Можете убедиться в этом сами. Книги Царств, с первой по четвертую. Тоже и книги Паралипоменон, правда, там одно украшательство, самая смачная часть моей жизни выброшена из них, как несущественная и недостойная. Я эти Паралипоменоны терпеть не могу. В них я выгляжу благочестивым занудой, тоскливым, как помои, нравоучительным и пресным, будто помешанная на своей правоте Жанна д'Арк, а я, видит Бог, никогда таким не был. Бог видит, я совокуплялся и сражался сколько хватало мочи и отлично проводил время, занимаясь и тем, и другим, пока не влюбился и пока не погиб мой ребенок. После этого все пошло наперекосяк.
И кроме того, Бог наверняка видит, что я был человеком решительным, отважным и предприимчивым, что сильные чувства и могучие порывы наполняли меня до краев, пока в один прекрасный день на поле битвы в Гобе я не упал в обморок и мой племянник Авесса не спас меня, а после никаким самообманом я уже не смог бы скрыть от себя, что расцвет моих сил миновал и мне уже нечего надеяться защитить себя в бою. Между рассветом и закатом того дня я постарел на сорок лет. Утром я ощущал себя несокрушимым юношей, а к вечеру понял, что уже стар.
Не хочу бахвалиться (хоть и понимаю, что отчасти бахвалюсь, уверяя, будто бахвалиться не хочу), и все же, говоря по чести, я считаю, что моя история – самая лучшая в Библии. Что может поспорить с ней? Иов? Забудьте о нем. Бытие? Сплошная космология – забава для детишек, бабушкины байки, нелепая выдумка клюющей носом старухи, почти уже задремавшей в удовлетворенной скуке. Забавы старушки Сарры – она смеялась и лгала Богу, я и поныне читаю о ней с удовольствием. Сарра с ее щедрым, веселым добродушием и завистливой женской ревностью почти реальна, ну и Авраам, разумеется, всегда на высоте – исполнительный, честный, рассудительный и храбрый, истинный джентльмен и интеллигентный патриарх. Но после рассказа об Исааке с Агарью – что остается от сюжета? Иаков как действующее лицо способен лишь разочаровать. Иосиф – забалованный, поздний ребенок, любимый отпрыск впадающего в слабоумие отца, пожалуй, и ярок, однако стоит ему подрасти, как начинаются сплошные пропуски, разве не так? Вот только что он раздавал хлеб и землю в качестве вездесущего фараонова порученца, а через пару абзацев, глядь, уже лежит на смертном одре, излагая свою последнюю волю – чтобы кости его когда-нибудь перенесли из Египта в землю Ханаанскую. Лишняя морока для Моисея, четыреста лет спустя.
Моисей, тот, готов признать, и вправду неплох, но рассказ о нем уж больно затянут, уж больно затянут, и после исхода из Египта рассказ этот просто вопиет, взывая хоть к какому разнообразию. История тянется, тянется, и все законы, законы. Кто смог бы выслушать столько законов, даже за сорок лет? Не говорю уж – запомнить. Кто смог бы их записать? На другое на что-нибудь у него оставалось время? А ему еще нужно было внушить их народу. Не забудьте и о том, что он был косноязычен. Удивительно ли, что вся эта эпопея отняла у него столько времени? Нас обоих изваял Микеланджело. Моисей у него получился лучше. Моя-то статуя и вовсе на меня не похожа. Конечно, у Моисея были его Десять заповедей. Зато строки, посвященные мне, гораздо красивей. В них есть поэзия и страсть, яростное насилие и простое, обнаженное, облагораживающее горе страдающего человека. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих!» Это сказано мною, как и «Быстрее орлов, сильнее львов они были». И наконец, возьмите мои псалмы. Да благодаря одной лишь моей знаменитой элегии я мог бы жить вечно, если б уже не умирал от старости. В моей истории есть и войны, и экстатические религиозные переживания, и непристойные танцы, и призраки, и убийства, и головокружительные побеги, от которых волосы встают дыбом, и волнующие погони. Есть дети, умершие слишком рано. «Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Это о дитяти, скончавшемся во младенчестве: из-за меня, или Бога, или из-за нас обоих – выбирайте сами. Я-то знаю, кого винить. Его. «Сын мой, сын мой» – это о другом, сраженном во цвете юного мужества. Подите сыщите у Моисея такую штуку. Ну и, конечно, мое любимое, драгоценность короны, триумфальный пеан, от которого я разулыбался до ушей, когда впервые услышал, как он возносится, приветствуя меня, гордо выступающего во всем моем молодом изобилии и наивности. Но удовольствие скисло быстро. Скоро я уже ежился от страха, едва заслышав эти восхитительные строки, и в ужасе озирался, как бы норовя увернуться от удара, наносимого мне в спину неким смертоносным оружием. Как же я боялся этих почестей! И однако ж, стоило пасть первому из моих смертельных врагов, как я снова бесстыдно купался все в тех же неслыханных восхвалениях. Даже теперь, обратясь в трясучую развалину, я раздуваюсь от гордости и восторга, рисуя себе возбуждающие картины: босоногие девушки во взметающихся, сверкающих одеждах, алых, синих, лиловых, вздымают в марше загорелые коленки, празднично изливаясь из деревушки на холме и города за нею, чтобы встретить нас с тимпанами и прочей музыкой, когда мы в очередной раз возвращаемся с победой, а они прославляют нас, снова и снова повторяя ликующий, обольстительный припев:
Саул победил тысячи,
а Давид – десятки тысяч!
В оригинале оно даже лучше:

Сами вообразите, как это понравилось Саулу. Я-то вовремя не вообразил, а в итоге и ахнуть не успел, как мне пришлось вилять, точно зайцу, уворачиваясь, чтобы уберечь задницу от копий, – бежать, спасая свою жизнь. Думаете, это у вас большие сложности с родственниками жены? У меня вот был тесть, который спал и видел, как бы меня угробить. И почему? Да потому, что я был слишком хорош, вот почему. В те дни я был таким агнцем, что любо-дорого посмотреть. Даже очень постаравшись, я не мог сотворить ничего дурного, не мог ни на кого произвести нехорошего впечатления, даже если бы очень захотел, – ни на кого, кроме Саула. Дочь его и та на меня налюбоваться не могла, даром что оказалась потом самой сварливой – благо самой первой – из моих тринадцати, четырнадцати, не то пятнадцати жен. Было, конечно, дело – однажды Мелхола спасла мне жизнь, но это навряд ли искупает все то, чего я впоследствии от нее натерпелся.
Каждый раз как Саул посылал меня сражаться, я шел и сражался. И чем лучше служил я ему в войне с филистимлянами, тем пущими он проникался завистью и подозрениями насчет того, что мое-де предназначение – свергнуть его и что я уже строю соответствующие козни. По-вашему, это честно? Разве я виноват, что народ мой любил меня?
Конечно, к тому времени Самуил уже отринул Саула, да и Бог подверг его одному из тех колоссальных, жутких испытаний метафизическим безмолвием, какие имеет власть насылать лишь такое воистину всемогущее и незаменимое существо, как Господь. Я могу говорить об этом, исходя из личного опыта: я с Ним больше не разговариваю, и Он со мной тоже.
Даже мое сердце растаяло от сострадания при вести, что Саул стенает в Аэндоре на краю погибели, а Бог больше не отвечает ему. А это случилось уже долгое время спустя после того, как Самуил тайком помазал меня в доме отца моего в Вифлееме и сказал – ибо у него имелись заслуживающие доверия сведения, – что Господь избрал меня, дабы я стал когда-нибудь царем Его над Израилем. Так что смерть Саула была мне определенно на руку, однако, клянусь, временами я его жалел, а уж руки-то мои всегда оставались чисты. Ничего более грешного, чем попытки раздуть его приязнь и любовь ко мне, с какими он впервые принял меня в свои объятия в день, когда я убил Голиафа, я не совершил. Однако его непредсказуемым образом кидало из крайности в крайность, а заранее понять, когда наш благородный, исстрадавшийся главнокомандующий и первый царь опять обратится в буйнопомешанного и попытается лишить меня жизни, удавалось крайне редко. Сдается мне, временами ему хотелось поубивать всех подряд – всех и каждого, включая и собственного родного сына Ионафана.
Ничего себе проблема, не правда ли? Ваш собственный тесть тратит большую часть времени и сил на то, чтобы вас прикончить, ночами подсылает в ваш дом убийц, чтобы поутру они разделались с вами, и, пытаясь вас затравить, заводит в пустыню целые армии из тысяч отборных солдат – вместо того чтобы с помощью этих самых солдат отогнать филистимлян на береговые равнины, где им было самое и место. Он предложил мне свою дочь лишь из тщетной надежды, что меня пришибут, пока я собираю смехотворно низкое вено, которое он за нее назначил. Сто краеобрезаний филистимских! Саул зациклился на параноидальной иллюзии, что будто бы даже дочь и сын его прониклись ко мне симпатией, и это, между прочим, было чистой правдой. Я научился от него истине, верной в отношении всякого и, скорее всего, никому не способной принести практической пользы: в безумии есть своя мудрость, а любое обвинение, весьма вероятно, является правдивым, ибо в человеке все свойства представлены поровну и всякий способен на всякое. У этого бедного, замудоханного придурка случались жуткие приступы буйства, во время которых только одной бешеной, свихнувшейся мысли и удавалось кое-как удержаться в его голове – мысли о том, что меня совершенно необходимо убить. Вообразите себе, каково ему было.
Я долго мог бы рассказывать обо всех этих войнах, завоеваниях, мятежах и погонях. Я построил империю размером со штат Мэн, я вывел народ Израилев из бронзового века и привел в железный.
У меня есть своя история любви и своя история сексуальной жизни, причем в обеих главную роль играет одна и та же женщина, – представляете? – у меня есть в запасе эта моя нескончаемая, застрявшая на вечном пате распря с Богом, распря с открытым финалом, несмотря даже на то, что Бог, может быть, уже умер. Умер Он там или не умер, разницы никакой не составляет, поскольку пользоваться Им мы и в том, и в другом случае все равно будем одинаково. Он обязан мне извинением, но Его ведь с места не сдвинешь – ну, и меня тоже. Видит Бог, у меня есть свои недостатки, и я, может быть, даже первый, кто готов их признать, однако я и по нынешний день нутром чую, что, как человек, я лучше Его.
Хотя я никогда по-настоящему не ходилпред Богом, мы много с Ним разговаривали и пребывали в совершенном согласии, пока я не обидел Его в первый раз; потом Он обидел меня, а потом мы взаимно друг друга обидели. И даже тогда Он обещал меня защитить. И защитил. Вот только от чего? От старости? От смерти моих детей и насилия, совершенного над дочерью? Бог даровал мне долгую жизнь и множество сыновей, чтобы не уничтожилось имя мое на земле – хотя имена-то у них у всех свои собственные, – но вот сегодня жара стоит, как в аду, и духота примерно такая же, а я не могу согреться, мне неоткуда взять тепла – даже от Ависаги Сунамитянки, которая и ласкает меня, и лобзает, и накрывает своим извилистым, гибким тельцем. Для женщины столь маленькой и хрупкой, у моей Сунамитянки Ависаги на редкость объемистая, симпатичная задница.
Вы вот над чем поразмыслите – я был одно время загнанным преступником, чьи портреты с надписью «разыскивается» висели по всей Иудее, причем у меня имелось не так уж и много людей, с которыми я мог об этом поговорить. Я был беглецом, объявленным вне закона и имевшим под своим началом пеструю шайку из шестисот повидавших виды бандитов и рядового хулиганья. А известно ли вам, что представляет собой хорошо организованная шайка из шестисот закаленных в боях людей? Грозный, дисциплинированный штурмовой отряд, который с охотой примет в свои ряды любая армия, включая и армию Анхуса с его филистимлянами из Гефа, мобилизованными для войны с Израилем и пригласившими нас биться на их стороне. Вините Саула за то, что мы их приглашение приняли и пошли воевать с Израилем. Об этом мало кто знает, но, когда филистимляне собрались для битвы на Гелвуе, в которой пал Саул, мы были средь них. Мне еще повезло, что филистимляне отослали нас прочь до начала сражения.
Если я когда-либо крал, грабил и вымогательствовал, причем жертвами моими становились иудеи и израильтяне – а признаваться в этом я вовсе не собираюсь, – то лишь потому, что Саул не оставил мне иного выбора. Чем еще было мне жить, когда он изгнал меня и натравил на меня чуть ли не всю страну? Люди из Зифа доносили ему на меня, люди Маона сообщали, где я остановился передохнуть. А я между тем всей душой жаждал любить его как прежде. Я Саула вообще за отца считал.
– Отец мой, – окликнул я Саула из зарослей на скалистом холме после того, как обнаружил его спящим на полу пещеры в Ен-Гадди и отрезал край от его верхней одежды в доказательство того, что был там. – Видишь, я тебя не убил.
– Твой ли это голос, сын мой Давид? – ответил он мне и заплакал. – Я не буду больше делать тебе зла.
На обещания маньяков, как и на обещания женщин, полагаться особенно не приходится.
В конце концов филистимляне, найдя Саула мертвым, отсекли ему голову, а то, что от него осталось, прибили к стене Беф-Сана.
Кровопролития? Да у меня их более чем достаточно – и на любой вкус. Чего у меня только нет – самоубийство, цареубийство, отцеубийство, просто убийство, братоубийство, детоубийство, адюльтер, инцест, казнь через повешенье, а уж отрубленных голов – далеко не одна Саулова. Вот послушайте.
Я имел сыновей.
Я имел наложниц.
Я имел сына, который средь бела дня имел моих наложниц прямо на крыше моего дворца.
Моим именем назвали звезду, да еще и в Лондоне – это в Англии, – в 1898 году. Кто-нибудь что-нибудь слышал о звезде Самуила?
Один мой сын убил другого моего сына – и что, по-вашему, я мог предпринять? Каин и Авель? Так то эвон когда было, а это – теперь. С Каином Бог управился сам, вот так прямо ему и сказал: «Мотай отсюда».
В итоге Каин подался в бродяги, и Адаму не пришлось с ним возиться. А у меня на руках был битком набитый город Иерусалим, который очень интересовался, что я предприму после того, как Авессалом убил Амнона.
Вот и теперь то же самое – мне приходится выбирать, кто станет царствовать, а кто умрет. Адония или Соломон? Мучительный выбор? Был бы мучительным, если бы меня заботили мои дети или будущее моей страны. Но, по правде сказать, они меня не заботят. Я ненавижу Бога и ненавижу жизнь. И чем ближе подходит смерть, тем пуще я ненавижу жизнь.
По ощущению моему, я слишком стар, чтобы и дальше оставаться отцом, хотя, впрочем, стар не настолько, чтобы не быть мужем, отчего и хочу, чтобы жена моя Вирсавия вернулась в мою постель. Думаю, я был первым на свете взрослым мужчиной, который влюбился искренне, страстно, сексуально, романтично и сентиментально. Можно считать, что я-то любовь и выдумал. Иаков полюбил Рахиль, едва увидев ее у колодезя в Харране, но Иаков был юнцом, и любовь его в сравнении с моей – просто щенячья привязанность. Он проработал семь лет, чтобы получить Рахиль, а затем еще семь, когда ему после брачного пира всучили взамен Рахили ее слабую глазами сестру. Я же взял Вирсавию в тот самый день, как увидел ее. И уж так она меня ублажила, что голова у меня шла кругом все те чудесные годы, когда я услаждался ею и день за днем только одного и желал – утром, в полдень, вечером, ночью: побыстрее добраться до нее и еще раз приникнуть к ее телу руками и ртом, душою и чреслами, а лучше я ничего и представить себе не мог. Господи, как же я к ней прилепился! Как мы любили целоваться и разговаривать! Мы встречались с ней тайно, обнимались на пути к кровати, и дурачились, и хохотали, и чего только не вытворяли в нашем уютном, уединенном веселье, пока в один прекрасный день на голову мне не обрушилась, будто крыша, новость, что она беременна.
– Дерьмо Господне! – вот слова, первыми подвернувшиеся мне на язык.
Не помню, чья это была идея отозвать ее мужа, Урию Хеттеянина, из осаждавшего Равву Аммонитскую войска, дабы он узаконил плод моего прелюбодейного сожительства с его женой в качестве своего собственного, весьма своевременного отпрыска. Однако я знал, что идея эта не сработает.
– Урия, иди домой, – по-доброму уговаривал я его и посылал к нему в дом царское кушанье и прочий провиант, дабы он мог подзаправиться перед постельным марафоном, который мы с Вирсавией спланировали для него. – Иди повеселись. Ты принес мне добрые вести о ходе нашей кампании.
Он же предпочел спать со слугами на полу моего дворца – из донкихотской и телепатической солидарности с товарищами по оружию, которые стояли лагерем в полях Аммона, и из огорчительного послушания нашим Моисеевым законам насчет целомудрия и боеспособности. Ибо тому, кто возлег с женщиной, целых три дня потом нельзя выходить на священный бой. Собственно, и с мужчиной тоже, и даже с овцой, козой или индейкой. Те, кто хотел уклониться от военной службы, как правило, перед самым призывом возлегали с женами, наложницами или индейками. У нас это называется отказом от военной службы по религиозным соображениям. Но Урия-то даже евреем не был. А хеттеянина поди вразуми.
– Урия, иди домой, – отчаянно увещевал, настаивал, приказывал и умолял я весь следующий день. – Иди домой, Урия, очень тебя прошу. Тебя, наверное, жена дожидается. Мне говорили, жена у тебя – пальчики оближешь. Так иди вставь ей. Отваляй ее пару раз. Сделай ей штуп.Ты свое удовольствие заслужил.
А он вместо этого снова улегся в моем дворце на пол. Может, ублюдок пронюхал что-нибудь? Я чувствовал, что схожу с ума. Не помню, чья это была идея отправить его назад, в гущу битвы, чтобы его там укокошили. Будем считать, что ее.
Овдовевшая Вирсавия, едва относив траур по покойному мужу, перебралась ко мне во дворец в качестве моей восьмой жены.
И тут же пожелала стать царицей. Но у нас же цариц не бывает. Думаете, это удержало мою душечку от новых притязаний? Прибыв во дворец, она потратила час на осмотр апартаментов, одежды и горшочков с косметикой, принадлежавших другим моим женам, и потребовала, чтобы ее были лучше и чтобы их было больше. Эта пробивная бабенка с самого начала стала моей любимицей. Любовь к Вирсавии доставляла мне наслаждения даже большие, чем любовь к Авигее, женщине элегантной, благородной и изысканной, кормившей меня чечевичной похлебкой, ячменным хлебом и репчатым луком, лучше которых я в жизни не едал, – она и сейчас с удовольствием стряпала бы для меня, если б еще оставалась среди живых. Вирсавия же, когда я с ней познакомился, норовила под любым предлогом увернуться даже от мытья посуды, а уж став моей женой, никогда больше к ней не притрагивалась.
Теперь она ежедневно приходит ко мне только ради того, чтобы, наплевав на государственные интересы, обеспечить собственную безопасность. Ее наивный эгоизм остается, как прежде, чарующим – душа радуется, когда убеждаешься, глядя на нее, что есть же на свете хоть что-то навек неизменное. Кажется, именно я отметил где-то, что нет ничего нового под солнцем? Она хорошо разбирается в тонкостях любовной игры, но плохо – в мужчинах и в том, что кроется в наших сердцах. То, что сокрыто в моем, ее, почитай, не интересует. Зато она изводит меня просьбами, чтобы я сделал Соломона царем.
– Безнадежно, – смеясь, уверял я ее с того самого дня, как он появился на свет. – Перед ним целая дюжина желающих.
Теперь остался один Адония.
– Я же не о себе думаю, – говорит она, – а о будущем страны и народа.
Думает она только о себе. До будущего ей дела не больше, чем мне. И неизменно настаивает на том, что я будто бы дал ей слово.
– Я уверена, когда-то давно ты мне обещал, – говорит она. – Не могла же я этого выдумать.
Вирсавия вечно выдумывает какую-нибудь удобную для нее несуразицу и тут же проникается искренней верой в нее. Двуличность ее видна насквозь. Однако не стоит недооценивать силу женщины. Загляните в Третью книгу Царств, и вы увидите, чем оная сила чревата. И в этой книге мне тоже нет равных. Соломону, быть может, и уделено в ней больше места, но что во всей его жизни способно сравниться с какой угодно частью моей? Единственную умную фразу, которую он там произносит – посылая Ванею убить Иоава в скинии, – он позаимствовал у меня. Все приличные строки, какие есть в Притчах, мои, и все лучшие в Песни песней – тоже мои. Изучите мои последние послания. Они великолепны, остроумны, драматичны и исполнены напряжения. Как искусно я обошелся с Семеем! Бесконечно более решительно обошелся я с моим родичем Иоавом, верным спутником всей моей жизни, отважным начальником над моими войсками в течение почти всей моей карьеры. Ни разу не поколебался он в своей верности мне и даже сейчас, в преклонном возрасте, твердой рукой и сильной властью оберегает конец моего правления, обеспечивая должный переход царского престола к единственному наследнику, имеющему на него законное право.
Вот насчет этого сильного, верного, доблестного Иоава я и распорядился:
– Убей его! Уничтожь! Чтобы и духу этого ублюдка больше не было!
От меня всегда можно дождаться сюрприза, верно? А понять, что Соломону все необходимо растолковывать по складам, на это мне тоже ума хватало. Я вам открою один секрет насчет моего сына Соломона: этот поц совершенно серьезно предлагал разрубить младенца пополам. Богом клянусь. Тупой сукин сын норовил проявить справедливость, а не хитроумие.
– Ты понял, что я сказал тебе насчет Иоава? – спросил я у Соломона, внимательно вглядываясь в него, и, когда дождался наконец каменного кивка, добавил для ясности: – Не отпускай седины его мирно в преисподнюю.
Соломон отлепил взгляд от глиняной таблички, на которой делал для памяти заметки, и спросил:
– Чьи седины?
– Ависага!
Ависага указала ему на дверь и принялась похлопывать меня по вздымавшейся груди и похлопывала, пока не поняла, что отчаянье мое стихло. Затем она вымылась и отерлась, надушила запястья и подмышки и сбросила одежды, чтобы мгновение простоять предо мной в прелестной девственной наготе, прежде чем грациозно поднять ногу, утвердить на моем ложе миндально-смуглое колено и снова возлечь со мной. Разумеется, безрезультатно. Во мне и пыла-то никакого в ту минуту не было. Я желал мою жену. Вирсавия в это не верит, а если б и верила, ей все одно наплевать.
– Я этим больше не занимаюсь, – твердо отвечает Вирсавия всякий раз, что я обращаюсь к ней с просьбой ее, а если пребывает не в духе, то еще добавляет: – Меня тошнит от любви.
Она забыла о похоти, как только обрела истинное свое призвание, вернее, несколько призваний сразу. Изначальное состояло в том, чтобы стать царицей. К сожалению, цариц нам не полагалось. Тогда она надумала стать царицей-матерью, первой в нашей истории вдовствующей царицей-матерью при правящем государе. Торговаться с нею я не желал и лебезить перед ней тоже. Конечно, я мог бы отдать одну-единственную отрывистую команду, и ее приволокли бы мне прямо в постель. Но это означало бы, что я унизился до попрошайничества, не так ли? А я как-никак царь Давид, и попрошайничать мне не к лицу. Однако, видит Бог, прежде чем я испущу дух, прежде чем подойдет к концу моя фантастическая история, я так или иначе а возлягу с нею по крайности еще один раз.








