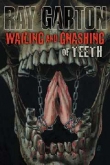Текст книги "В стенах города. Пять феррарских историй"
Автор книги: Джорджо Бассани
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
«Смотрите, она под надзором!» – говорил депутат Боттекьяри, понизив голос до шепота. Он имел в виду полицию, ОВРА [35]35
См. сноску к новелле «Мемориальная доска на улице Мадзини» на с. 128 (примечание 21).
[Закрыть]. Но в очередной раз при ближайшем рассмотрении все оказалось совсем по-другому.
– Проходите, поговорим в гостиной, – прошептала старая учительница, пропустив Бруно в прихожую и закрывая входную дверь.
Теперь она шла перед ним на цыпочках по темному сырому коридору. А он, следуя за ней, стараясь не шуметь и одновременно глядя, как она движется со всей осторожностью, на которую способна, опять без труда догадался: если Клелия Тротти и была под надзором, то этот «надзор» велся преимущественно в доме. Синьора Кодека и ее супруг (она – учительница начальных классов; он – кассир в Аграрной кассе, оплоте земельной буржуазии города) – это они были настоящими тюремщиками Клелии Тротти. А ОВРА? ОВРА прекрасно знала, что делает. Оставив шестидесятилетнюю поднадзорную под домашним наблюдением двух супругов – явно слишком добропорядочных граждан, чтобы допускать визиты подозрительных лиц к своей «неудобной» родственнице и постоялице, ОВРА ограничивалась тем, что наведывалась сюда время от времени; в промежутках же спала спокойным сном.
Они вошли в столовую на первом этаже. Бруно огляделся вокруг. Так вот где, сказал он себе, Клелия Тротти проводит большую часть своих дней, выходя лишь затем, чтобы дать уроки соседским детям! Вот ее тюрьма!
Дешевая, блеклая мебель, однако не лишенная некоторой нелепой претенциозности; выцветший, заляпанный чернилами кусок зеленого сукна, прикрывающий стол посередине комнаты; стеклянная люстра под муранское стекло; диплом счетовода с выведенным витиеватыми готическими буквами именем хозяина дома, Эваристо Кодека, гордо висящий между убогими картинками с альпийскими и морскими пейзажами; темный силуэт огромных напольных часов, издающих сухое, звучное, угрожающее тиканье; даже луч солнца из единственного окна, выходящего на внутренний садик, проникал наискось в комнату, выхватывая с противоположной ее стороны, в центре неказистого жесткого плетеного диванчика, голову лошади, написанную маслом на конопляной наволочке большой подушки; и вот, наконец, с противоположного края стола улыбается с виноватым видом, как бы прося о снисхождении, старая революционерка, собственными глазами видевшая Анну Кулешову и Андреа Косту, беседовавшая о социализме с Филиппо Турати, сыгравшая не последнюю роль в знаменитой «Красной неделе» в Романье в 1914 году и теперь вынужденная говорить приглушенным голосом, едва слышно, иногда поднимая глаза к потолку в знак того, что с верхнего этажа в любой момент могут спуститься шурин или сестра, застать их, прервать беседу, – или застывая молча, с поднятой рукой, прижимая указательный палец другой руки ко рту (в одну из таких пауз хрипло пробили часы; из сада приглушенно доносилось квохтанье кур), совсем как школьница, боящаяся, что ее поймают врасплох… На этом дне колодца, в этом предательском логове все говорило Бруно о скуке, равнодушии, долгих годах мелочной, бесславной изоляции и забвения. Но тогда, не мог не спросить он себя, тогда стоило ли действительно вести себя в жизни всегда столь отличным образом от того, к примеру, как вел себя депутат Боттекьяри, если всеобщее прогрессирующее оцепенение, время, истощающее и выхолащивающее все и вся, все так же могло продолжать свое разлагающее действие? Клелия Тротти так и не согнулась, ее душа так и осталась незапятнанной; депутат Боттекьяри же, напротив, хотя и не вступил в ряды фашистской партии, в полной мере участвовал в жизни общества в свои зрелые годы и даже был принят в члены правления Аграрной кассы – никто не жаловался и не возмущался этим. Так вот, если подводить итоги, кто из двоих был прав в жизни? И зачем он явился столь поздно, как не для того, чтобы убедиться, что лучший мир, справедливое гражданское общество, живой пример которого и одновременно реликт являла собой Клелия Тротти, никогда уже не вернутся? Он смотрел на нее, жалкую преследуемую антифашистку, убогую узницу, и никак не мог отвести глаз от заметной темной полосы на тонкой морщинистой шее, полосы, шедшей под собранными в узел на затылке седыми волосами. Какой помощи, спрашивал он себя, продолжая смотреть на эту жалкую, плохо вымытую шею, мог он ожидать от Клелии Тротти, от Ровигатти, от убогого кружка их друзей, неизвестно, существующего ли вообще? Боже правый! Ему надо было закончить этот гротескный разговор, как можно быстрее убраться восвояси, начать внимательнее прислушиваться к советам, которые неустанно твердил отец. Конечно. Почему бы ему не послушать отца, хотя бы на этот раз? С сентября прошлого года отец не упускал случая настойчиво убеждать его переехать в «Эрец» [36]36
Эрец, или Эрец-Исраэль (в переводе с иврита «Земля Израильская»), – принятое в еврейском мире название территории, на которой в 1948 г. было создано государство Израиль.
[Закрыть], как он сразу привык говорить, или в Соединенные Штаты, или в Южную Америку. Ты молод, говорил отец, у тебя вся жизнь впереди. Поэтому он должен эмигрировать, покинуть Феррару и Италию, пустить корни в другой земле. Если он захочет, еще есть возможность, по крайней мере для него. До следующего лета Италия наверняка не вступит в войну; и никто не откажет в выдаче паспорта еврею из освобожденных… [37]37
Имеются в виду евреи, на которых в силу их заслуг перед родиной не в полной мере распространялось действие расовых законов 1938 г.
[Закрыть]
– Имейте терпение, прошу вас, – говорила тем временем Клелия Тротти самым тихим шепотом, – этот дом мне не принадлежит совсем. Моя сестра и шурин, – добавила она, и ее голубые глаза, глядящие в глаза Бруно, вновь выражали радость открыться, убежденность в правильности проявляемого доверия, – моя сестра и шурин, с тех пор как я вернулась из ссылки, уже много лет назад, взяли меня к себе и только и делают, что мешают мне, – она рассмеялась, тряхнув головой, – совершать другие глупости.
Тут она слегка поморщилась.
– Они следят за мной, – прибавила она, а взгляд вдруг стал серьезным, почти суровым, – суют нос во все, чем я занимаюсь: поверьте, хуже, чем если бы я была маленькой девочкой! Конечно, я понимаю: для людей, которые думают иначе, чем мы… у которых представление о политике совершенно иное, чем у нас… хорошие, впрочем, люди, добрые души… я понимаю, что то, как они, к сожалению, себя ведут по отношению ко мне, может показаться своего рода правом. Они поступают так ради моего блага, как они считают. Пусть так. И все же какая тоска!
– Это ваша сестра, та синьора, которая всегда открывает дверь?
– Да, она, а что? – встревоженно переспросила учительница. – Что вы имеете в виду?.. Ох, бедняжка! – воскликнула она, всплеснув маленькими сухими ладонями с пятнами никотина на указательном и среднем пальцах правой руки. – Сколько же раз вы впустую проделали этот путь по вине Джованны!
– Она отвечала мне то одно, то другое. Я прекрасно понимал, что это лишь отговорки. Однако я и предположить не мог, что вы об этом ничего не знаете. И тогда…
– Ох, бедняжка! – повторила Клелия Тротти. – А я-то говорила о правах! В определенных рамках еще ладно, я могу понять. Но это уж слишком! На этот раз они у меня узнают, еще как!
Она оставалась неподвижной несколько секунд, будто размышляя о тяжести произвола, учиненного в отношении нее, и о мерах, которые она предпримет, чтобы постоять за свою правоту. И вместе с тем было видно, что она думает о другом. Речь шла о чем-то, что помимо ее воли доставляло ей определенное удовольствие.
– Послушайте, а как вы узнали мой адрес? Полагаю, вам было непросто его раздобыть.
– Пару месяцев тому назад я был у адвоката Боттекьяри, произнес Бруно, глядя в сторону. Тротти не отвечала. Тогда он продолжил: – Адвокат Боттекьяри – старинный друг нашей семьи. Я рассчитывал, что он сможет меня верно направить. Однако он не смог или не захотел сказать мне ничего определенного. Он все же посоветовал мне обратиться к Чезаре Ровигатти, сапожнику, знаете его? У него лавка в двух шагах отсюда, на площади Санта-Мария-ин-Вадо. К счастью, я отлично его знал, и…
– Наш Чезарино, да. Такой милый. Однако я не могу понять, как… Он тоже мог бы рассказать мне о вас! Вот видите? По той или иной причине нет никого, кто бы не счел своим долгом предпринять в отношении меня самые странные шаги. Ведь они не понимают, что, действуя подобным образом, постепенно создавая вокруг меня пустыню, они словно лишают меня воздуха. Так уж лучше тогда тюрьма!
В тоне голоса, которым она произнесла последние слова, слышались усталость, отвращение, глубокая горечь. Бруно взглянул ей в лицо. Но ярко-голубые глаза, неподвижные под насупленными седыми бровями, были полны надежды. Как будто она сомневалась во всем и во всех, кроме него.
Дверь неожиданно распахнулась. Кто-то заглянул внутрь. Это была синьора Кодека.
– Кто здесь? – раздался знакомый неприятный голос еще до того, как появилась голова с черной с проседью шевелюрой.
Недоверчивый взгляд синьоры Кодека встретился с взглядом Бруно.
– Ах, – сказала она холодно. – Я не знала, что у тебя посетители.
– О, это друг! Синьор Латтес, – взволнованно заторопилась объяснять Клелия Тротти. – Бруно Латтес!
– Мое почтение, – сказала синьора Кодека, не приближаясь ни на шаг. – Наконец-то вы ее застали, да? – добавила она с язвительной улыбкой, обращаясь к Бруно, но не глядя на него.
Она отошла немного в сторону.
Из темноты коридора вышел с испуганным видом мальчуган лет восьми или девяти. На нем была черная школьная блуза с тремя горизонтальными белыми полосами на груди.
– Проходи, не бойся, – подбодрила его синьора Кодека.
Затем сказала сестре:
– Не беспокойся. Я сама провожу синьора Латтеса.
Когда они снова оказались друг перед другом, как всегда, она – загораживая своей массивной фигурой вход, а Бруно – глядя на нее с мостовой снизу вверх, синьора Кодека произнесла:
– Возможно, моя сестра забыла вам об этом сказать, но самое позднее послезавтра Клелии действительно здесь уже не будет. Речь идет о поездке, думаю, довольно долгой. Сколько именно она продлится? Кто знает: может, пару недель, может, пару месяцев… В общем, пока что вам не стоит, поверьте мне, пытаться нанести ей новый визит. Пока что этого совершенно не стоит делать. Прошу вас, синьор Латтес, будьте умницей! Я говорю это и ради вашего блага…
При последних словах взгляд ее стал печальным и умоляющим. Наконец, заходя обратно в дом и медленно закрывая дверь перед Бруно, она беззвучно прошептала:
– Мы же под надзором, разве вы не знаете?
В ту же ночь, возвращаясь домой, как обычно, очень поздно и даже не позвонив часов в восемь, чтоб его не ждали к ужину, Бруно был застигнут по дороге снегопадом (вечер он провел сначала в кино, а потом сидел около бильярда в баре близ Порта-Рено).
Вначале это была только легкая снежная пыль, вьющаяся вокруг фонарей. Постепенно на улице Мадама, пока он пытался вставить ключ в скважину входной двери, хлопья снега стали такими густыми и тяжелыми, что лицо его все намокло.
Он продолжал орудовать ключом, одновременно считая удары городских часов, доносящиеся от замка. Один, два, три, четыре. Да, верно, как раз четыре утра. Однако не стоит надеяться, что его отец, смирившись, потушил свет и уснул. Как всегда, свет он погасит только после того, как услышит его крадущиеся шаги мимо двери своей спальни, только после того, как покашливанием и ворчанием даст ему понять, что до его прихода не спал и беспокоился. С другой стороны, так лучше. В эту ночь можно обойтись без старой глупой комедии с шагами в темноте на цыпочках. Если папа еще не спит, прекрасно. Он повернет выключатель и зайдет в отцовскую спальню. Он уже знал, о чем тот будет говорить.
Однако, как только он оказался во внутреннем дворике, в глубине которого за решеткой ограды виднелись черные деревья сада, то заметил, еще не зажигая света на лестнице, что из-под двери комнаты на первом этаже, которая служила ему кабинетом, слабо сочится свет. Он приблизился. Тихо открыл дверь. Его отец был там, сидел в кресле у стола. Укрывшись пледом, он спал, уронив голову на плечо.
Бруно вошел в комнату, стараясь не шуметь, и прислонился к стене около двери.
Так поздно я еще не возвращался, подумал он. Возможно, поэтому, не решаясь погасить свет и не в силах больше ждать лежа в постели, отец его решил встать и спуститься в пижаме и тапочках на нижний этаж. Кто знает: может, ему пришло в голову воспользоваться ситуацией, чтобы обстоятельно поговорить с ним о его переезде в Палестину или в Америку, ведь всякий раз, как он пытался завести об этом разговор, Бруно отвечал холодно или даже грубо. Если дождаться Бруно внизу, в его кабинете, рассуждал, возможно, отец, то они смогут поговорить и даже покричать. Даже если они поругаются, то никого не разбудят своими криками.
Он подошел на цыпочках, улыбаясь. И почти уже собирался прикоснуться к левой руке спящего, безвольно лежащей на развернутой на коленях газете «Карлино» (правая, на которой покоился лоб, инстинктивно прикрывала сомкнутые веки от света настольной лампы), но неожиданно остановился, охваченный странным ощущением, будто почувствовав резкую физическую боль.
Отдернув руку, он сделал шаг назад.
Вместо того чтобы развернуться и уйти, он замер, вглядываясь в отцовский впалый висок, такой хрупкий, скорее хрящ, чем кость, висок человека разочаровавшегося, неудачника, в его легкие, как пух, седые волосы, точь-в-точь как волосы Клелии Тротти. Сколько еще осталось жить на свете его отцу? А Клелии Тротти? Успеют ли они оба, прежде чем умрут, увидеть финал трагедии, сотрясающей мир?
И все же они оба, пусть на пороге смерти, продолжал он рассуждать про себя, думали, по сути, лишь об одной вещи: о свободе. В своей тюрьме на улице Фондо-Банкетто Клелия Тротти грезила о возрождении итальянского социализма благодаря вливанию в усталые дряхлые вены партии молодой крови. В своем добровольном заточении на улице Мадама (отца исключили даже из Клуба коммерсантов: теперь он все время сидел дома, проводя дни за чтением газет и слушанием «Радио Лондона»), адвокат Латтес ни на мгновение не прекращал, забросив собственную деятельность, грезить о «блестящей карьере», несомненно ожидавшей любимого сына в Америке или в «Эреце». А он, Бруно, любимый сын, что собирается делать? Оставаться? Уезжать? В отношении реальной силы «послаблений» отец заблуждался: паспорт, даже реши они его попросить, власти бы не выдали. А поскольку война, только что начавшаяся, могла продлиться неизвестно сколько лет, поскольку заряженный капкан делал невозможным любое бегство, поскольку единственным возможным путем был тот, что вел всех без исключения навстречу будущему, лишенному надежды, лучше было в таком случае продолжать как-то влачить существование, старательно принимая участие, скорее из жалости и смирения, в одиноких мечтаниях, в безрадостных утехах, в унылых, убогих тюремных грезах своих попутчиков.
На цыпочках он подошел к окну.
Приоткрыл один ставень и посмотрел наружу сквозь запыленное стекло и щели жалюзи. Снег все еще шел. Через пару часов весь город, общая для всех тюрьма и гетто, будет окутан гнетущим покрывалом безмолвия.
IV
Теперь уже можно было пойти навстречу и просьбам синьоры Кодека. Она просила, чтобы ее дом не становился логовом конспираторов, в последнем разговоре она раскрыла все свои убогие карты добровольной тюремщицы, несомненно ревностной, но не коварной, а лишь напуганной.
Что бы она ни говорила или думала, вполне вероятно, ОВРА уже полностью забыла о доме тридцать шесть по улице Фондо-Банкетто. Почти наверняка уже долгое время ни один полицейский не заглядывал сюда на закате, чтобы удостовериться, что «поднадзорная» Тротти Клелия находится дома, как ей предписано. И все же лучше ей не перечить, говорил себе Бруно. Лучше пассивно согласиться с той ролью суровой и неподкупной надзирательницы, которую она на себя приняла. Не спускать глаз с сестры-заговорщицы, которая после ссылки была осуждена на целых десять дополнительных лет принудительного проживания, с обязательным требованием ежедневного возвращения домой до заката и еженедельного визита в полицейский участок для подписи в специальном журнале поднадзорных; бросаться открывать дверь на каждый звонок, не забывая прикрепить на видном месте, в верхней части черной учительской блузы, фашистский значок: и у синьоры Кодека было право на свою долю иллюзии, игры, необходимые каждому, чтобы выжить! А Клелия Тротти? Так ли уж хотела она этих встреч? Выходить из дома, крадучись, искоса бросая беглый взгляд на ставни верхнего этажа, сразу же поворачивать на улицу Коперта. Если что и могло еще доставить ей удовольствие, так только это. Надо просто подождать. Рано или поздно она сама явится с визитом.
Однажды утром, спустя почти два месяца, когда он вел урок в одном из классов еврейской школы на улице Виньятальята, Бруно увидел голову нянечки, осторожно заглядывающей через приоткрытую дверь.
– Можно?
– Что такое?
– Там вас одна синьора спрашивает.
Нянечка прошла к учительскому столу, шаркая шлепанцами по кирпичному полу, вызвав всегдашний приступ веселья среди учеников.
– Что мне ей сказать? – обеспокоенно спрашивала она.
Неопределенного возраста, невысокая, полная, грязноватые черные волосы свисают двумя полосами по сторонам сонного овечьего лица, самая молодая из постоялиц приюта для престарелых на улице Витториа, специально вызванная инженером Коэном, когда в октябре 1938 года потребовалось разместить в помещениях детского садика учеников, исключенных из государственных средних школ.
– Скажите ей, пусть подождет звонка, – ответил Бруно так резко, что маленький класс сразу затих. – Сколько раз надо повторять, что во время уроков меня нельзя беспокоить!
Это Клелия Тротти, думал он тем временем, кто еще, как не она.
Продолжая объяснять и спрашивать, он представлял себе, как она ждет в школьном дворе, совсем рядом. Читает мемориальные доски с именами почтенных дарителей на стенах, повешенные между светлыми дверями классов; разглядывает один за другим гипсовые крашеные бюсты Виктора Эммануила II, Умберто I и Виктора Эммануила III, расставленные в стенных нишах вокруг «Победной сводки», иногда выглядывает в одно из двух распахнутых, выходящих на обе стороны окон…
Наконец прозвенел звонок. Высыпавшая из классов во двор ребятня бросилась со всех ног вниз по большой лестнице. Однако, выйдя в опустевший дворик и заметив невысокую женщину в серой шляпке и костюме, стоявшую к нему спиной и читавшую воззвание Диаза [38]38
Армандо Диаз – командующий итальянской армией в Первой мировой войне. Автор «Победной сводки» с сообщением о поражении австрийских войск и победе итальянского оружия.
[Закрыть], на мгновение Бруно растерялся. Только когда, услышав его шаги, она резко обернулась, улыбаясь своей доброй улыбкой, словно сквозь слезы, и посмотрела ему в лицо своими голубыми глазами, лучащимися все той же иронической грустью, как и в первый раз, когда он назвал ей свое имя, – только тогда он узнал ее.
– Уже много лет мне не приходилось перечитывать коммюнике от четвертого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года, – сказала Клелия Тротти, прежде чем протянуть ему руку, указывая подбородком на доску. – Пришлось прийти сюда, чтобы это случилось.
Они встали рядом напротив большого окна, выходившего во внутренний сад с его чахлыми деревцами и рассевшимися на них воробьями, которые щебетали на весеннем солнце, и оперлись локтями о железную решетку.
– Прекрасная пора, не правда ли? – продолжила учительница, глядя на панораму красных крыш, открывавшуюся им за оградой сада.
– Прекрасная, – повторил Бруно.
Он краем глаза разглядывал ее. Она тщательно привела себя в порядок, напудрилась, даже на шее была видна пудра.
– Чувствуешь настоящее возрождение, – продолжила она, щурясь в отраженных солнечных лучах.
И добавила после паузы, все с той же внутренней радостью:
– Как же были правы мы, социалисты, хотя, по правде говоря, многие из нас и тогда думали иначе, слышали в колоколах, прославляющих итальянские победы тысяча девятьсот восемнадцатого года погребальный звон по нам! «…Из долин, в которые они спустились горделивой уверенностью…» [39]39
Фрагмент «Победной сводки» Армандо Диаза.
[Закрыть]Какой тон, да? В этом уже был заключен фашизм с его чванливой риторикой последних двадцати лет.
И вдруг, всплывая из стоячих глубин собственной горечи, Бруно почувствовал неудержимое желание ранить ее, причинить боль.
– Почему вы предпочитаете заблуждаться? – выпалил он. – Почему продолжаете обманывать себя? В Ферраре, как вы прекрасно знаете, мы, евреи, все или почти все, были не чем иным, как буржуа (я говорю: были, потому что сегодня, и, может, оно и к лучшему, мы не принадлежим более ни к какому классу и составляем, как в Средневековье, особую группу). Мы почти все были розничными и оптовыми торговцами, разного рода специалистами или даже землевладельцами; и тем самым, как вы мне говорите, почти все были фашистами, само собой разумеется. Вы даже не можете себе представить, сколькие среди нас до сих пор остались самыми горячими патриотами!
– Вы хотите сказать: националистами? – вежливо поправила Клелия Тротти.
– Называйте, как хотите. Мой отец, к примеру, пошел сражаться на плато Крас добровольцем. В тысяча девятьсот девятнадцатом году, вернувшись с фронта, он столкнулся на улице с группкой рабочих, которые, увидев на нем офицерский мундир, буквально покрыли его плевками. Сейчас, понятное дело, он уже не фашист, несмотря на то что именно его партийный билет тысяча девятьсот двадцать второго года дал нам возможность получить послабления… Сегодня он тоже думает только о палестинской родине. И все же я бы не мог поклясться, что проза генерала Диаза, которая до сих пор оказывает столь сильное воздействие на фантазии большей части моих… как мне их назвать?.. моих единоверцев, совершенно прекратила оказывать воздействие и на его фантазию!
– То, что вы говорите, мне кажется вполне естественным, – спокойно произнесла Клелия Тротти, – и легко объяснимым.
Она вовсе не казалась разочарованной, а лишь вновь опечаленной.
Она вздохнула.
– Первая мировая война, – продолжила она, – обернулась большой неудачей. Сколько ошибок она и нас заставила совершить! И все же вы мне кажетесь чересчур большим пессимистом. Ну хорошо, допустим, в общих чертах вы, возможно, и правы. Однако почему же вы не принимаете в расчет и себя самого? Вы не такой, как остальные, и вашего примера вполне достаточно, чтобы доказать, что у всякого правила есть свои исключения, если Богу угодно. И потом, вы молоды, у вас вся жизнь впереди; а для молодежи вроде вас, выросшей при фашизме, дела найдутся, поверьте мне!
Услышав, что Клелия Тротти использует те же фразы, что и ее отец, Бруно поднял голову. Во время разговора она опять отвернулась и стала смотреть в окно. Будущее, которое она видела, было там, где последние дома Феррары, темно-ржавого цвета, уступали место в направлении моря зелено-голубым сельским просторам.
Через несколько месяцев и фашистская Италия решилась вступить в борьбу.
– Наконец-то! – радостно воскликнула запыхавшаяся Клелия Тротти вечером десятого июня, торопливо входя в кабинет на улице Мадама. – Наконец-то! – повторила она, падая в кресло.
Она откинулась головой на спинку кресла и закрыла глаза. Уже не в первый раз, воспользовавшись сумерками и пренебрегая всеми запретами, она приходила к Бруно. Однако возбуждение, которое с самого начала вызывали у нее эти тайные визиты, все еще охватывало ее с той же интенсивностью.
Когда она слегка перевела дух, то сразу сказала, что фашизм своей безумной выходкой лишь подписал себе смертный приговор. Я в этом уверена, сказала она и принялась немедленно объяснять с необыкновенным жаром и увлечением, почему она столь убеждена в этом прогнозе.
Бруно молча глядел на нее. Она совершенно искренна, говорил он себе, кто бы мог усомниться в этом. И все же почему бы не признать это? Разве в ее глазах не сияла уверенность, что теперь, когда покинуть Италию стало действительно невозможно, Бруно уже не сможет уклониться от задания, для которого она в глубине души его предназначала, и вообще выскользнуть из ее рук, как она опасалась вплоть до вчерашнего дня? Конечно, так и было. Хотя все же по определенному выражению ее рта, мягкому и одновременно скептическому, было вполне очевидно, что она сама первая – годившаяся ему в матери! – запрещала себе всякое сравнение между стоявшим перед ней юношей и Мауро Боттекьяри, ее спутником в молодости, которому вступление Италии в войну дало в далеком 1915 году политический предлог, чтобы расстаться с ней и вновь обрести свободу.
Поначалу встречи в кабинете на первом этаже повторялись с определенной частотой. Все происходило под видом игры, естественно, типичной игры, пронизанной горечью и отсутствием условностей, характерными для тюрем: эта игра подразумевала, и Бруно это даже нравилось, некий налет секретности, почти даже эротической скрытности, который неизбежно приобретали их встречи. Сразу после ужина он спускался в кабинет; время от времени Тротти задерживалась. В ожидании ее появления ему не оставалось ничего иного, как пытаться читать книгу, готовиться к урокам. Но вот легкое царапанье по ставне снаружи, которое заставляло его вздрагивать.
Войдя, Клелия Тротти немедленно усаживалась в кресло. Иногда, даже не сняв серые нитяные перчатки (шляпку, несмотря на жару, от которой ее лоб покрывался испариной, она не снимала никогда), Клелия задерживалась у одного из четырех книжных шкафов, расставленных симметрично по четырем углам кабинета, приникнув носом к стеклу. В ее настойчивом нежелании открывать дверцы шкафа, чтобы достать книгу, проявлялась своего рода скромность. Она лишь внимательно просматривала обложки, иногда помогая себе с помощью грязноватого пенсне, которое доставала из своей большой черной кожаной учительской сумки.
– Почему бы вам не взять какую-нибудь домой! – подбадривал ее Бруно. – Я охотно вам их одолжу.
Она качала головой. При всех ее уроках у нее и времени не будет на чтение.
– Мой кругозор настолько устарел, – призналась она однажды вечером, – что для того, чтобы обновить его, мне пришлось бы совершить чрезмерное усилие, превышающее мои возможности. Я всегда хотела прочесть хотя бы одну книгу Бенедетто Кроче, к примеру: какую-нибудь из его менее мудреных работ, что-то по истории. Каждый год я откладывала: с одной стороны, беспокоилась о сестре Джованне. Бедняжка, как бы она испугалась, если б нашла в доме подобные книги; с другой стороны, возможно, из-за остатков недоверия… социалистов. Так, год за годом, прошли десятилетия, и вот настало время, когда это уже не имеет смысла. В юности я очень увлекалась философией. В то время были в моде Конты, Спенсеры, Ардиго, Геккели, монизм.
Она улыбнулась.
Потом добавила застенчиво:
– А ведь вы, наверно, хорошо знакомы с произведениями Кроче, да?
Это был лишь намек, не более, на то, что она прекрасно знала и что сам Бруно, впрочем сразу же раскаявшись в этом, не сдержавшись, заявил ей однажды: что он не социалист и что, скорее всего, никогда им не станет.
Но сильнее всякой боли, любого сожаления о том, что она не в состоянии ничему его научить, была утешительная мысль, что именно это и было справедливо и уместно: чтобы он был не социалистом именно, а кем-то иным, новым. Будущему в годы, темной тучей неизвестности ожидающие Италию и остальной мир по ту сторону едва начавшейся войны, – годы, до которых доберутся лишь ценой немалой крови и слез, они, социалисты старой школы, будут ни к чему, обычно говорила она. «Мы старички, убогие развалины», – твердила она, как бы заявляя тем самым, что назавтра на их место потребуются молодые люди, как он, Бруно, которые станут социалистами, не будучи ими. Только так будет возможно, когда придет время, задать задачу коммунистам, которые, хотя и были «гигантами», несомненно, особенно «в своих методах», принадлежали уже прошлому.
К концу сентября ОВРА неожиданно проснулась.
Однажды на закате агент политического сыска в штатском пришел узнать, находится ли синьора Тротти «в своем доме». Насмерть перепуганная синьора Кодека ответила, что ее сестра, конечно же, дома. Но что-то – возможно, волнение женщины – вызвало подозрение агента. Он решил не уходить, пока не удостоверится собственными глазами, принеся тысячу извинений, что все в порядке. Становилось небезопасно. Из страха, что неожиданное пробуждение полиции предвещало ужесточение режима контроля над поднадзорными, Клелия Тротти решила на время отказаться от своих ночных вылазок. При необходимости они смогли бы увидеться с Бруно днем: естественно, избегая встречаться, в силу очевидных мер предосторожности, в кабинете на улице Мадама.
Иногда, хотя и не так часто, как раньше, пользуясь для организации встреч посредничеством Ровигатти, который, ревнуя к Тротти, шел на это неохотно, они встречались на площади Чертозы. Со своей точки зрения, рассуждал Бруно, Ровигатти не так уж и не прав. Чем они могли заниматься вместе, он и Клелия Тротти, о чем говорить, что бы стоило такого риска, которому они себя подвергали? Ведь они виделись не для того, высказывал предположения Ровигатти, чтобы лишь поговорить о «Радио Лондона» [40]40
Начатые в годы войны специальные передачи британского радио Би-би-си, адресованные народам континентальной Европы.
[Закрыть]и полковнике Стивенсе. Не для этого. Неужели действительно стоило в такой обстановке дразнить полицию?
Он попытался передать учительнице комментарии сапожника, честно стараясь найти им оправдание. Бесполезно. Каждый раз, когда он вновь заговаривал об этом, она раздраженно передергивала плечами.
– Вот зануда! – вздыхала она. – Бедный Чезарино, – рассмеялась она однажды вечером – никогда еще она не выглядела так молодо. – Он ведет себя так, потому что любит меня. Знаете, с какого времени мы с ним знакомы?
– До начала той войны, полагаю.
– О, гораздо раньше! С начальной школы. Мы оба жили в переулке Грегорио.
– Значит, с Боттекьяри, адвокатом, вы познакомились гораздо позже.
– Намного позже, – отвечала она сухо.
И глядела на него, молодая как никогда, не без иронии.
Светлыми, долгими сентябрьскими вечерами широкий луг перед церковью Сан-Кристофоро был полон, как всегда в погожее время года, детьми, няньками, влюбленными парочками. Бруно Латтес и Клелия Тротти разговаривали, сидя рядом: чаще всего на бордюре церковного двора или прямо на траве, на границе тени, которая с заходом солнца медленно вырастала в сторону южной оконечности портика, со стороны улицы Борсо.
– Красиво, вы не находите? – говорила Клелия Тротти, глядя на площадь. – И не подумаешь, что находишься на кладбище.
Видите ли, – сказала она однажды, – я никогда не понимала, почему мертвецы, как у нас принято, должны находиться в изоляции, так что для визита к ним порой требуется разрешение, как для посещения тюрьмы. Наполеон был великим человеком, вне сомнения, потому что он привил Европе и Италии, через нашу Цизальпийскую республику, демократические и социальные завоевания Французской революции. Что же до его знаменитого эдикта о кладбищах, я остаюсь того же мнения, что и автор «Гробниц» [41]41
Уго Фосколо (1778–1827), итальянский поэт.
[Закрыть]. Верите ли? Мне бы хотелось быть похороненной тут, снаружи, на этом красивом лугу, в окружении непрерывного шума жизни, и пусть даже это будет мне стоить вечного отлучения.