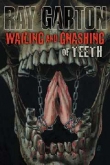Текст книги "В стенах города. Пять феррарских историй"
Автор книги: Джорджо Бассани
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Затем он начал говорить, помогая себе жестами. И его слова несомненно достигли бы самых дальних концов площади Чертозы (от напряжения лицо сенатора побагровело), если бы именно в этот момент со стороны улицы Борсо не произвел шумное вторжение мотороллер – «веспа» [29]29
Популярная марка мотороллера, которая производится с 1946 г.
[Закрыть], один из первых, что появились на улицах города сразу после войны. Выхлопной трубе «веспы» недоставало глушителя. Более того: торчавшая у скутера по левому боку яркая штуковина из хромированного металла, вместо того чтобы приглушать хлопки двигателя, явно служила обратному – делать их более резкими и шумными, подчеркивая юный возраст беспокойного седока, то и дело поддававшего газу резким движением запястья.
Прерванный на полуслове, сенатор Боттекьяри замолчал. Хмуря густые белые брови, он устремил взгляд в глубь площади. Из-за дальнозоркости он мало что мог разглядеть и нервным движением дрожащей широкой руки снял с носа миниатюрное пенсне – и сразу четко вырисовалась далекая фигурка девушки на «веспе», которая, выехав с улицы Борсо и теперь сбавив скорость, огибала портики площади за спинами стоявших полукругом людей. О, по всей видимости, девушка эта весьма молода, из хорошей семьи – выразили сложившиеся в печальную улыбку губы сенатора Боттекьяри. Кто бы это мог быть, чья она дочь? – будто говорил он, с недоверчивым и раздраженным выражением на лице, словно, оценивая загар этих крепких ног пятнадцатилетней особы, проведшей как минимум два месяца на пляжах в Римини или в Риччоне (да уж, кончились военные потрясения, и буржуазия спешит вернуться к своим старым привычкам!), перебирал в уме по именам все видные буржуазные семьи города, в число которых всегда входили и Боттекьяри. «Какое безобразие! – наконец вскинулся он с горечью задетого за живое, непонятого человека. – Я спрашиваю себя, – прибавил он, указывая рукой на юную хозяйку мотороллера, чьи волосы были стянуты красной лентой, а тонкий, почти мальчишеский стан – узкой блузкой из черного шелка. – Я спрашиваю себя, как можно быть настолько невоспитанными!» И толпа – сотни возмущенных лиц, разом обернувшиеся в сторону девушки, – дружно зашипела на нее:
– Тсс!
Девушка не поняла, что обращаются к ней, или сделала вид, что не поняла. Она уже достигла того места на площади, куда направлялась (сенатор Боттекьяри, увидев, как она исчезла за лесом фигур, взобравшихся, чтобы лучше видеть происходящее, на тумбы перед фасадом церкви, все ждал, что она вот-вот вынырнет чуть дальше по ходу движения), но однако не только не сочла необходимым заглушить двигатель, но даже, хотя уже и стояла на месте, продолжала невозмутимо поигрывать рукояткой газа, заставляя машину под нею время от времени резко, шумно взвывать.
– Ради Бога, заставьте ее прекратить! – вне себя вскричал сенатор Боттекьяри.
– Тсс! – хором отозвались взобравшиеся на тумбы мужчины: Боттекьяри видел их затылки, их взгляды, с укором направленные сверху вниз на сцену, которую наблюдать напрямую он не мог, даже поднявшись на цыпочки. Однако никто не решился спрыгнуть на землю, никто не желал рисковать своим местом, чтобы прекратить это безобразие!
Сидя на каменном бордюре церковного двора, откуда было все отлично видно – и сенатора Боттекьяри вдали, ждущего, когда можно будет возобновить прерванную речь, и – совсем рядом, в двух-трех метрах, – девицу на «веспе», со взглядом чьих голубых глаз вот-вот должны были встретиться его глаза, Бруно Латтес вздрогнул.
Ему было не по себе (из продолжения рассказа станет ясно почему), и он отвел взгляд. Когда он, спустя несколько мгновений, снова поднял глаза, девушка уже не смотрела на него. Теперь она с нескрываемой иронией глядела на паренька – примерно ее ровесника, белокурого, как и она, и с тем же жестким и безразличным выражением светлых глаз. Он сидел на том же бордюре прямо напротив нее, между коленями зажата ракетка, белый свитер накинут на плечи и завязан узлом за рукава. Несомненно, эти двое – парочка, подумал Бруно Латтес, вот они и назначили встречу на площади Чертозы! Но кто же она, кому приходится дочерью? – размышлял он, между тем как взгляд, словно примагниченный, не мог оторваться от красной ленты в волосах у девушки. Возможно ли, чтобы война, те тяжелые годы, когда он был подростком, а она девочкой, не оставили на ней ни малейшего отпечатка? Неужели по всей Италии подростки сейчас такие, не желающие ни о чем слышать тинейджеры, словно сошедшие со страниц американских иллюстрированных журналов?
– Я тебя почти полчаса тут жду, – говорил юный теннисист, даже не думая подняться на ноги.
– Еще жалуешься! – ответила девушка и с насмешкой кивнула в сторону забитой людьми площади. – Кажется, ты тут не скучал, – прибавила она.
– Тсс! Тишина! – в третий раз повторили стоящие на тумбах люди.
Ее приятель решил играть роль киношного «сурового парня». Он с ухмылкой показал на мотороллер:
– Может, пора уже пальчикам успокоиться?
– Поехали отсюда, – заныла было девушка, однако слезла с сиденья и заглушила мотор, усевшись рядом с дружком. – Ты что, хочешь остаться здесь?
– Перед этим гробом, заключающим смертные останки Клелии Тротти, нашей незабвенной Клелии, – продолжил прерванную речь сенатор Боттекьяри голосом, предвещающим крупные слезы, которые спустя мгновение покатятся по его пунцовым щекам, – я, дорогие товарищи, друзья, сограждане, не могу не обратиться к нашему общему прошлому. Если я правильно помню, мы – Клелия Тротти и ваш покорный слуга, – мы познакомились в апреле тысяча девятсот четвертого года…
Медленно повернувшись, Бруно Латтес снова посмотрел в сторону оратора. И опять вздрогнул. Одетый в черное человечек, со строгим, чопорным видом стоящий сбоку от сенатора Боттекьяри, – кажется, он ему знаком? Не Чезаре Ровигатти ли это, сапожник с площади Санта-Мария-ин-Вадо?
Как немного времени прошло, с горечью затем отметил он, с тех пор как после событий 25 июля 1943 года, в августе он уехал из Феррары в Рим, а оттуда меньше чем через год перебрался в Соединенные Штаты Америки! Но как же много всего случилось за этот небольшой отрезок времени!
В начале этого последнего, жестокого трехлетия его родителей, до конца не веривших в то, что им придется бежать, и не пожелавших обзавестись фальшивыми документами, депортировали немцы – их имена, в списке почти из двух сотен фамилий, теперь значились на доске, которую еврейская община повесила на фасаде храма на улице Мадзини. А он? Он, в отличие от них, сбежал из Феррары. Скрылся как раз вовремя, чтобы не разделить участь отца и матери или, как знать, не быть расстрелянным в декабре того же года головорезами Сал о – благодаря чему он не только остался цел и невредим, но и успел уже начать достойную, тихую университетскую карьеру (разумеется, он пока только внештатный преподаватель, «lecturer in Italian [30]30
Преподаватель итальянского ( англ.).
[Закрыть]», но скоро будет принят на постоянной основе, что ему позволит впоследствии, после еще нескольких месяцев ожидания, получить вожделенное американское гражданство…).
Одним словом, последние три года стоили целой жизни. И все же Ровигатти, глядите-ка – продолжал размышлять Бруно Латтес и, не замечая того, сам себе кивал, – казалось, нисколечко не состарился, даже седины в черных волосах заметно не прибавилось. В той же мере, что и для сенатора Боттекьяри и всех остальных феррарских антифашистов, в официальном составе присутствующих сегодня на похоронах Клелии Тротти (он со всеми ними перезнакомился, начав посещать в 1939 году антифашистские круги); в той же мере, что и для Феррары, которая, если не считать разрушенных зданий, ко всему прочему полным ходом восстанавливаемых, с самого первого мгновения показалась ему неотличимой от города его детства и юности (пусть без мебели и с голыми стенами, дом, в котором он родился и вырос, был возвращен ему совершенно нетронутым, как опустелая морская раковина), для Ровигатти – в первую очередь именно для него! – время, казалось, прошло зря, даже чуть ли не остановилось.
Итак, вот он, в заключение подумал Бруно Латтес, – старый, маленький провинциальный мирок, который он оставил за спиной. Словно восковые копии, они все были здесь, воспроизводя в точности самих себя. А Клелия Тротти?
Последний раз он виделся с ней за день до отъезда – именно здесь, на площади Чертозы, почти что в том самом месте, где теперь стоял гроб; в его памяти за эти долгие сорок месяцев образ Клелии Тротти оставался неизменным.
Как бы ему хотелось теперь увидеть ее тоже вылепленной из воска, неподвижной, как гротескная статуэтка, с которой он был бы волен обращаться, как ему заблагорассудится, от насмешки до поклонения! Он бы с улыбкой сказал ей: «Теперь вы видите, что я был прав, когда обещал вам вернуться? Теперь вы видите, что напрасно мне не верили?»
Пусть бы она не менялась, пусть бы оставалась всегда той же, какою он видел ее в последний день, перед тем как уехать, перед тем как спастись бегством. Этого бы он посмел требовать от нее, если бы она тем временем не умерла.
II
Поздней осенью 1939 года, когда, спустя примерно год после введения расовых законов, Бруно Латтес решил заняться поисками Клелии Тротти, он не знал о ней почти ничего. Из чужих рассказов у него составилось представление о ней как о сухонькой неухоженной женщине лет под шестьдесят, монашеского вида, мимо такой на улице пройдешь мимо, не обратив внимания. С другой стороны, кто тогда в Ферраре мог утверждать, что знает ее лично, кто вообще помнил о ее существовании? Даже сенатор Боттекьяри, несмотря на то что в молодости очень тесно с нею общался, когда на заре его политической карьеры они вместе заведовали легендарным «Народным светочем» (как поговаривали, они еще были и любовниками, по крайней мере до того, как разразилась Первая мировая), – даже он вначале ничего не мог сказать о ней, как будто давно потерял ее из виду.
– Вот и наш малыш Латтес! – воскликнул сенатор из-за внушительного стола в ренессансном стиле, служившего ему рабочим местом, когда Бруно специально явился к нему в кабинет в надежде что-нибудь узнать о старой учительнице. – Входи, входи! – весело прибавил он, увидев, как Бруно нерешительно мнется на пороге. – Как папа?
С этими словами он приветственно и ободряюще протянул Бруно свою могучую руку; поднявшись с удобного адвокатского кресла, целиком обитого красным атласом, он с радушием рассматривал гостя с ног до головы. Однако, едва Бруно заикнулся о Тротти, словоохотливость сенатора сменилась опасливой сдержанностью.
– Ну да… погоди-ка… – в явном замешательстве ответил он, – кто-то, не помню уже кто, говорил мне, что она вроде бы живет… что она переехала в район Сарачено… где-то на улице Бельфьоре…
Сказав это, он перевел разговор на другие темы – о войне, о drôle de guerre [31]31
«Странная война» ( фр.) – распространенное в литературе название периода войны Франции и Англии против фашистской Германии в начале Второй мировой войны, с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 г.
[Закрыть], о вероятности вступления в нее Италии, вернее, Муссолини, об ожидаемых «демаршах» Гитлера. «Да уж, – говорили тем временем его голубые с красными прожилками глаза, в которых то и дело вспыхивала искра ироничного ликования, – да уж! Двадцать лет вы глядели на меня с подозрением, вы тожеизбегали и презирали меня за то, что я антифашист, революционер, противник режима, и вот теперь вашчудный режим вышвырнул вас, стойте теперь в Каноссе [32]32
Аллюзия на «стояние в Каноссе» (1077 г.) императора Генриха IV, вымаливавшего так прощение у папы Григория VII.
[Закрыть], опустив уши и поджав хвост!»
Так он и продолжал вести беседу о вещах посторонних, не уходя от сферы международной политики и от того рода разглагольствований на военные темы – эти темы фашисты саркастически окрестили «высокой стратегией», – которые в те дни всякий раз, когда по радио передавали ежедневные известия с застывшего на линии Мажино фронта, звучали в «Биржевом кафе». Ясно, что он не хочет, по крайней мере в этот раз, подумал Бруно, чтобы беседа сошла с этих рельсов. Легкая заговорщицкая интонация, слышавшаяся в его голосе, не могла оставить у слушателя совершенно никаких сомнений. Это был знак дружбы, с давних лицейских времен связавшей его, Боттекьяри, и его отца, тоже адвоката, – в силу которой (по правде говоря, это было бы уместнее назвать скорее не дружбой, а взаимопониманием между состоятельными буржуа и коллегами!) они продолжали обмениваться, и после «марша на Рим», и после казуса Маттеотти, церемонными и доверительными приветственными улыбками на расстоянии, по заведенному обычаю, с противоположных тротуаров проспекта Джовекка… Поэтому позже, по окончании их «тайной сходки», как выразился депутат, для Бруно было неожиданным сюрпризом, что именно он, сенатор, перед расставанием вновь вернулся к разговору о Клелии Тротти.
– Если тебе удастся на нее выйти, передавай от меня привет… – сказал он с сердечной улыбкой, похлопывая Бруно по плечу через полуоткрытую входную дверь.
Потом добавил вполголоса:
– Знаешь Ровигатти, Чезаре Ровигатти, сапожника, у него мастерская на площади Санта-Мария-ин-Вадо, напротив церкви?
всегда у него туфли чинили, – вырвалось у Бруно, он почувствовал, что краснеет. – А что такое?
– Этот человек, – объяснил сенатор, – может сказать тебе, где Тротти. Сходи к нему, спроси. Но осторожнее, – добавил он едва слышно (дверь с матовыми стеклами почти закрылась, оставалась лишь узенькая щелочка), – осторожнее: она под надзором!
На пороге парадного Бруно первым делом посмотрел вверх, на слабо освещенный циферблат часов на площади. Семь. Может, стоит сразу сходить к этому Ровигатти? – подумал он. Если поторопиться, можно застать его у себя в каморке. Он ведь никогда не закрывал мастерскую раньше восьми или полдевятого.
Бруно ждал подходящего момента, чтобы незаметно выскользнуть на улицу. Наконец он решился, быстро пересек площадь, в этот час всегда людную, и нырнул под портики собора.
Теперь он шел медленнее, засунув руки глубоко в карманы плаща, размышляя о странном поведении сенатора.
Он вспоминал выражение лица, мелькнувшего в последний момент через незакрытую дверь. Тот сказал: «Ровигатти» – и подмигнул. Что же все-таки хотел сказать сенатор Боттекьяри этим заговорщицким подмигиванием? На самом ли деле он хотел этой пошловатой гримасой и произнесенным именем как бы попросить у него прощения за то, что во время беседы слишком придерживался общих тем? Или же он не хотел намекать на давнишнюю, возможно, все еще тайно продолжавшуюся связь с соратницей по партии: ведь этого намека было бы достаточно, чтобы лишить и то немногое, что было сказано, какого бы то ни было политическоговеса? Действительно, именно так обычно вели себя в Ферраре, когда, полухвастливо, полустыдливо, мужчины признавались друг другу (в первую очередь буржуа!) в связи с девушкой из народа. Именно так, с незапамятных времен. Но с другой стороны, разве не было весьма странным, что Боттекьяри, бывший депутат от социалистов, старинный антифашист, тот, кто выглядел человеком, никогда не склонявшим головы, надел на себя, не важно, что ненадолго, не важно, в шутку ли или из кокетства, слащаво-жестокую маску конформистского стада, бесцеремонно заполонившего улицы, кафе, кино, танцзалы, спортивные площадки, цирюльни, даже дома терпимости, властно исключив всех, кто был или казался иным? Правда была в том, что даже депутат Боттекьяри не смог без потерь, не исказив свой характер, такой прямой и гордый в молодости, пройти под прессом тех десятилетий, с 1915 до 1939 года, когда в Ферраре, как и повсюду в Италии, происходило постепенное разрушение всех ценностей. Да, конечно, его коллеги-адвокаты, почти все фашисты, буквально исходили пеной от ярости, когда он, произнося защитные речи в суде, выражал свой взгляд на вещи. Многим из них, несомненно, хотелось сбить его с ног, вцепиться в отвороты мантии и грубо рявкнуть в лицо: «Вы ведь на это намекали, да? Признавайтесь!» Но на самом деле они никогда не мешали ему говорить, довольные уже тем, что заставляли старого бойца еще и еще раз говорить не говоря, выражаясь полунамеками, и эта манера с годами стала у него своего рода привычкой, тиком, почти что выражением его второй натуры. Какое уж там: если даже депутат Боттекьяри, несмотря на свое прошлое, всегда мог себе позволить, по дороге домой из конторы или из суда, каждый день пешком пройтись по проспекту Джовекка с бесстрашно развевающейся на ветру белоснежной, сияющей шевелюрой перед немногочисленными друзьями и многочисленными противниками, все это не могло произойти без того, чтобы и он, в глубине души, не утратил чего-то.
Погрузившись в эти мысли, сжимавшие сердце тисками тоски, наталкиваясь на прохожих и получая толчки в ответ, Бруно медленно двигался по улице Мадзини и улице Сарачено. «Какая мерзость!» – шептал он время от времени сквозь зубы. С ненавистью смотрел он на сверкающие витрины, на людей, замерших перед стеклами, разглядывая выставленный товар, торговцев, стоявших у входа в свои лавки и магазины, похожих своими манерами, как говорили, на старых мегер, застывших, наполовину высунувшись из дверей, на порогах борделей улицы Коломба, Сакка и так далее. Бруно, еще не остывший от увлечения, которое до августа того года приковало его к одной из самых блестящих и элегантных девиц Феррары, Адриане Трентини, когда идущие навстречу ему женщины – особенно красивые, светловолосые и изящные – нечаянно соприкасались с ним, словно ощущал, что все их существо, все манеры, вызывавшие одновременно преклонение и презрение, несли на себе плохо скрываемый отпечаток развращенности. «Какая гниль, какой стыд!» – яростно повторял он, почти не снижая голоса.
И все же, по мере того как он продвигался вперед, удаляясь от центра, и улицы становились все более узкими и темными, его гнев и отвращение постепенно уходили. Свернув налево, на улицу Борго-ди-Сотто, он дошел почти до улицы Бельфьоре. Собирался пересечь ее и пойти дальше. Но из-за прикрытых ставень домов на улице Бельфьоре, по крайней мере, до того места, где улица делала резкий поворот, сочился лишь скудный желтоватый свет. К кому обращаться, в какую дверь звонить? Люди ужинали (и дома, кстати, его наверняка уже ждали). Вспомнив про Ровигатти, он продолжил путь.
Неожиданно перед ним появилась окутанная туманом площадь Санта-Мария-ин-Вадо, с темным фасадом церкви с одной стороны, погруженной в сумрак улицей Скандиана напротив, с фонтанчиком в центре, у которого болтали две женщины, бедными лавчонками и лачугами вокруг, из которых доносились, вместе с неярким светом, запахом жаркого и каштанового пирога, мягкие, мирные звуки: слабые удары по наковальне, приглушенный плач ребенка, «спокойной ночи» и «до свидания», которыми обменивались двое пожилых мужчин в глубине невидимого портика, звон стаканов… Взгляд его скользнул вниз, налево, к маленькому окну, освещенному чуть ярче остальных. Ровигатти сидел там, склонившись над своим столиком: за пыльным стеклом был едва различим знакомый силуэт. Когда он направился в ту сторону, ему показалось, будто сам он оставался недвижим, а тень сапожника плывет к нему сквозь туман.
Он вошел, снял шляпу, протянул руку Ровигатти поверх столика, уселся напротив него, без труда, сразу же узнал точный и полный адрес учительницы: улица Фондо-Банкетто, 36, семейство Кодека. Потом завязался разговор о множестве других вещей. В результате и на этот раз он вернулся домой, когда ужин давно уже закончился.
На следующий день он, волнуясь, позвонил в дверь дома номер тридцать шесть по улице Фондо-Банкетто. И конечно, если бы его сразу приняли, если бы толстая синьора с черными с проседью волосами и недоверчивым видом («Сестра», – сухо объяснил потом Ровигатти) не появилась на крыльце со словами, что учительницы нет дома, если бы она же, в черной сатиновой накидке, с фашистским значком, приколотым на груди, не вышла на следующий день сказать, что учительница проводит урок и поэтому никого не может принять, а на другой день – что, ей нездоровится, а на следующий – что она уехала в Болонью и вернется только на той неделе, и так далее, неделя за неделей, – вполне вероятно, что, если бы не это, Бруно и Ровигатти не имели бы возможности подружиться настолько, как это случилось. Бруно сразу понял, что ему придется долго дожидаться приема в Санта-Мария-ин-Вадо. Как долго? – спросил он себя. Знала ли Клелия Тротти о его попытках познакомиться с ней? Сообщила ли ей сестра, в замужестве Кодека, о том, что он заходил к ним почти каждый день?
Каждый раз он нажимал на кнопку звонка с бьющимся сердцем; каждый раз его вновь постигало разочарование. Отвергнутый, он сворачивал на площадь Санта-Мария-ин-Вадо, всего лишь в трехстах метрах от дома. Стеклянная дверь мастерской Ровигатти, та всегда была открыта, он мог на это рассчитывать. Достаточно было легонько стукнуть двумя пальцами, как тут же из-за нее появлялся сам сапожник, прядь блестящих черных волос, моложаво спадающих наискосок на бледный лоб, у висков усеянный черными точками; улыбка, темные, горящие лихорадочным блеском глаза, глядящие на него снизу вверх. «Добрый вечер, молодой синьор Бруно, как поживаете? – говорил Ровигатти. – Проходите, садитесь». И тот заходил внутрь, не веря своему счастью.
Порой они засиживались за разговором позже девяти часов. Бруно, устроившись на скамейке напротив, наблюдал за работой сапожника.
Обмотав дратву вокруг ладоней, не менее жестких, чем кожа, из которой он сначала вырезал подошву, Ровигатти энергично тянул ее на себя; во рту он все время держал, для удобства, горсть маленьких гвоздей, и его язык и губы с удивительной быстротой и точностью возвращали их по мере необходимости; прочно удерживая башмак между сомкнутых, как тиски, коленей, он без устали, автоматическим движением стучал по нему молотком… Какой молодец, как уверенно работает! – думал Бруно. Какую силу, какое знание себя, казалось, получал Ровигатти из ежедневного упражнения в физическом труде! Он орудовал своими большими почерневшими, невероятно мозолистыми руками и во время беседы, что очевидно не составляло для него ни малейшего затруднения. Напротив. Гвоздь, загнанный в толщу кожи одним ударом молотка, казалось, лучше помогал ему порой выделить мысль, чем какое бы то ни было дополнительное рассуждение.
Что же все-таки разделяло их? – часто спрашивал себя Бруно. Что мешало сразу же получить полное и безраздельное доверие сапожника? Классовые различия, возможно? Неужели?
Когда Бруно заговаривал о фашизме с осуждением (это было лишь средством привлечь Ровигатти на свою сторону, ощутить его менее отстраненным и особенно добиться помощи в том, чтобы чертоги Клелии Тротти распахнулись раньше, чем это было предписано), тот порой молча слушал, порой отвечал – если и не холодно, то спокойно и чересчур объективно.
– Да нет, я бы так не сказал, – возразил однажды он, быстро выглянув наружу, на площадь. – Нет, я бы так не сказал: что-то хорошее сделали и фашисты.
Он явно ликовал. И не только потому, что молодой синьор Бруно, сын господ, владельцев особняка на улице Мадама, которым вот уже почти двадцать лет он латал обувь, пришел к нему с визитом, но и потому, что он только что смог позволить себе роскошь признать за общим противником какие-то небольшие заслуги. Я-то сам не синьор, казалось, говорил он. Среди бедняков, преследуемых, униженных, Чезаре Ровигатти родился и вырос. И что? Только по той причине, что Чезаре Ровигатти был всего лишь сапожником, только поэтому от него теперь ожидали проявления тупой обиды, слепой ненависти без разбору? Нет уж, слишком просто! Кончилось то время, когда богачи, власть имущие, могли использовать трудовой люд в качестве управляемой народной массы, оставляя себе монополию на высокие чувства! Хватит двусмысленностей! А если кто-нибудьв своем заблуждении и сегодня примется за старые трюки прошлого, предлагая рабочему классу благородную задачу доставать из огня каштаны, ему не предназначенные, так тем хуже для этого кого-нибудь!
Гораздо больше, чем о политике, он любил говорить о другом. Например, о литературе.
Вам нравится Виктор Гюго? – спрашивал он. Непревзойденная книга, «Девяносто третий год»! А «Отверженные»? А «Человек, который смеется»? А «Труженики моря»? В Италии девятнадцатого века, хотя и не на таком высоком уровне, только Франческо Доменико Гуэррацци сумел сделать нечто подобное в плане романов. И все же в целом итальянская литература с точки зрения пролетария – полная катастрофа, особенно если учитывать уровень образования, на который может рассчитывать пролетарий в нашей стране! Среди поэтов, если как следует присмотреться, останется один Данте, «величайший в мире поэт». Те, кто были после него, писали не длянарода, а длягоспод, всегда. Петрарка, Ариосто, Тассо, Альфьери (да, и Альфьери тоже!), Фосколо: все это – для элиты. Что же до «Обрученных» [33]33
Роман Алессандро Мандзони.
[Закрыть], то от него слишком разит ладаном, он чересчур реакционен! Нет уж если кто-то желает прочесть нечто достойное – скромное, но достойное, – надо перескочить до самого Кардуччи с его «Любовной песнью», до Стеккетти с его социальными филиппиками. Да, кстати: сейчас, в двадцатом веке, если не считать «этого дегенерата д’Аннунцио», если не считать Пасколи, как на самом деле обстоят дела у нас в литературе? У него, к сожалению, недостаточно времени, чтобы быть в курсе: городская библиотека, закрывающаяся в семь, не позволяет ни одному трудящемуся, даже свободному, как он, от семейных обязанностей, воспользоваться вечерними часами этого общественного учреждения. А с молодым синьором Бруно все обстоит иначе. Хотя и он, будучи евреем, не может больше посещать городскую библиотеку, тем не менее он преподает в еврейской средней школе на улице Виньятальята и тем самым, хотя еще и не окончил университета, может, несомненно, считать себя преподавателем. Так вот, он, молодой синьор Бруно, такой образованный, несомненно, осведомленный о последних новостях, полагает ли он, что теперь в Италии еще есть хорошие писатели?
Неожиданно охваченный глубоким чувством бесполезности, своего рода бессилия, Бруно молчал.
– В этой области, готов побиться об заклад, – заключал Ровигатти, качая головой, – сегодня не творят ничего прекрасного, действительно полезного!
Но на самом деле темой, которая в наибольшей степени приводила Ровигатти в хорошее расположение духа, была его собственная профессия.
Его ремесло было скромным, говорил он, даже чрезвычайно скромным: никто не был в этом убежден больше него. Благодаря нему все же он не только смог прилично сводить концы с концами начиная с юных лет, но и устоять, не согнувшись, в течение всего периода диктатуры. И потом, пусть молодой синьор Бруно не думает, и у сапожного ремесла есть свои интересные стороны! Любая человеческая деятельность ими обладает: главное – заниматься ею с увлечением, «отдавая себя», знать все ее секреты.
На этот раз он говорил уже без иронии, без малейшей язвительности. И Бруно, слушая его и понемногу забывая собственную грусть, в конце концов чувствовал себя почти счастливым.
Стоптанный башмак в его руках становился всегда чем-то живым. По тому, как клиент побил носок, стер каблук, деформировал верх, Ровигатти безошибочно угадывал с помощью интуиции характер владельца.
– Вот этот синьор, пожалуй, вряд ли заплатит за работу, – говорил он, к примеру, вертя в руках узкие черные лаковые туфли, выглядевшие как новые, однако скрывавшие под острыми носами значительные следы износа. А осторожность, с которой он протягивал их Бруно, чтобы тот рассмотрел туфли с тем интересом, которого они заслуживали, позволяла точно определить их владельца, которым был не кто иной, как Эдельвейс Феньяньяни, известный городской «старый повеса».
– А ты, блондиночка, куда спешишь-то? – шептал он, посмеиваясь, водя мозолистым большим пальцем по высоченному, острому, как кинжал, каблуку женской туфельки из крокодиловой кожи, которая была разлохмачена энергичной, темпераментной, победной походкой хозяйки.
Однажды он показал Бруно, среди прочих, и башмаки депутата Боттекьяри, «вождя нашего форума» (так и сказал, не без сарказма).
– Понятно, и у него есть свои недостатки, – добавил он через мгновение, и взгляд его горел сдерживаемым рвением, твердой преданностью, – но этому человеку еще можно доверять. Что с того, что он обуржуазился? Он зарабатывает, и неплохо. У него красивый дом, красавица жена… красавицей она была в свое время, естественно, а теперь тоже разменяла пятый десяток… За ум и ораторский талант даже фашисты его уважают, бегают за ним. Однако вот что имеет значение: когда ему и в прошлом году предложили членский билет, он знаете что сделал? Швырнул его им в лицо!
Он все продолжал вертеть в руках башмаки депутата Боттекьяри (пара коричневых башмаков с квадратными носами: обувь сангвиника, оптимиста, весом больше сотни килограммов), бок о бок с которым в молодости он боролся в рядах Итальянской социалистической партии Джакомо Маттеотти, Филиппо Турати и Анны Кулешовой [34]34
Макаревич (урожд. Розенштейн) Анна Марковна (Моисеевна) (1854–1925). Дочь симферопольского купца, известная активистка социалистического движения в России. В 1877 г. эмигрировала в Европу и поселилась в Париже под фамилией Кулешова. В 1878 г. она навсегда связала свою жизнь с итальянским рабочим движением. Была замужем за итальянским социалистом Андреа Коста, позднее за Филиппо Турати. Ее имя, принятое в Италии – Кулешова, – стало широко известно в международном социализме.
[Закрыть]и вместе с которым в 1924 году он подвергся нападению в Потребительском кооперативе трамвайных работников: оба они чудом спаслись, убежав через запасный выход.
Он кивнул подбородком в сторону улицы Фондо-Банкетто.
Ни он, ни другие друзья прежних времен, продолжил Ровигатти, не виделись с депутатом Боттекьяри уже лет двадцать, это правда. Однако не далее чем неделю тому назад, заметив его на противоположном тротуаре проспекта Джовекка (по другую сторону баррикад! – подумал Бруно и, как никогда, почувствовал солидарность с Ровигатти, с Клелией Тротти, со всеми преданными и забытыми бедолагами города и деревни, которых он представлял себе за теми баррикадами, счастливый и благодарный, что теперь-то он с ними, навсегда), так вот, не далее чем неделю тому назад депутат, по обыкновению радушный и приветливый, крикнул ему, подняв руку и размахивая ею над головой:
– Привет, Ровигатти!
III
В один прекрасный день дверь дома на улице Фондо-Банкетто распахнулась, однако на пороге показалась не всегдашняя коренастая фигура синьоры Кодека. Это должно было случиться. В любой уважающей себя сказке (было, по всей вероятности, три часа пополудни: в самом деле, чувствовалось нечто нереальное в тишине безлюдного предместья) редко бывает, чтобы дело не завершилось исчезновением Чудовища или его превращением. Вдруг чары рассеялись, синьора Кодека исчезла. И кто же, как не Клелия Тротти собственной персоной, вышла вместо нее открыть дверь? Конечно же, это она, говорил про себя Бруно. Это может быть только она, сухонькая, неухоженная женщина монашеского вида, о которой судачат люди! Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть ей в глаза. Все те же великолепные глаза прекрасной соперницы Анны Кулешовой, порывистой героини рабочего класса, которую депутат Боттекьяри любил в молодости…
Сбросив драконью кожу, чудесным образом вернув себе подлинное обличье, Клелия Тротти, подобно сказочным принцессам, мягко улыбалась юноше, стоявшему на мостовой перед ее дверью с удивленным, ошеломленным видом. Тут было бы достаточно сказать: «Входите, прошу, я знаю, зачем вы пришли»; за ними медленно затворилась бы дверь, оставив позади тихую улочку Фондо-Банкетто, и сказка обрела бы безупречную концовку. Однако фраза эта не была произнесена. Мягкая улыбка – впрочем, контрастировавшая с явно пытливым взглядом голубых глаз – была лишь вопросительной: «Кто вы? Что вам нужно?» И Бруно с легкостью догадался. Ясно, подумал он, никто до сих пор так и не сообщил Клелии Тротти его имени: ни синьора Кодека, ни сам Ровигатти! Поэтому пришлось через все еще неприступный порог назвать по слогам имя и фамилию: «Бру-но Лат-тес». Этого хватило, чтобы с изумлением, сразу же появившимся на лице Тротти (настоящим изумлением и вместе с тем безоговорочным доверием, в то время как край светлой радужки как бы подернулся густой пеленой грусти), действительность начала обретать подлинные размеры и очертания.