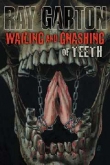Текст книги "В стенах города. Пять феррарских историй"
Автор книги: Джорджо Бассани
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
С противоположной стороны облик дома был иным до неузнаваемости.
Дом напоминал благородный особняк из неоштукатуренного красного кирпича. И приходившим с визитом родственникам Элии при взгляде на него казалось невероятным, что сельская местность – тот мир, о существовании которого улица Гьяра, с ее обликом, пусть и спокойным, уединенным, но все же явно городским, заставляла почти забыть, – начиналась лишь в нескольких десятках метров, чуть дальше последней завесы фасадов, в основном буржуазных, но иногда и более благородных, среди которых был и фасад дома доктора Коркоса.
Коркосы, Йоши, Коэны, Латтесы или Табеты – никто из его родственников и свойственников не выглядел оробевшим перед начищенной до блеска латунной табличкой с черными заглавными буквами, красовавшейся на двери дома со стороны улицы Гьяра: «ДОКТОР ЭЛИЯ KOPKOC. ХИРУРГ». И хотя в свое время они сурово упрекали Элию за женитьбу на «гойке», хотя они и не одобрили впоследствии его переезда из квартала гетто, где он родился, на эту столь удаленную улицу, они тем не менее всегда испытывали чувство гордости, нанося ему визит, и заходили только через главный вход, такой приличный и респектабельный, так гармонирующий и с Элией, и с ними самими. Их успокаивал сам внешний вид дома, покой и тишина, схожие и в то же время отличные от тех, что царили на средневековых улочках, откуда они прибывали. Все это ясно указывало на то, что Элия все же не изменился, что он оставался человеком их крови, их воспитания – Коркосом.
Это был основной момент, удостоверившись в котором они понимали, что Элия вовсе не отрекался от своих корней, а, наоборот, своей растущей славой врача в городе и провинции придавал их общему происхождению тот блеск, который косвенным образом отражался и на них (в возрасте чуть старше сорока лет он был не только заведующим женским отделением больницы Святой Анны, но и личным врачом герцогини Костабили, несомненно, самой шикарной и самой влиятельной феррарской дамы, а после преждевременной кончины ее супруга, возможно, и чем-то большим, чем лечащий врач…): тогда все остальное можно было простить, оправдать и в некоторых случаях даже восторженно приветствовать.
Какая разница, например, рассуждали они, что сам он был выходцем из более чем скромной семьи, сыном этого никчемного Соломона Коркоса, этого жалкого купчишки, во всех отношениях достойного пренебрежения, который в своей жизни, кроме как наплодить детей (двенадцать их у него было!) и в конце концов сесть на шею к Элии, младшему в выводке, ничего путного так и не сотворил? А жена, которую он себе выбрал, «гойка», к тому же из низшего сословия (впрочем, преданная, умелая домоправительница, редкостная труженица, несравненная стряпуха), почему нужно считать ее камнем на шее, как говорили многие? Нет, нет. Если он, будучи человеком осторожным и осмотрительным, в определенный момент решил пойти на подобный мезальянс, то вряд ли только затем, чтобы поправить последствия ошибки, совершенной в юности, во время одинокого ночного дежурства в больнице в компании пышногрудой девушки (в наших краях никогда не считалось обязательным в подобных случаях обращаться к господину мэру [12]12
Для регистрации брака.
[Закрыть]), но, напротив, весьма точно зная, что делает. Как бы то ни было, важен лишь факт, что при всей своей эксцентричности и странности – ведь он даже с некоторых пор отказался платить ежегодный взнос, который взимался с членов общины, утверждая, что совесть не позволяет ему изображать веру, которой у него нет (тем не менее, когда речь зашла об обрезании сыновей, он не только дал разрешение на эту простейшую операцию, но и заявил во всеуслышание в храме, что одобряет этот «обычай» как отвечающий очевидным нормам гигиены, известным уже древним, мудро включившим его в свою религию), – важно было то, что, по сути, он продолжал придерживаться общих правил.
И действительно, когда маленький Рубен в 1902 году, всего лишь восьми лет от роду, умер от менингита, разве не было для всех радостным, утешительным сюрпризом, что Элия, вразрез со своей обычной небрежностью в вопросах религии, настоял, чтобы его второго сына похоронили рядом с дедом Соломоном с самым строгим соблюдением всех обрядов? «Гойка», конечно, пыталась этому воспротивиться. Она не только следовала за похоронной процессией от улицы Гьяра до кладбища, но и потом, когда могильщики уже засыпали гроб, бросилась, раскинув руки, на холмик свежей земли, крича, к изумлению доктора Карпи, перебивая его богослужение, что не хочет оставлять там своего бедного мальчика, «моего бедного малыша». Понятное дело, мать есть мать. Но чего она хотела, эта Джемма, – чтобы ребенок из рода Коркосов был погребен не на еврейском кладбище в конце улицы Монтебелло, таком уютном, маленьком, зеленом и ухоженном, а там, за городскими стенами, на этой необъятной Чертозе [13]13
Городское кладбище Феррары.
[Закрыть], где приходится искать могилу целыми днями? Да, кстати, о плаче. Понятное дело, Джемма. А ее родственники, целой толпой явившиеся по случаю похорон, притащив с собой кучу друзей и знакомых, ведать не ведающие о запрете быть с непокрытой головой, они-то что так убивались? А эта? Кто эта старая дева в черном платке на голове, которая пыталась с помощью Элии и Якопо (мальчик пошел весь в отца: брюнет, сдержанный, утонченный, бледный) поднять Джемму, мотавшую головой и не решавшуюся встать на ноги?
Аузилия Бронди? Ах да, сестрица.
Столкнувшись случайно с Аузилией на пороге дома на улице Гьяра, кто-нибудь из родственников Элии всегда говорил это. Оробев, Аузилия туже затягивала платок под подбородком. И, услышав щелчок замка, открываемого с помощью веревки, за которую дергали на верхних этажах, торопливо уступала дорогу.
Опустив глаза, старая дева отходила в сторону. Как бы ей хотелось в тот момент вернуться назад, домой, к своим! Но нет. Каждый раз и она входила в дом, тихо закрывала дверь, пристраивалась в хвост поднимавшейся по лестнице группки других, которые оживленно между собой переговаривались: Аузилия следовала инстинктивному порыву, который в течение почти сорока лет всегда оказывался сильнее любых попыток воспротивиться ему.
V
Они останавливались перед закрытой дверью на площадке второго этажа. И здесь, пока кто-то не откроет дверь, приходилось опять задерживаться в ожидании.
Но вот они наконец-то внутри. Опять отстав от остальных (еврейские родственники шли сразу дальше, решительно направляясь в сторону кухни), Аузилия часто бродила одна по дому, иногда даже по комнатам третьего, последнего, этажа: в своих странствиях она обходила стороной – помимо дровяного сарая и столовой, что на первом этаже, – только чердак, полупустой, серый, пугающе темный в своей глубине, спрятавшийся под самой крышей. Она переходила из комнаты в комнату, и взгляд ее, в котором странным образом смешивались любовь и зависть, скользил по знакомому множеству громоздящихся там предметов, по расставленным повсюду, даже в проходах и туалетах, полкам, набитым книгами и тетрадями, по разнородной мебели, столам и столикам, на которых стояли странные, сложной конструкции лампы, по старинным испорченным картинам, висящим на стенах рядом с семейными или больничными фотографиями в рамках под стеклом, и так далее; она повторяла про себя с горечью, что между ними, Бронди, и этими замкнутыми и надменными людьми, которые обычно Так и вели себя с ней, невозможно никакое подлинное согласие и понимание, а лишь поверхностное.
Каждый раз, еще прежде чем увидеть шурина, она представляла его себе.
В большой кухне, где медная утварь на стенах бросала пламенеющие блики и где в тиши и спокойствии он каждую осень, вновь и вновь, так сильно, так настойчиво стремился укрыться по возвращении из своих ежегодных летних поездок, сопровождая герцогиню Костабили в Баден-Баден или Виши, Элия представал перед ней неизменно сидящим за своим рабочим столом у самого дальнего от входа окна, может быть, в этот самый момент он поднимал взгляд от книг и переводил его, рассеянно улыбаясь в усы, за окно, поверх сада, поверх стены, отделявшей сад от бастионов, и поверх самих бастионов – на большие золотистые облака, набежавшие со стороны Болоньи. Аузилии достаточно было лишь представить себе его, Элию, чтобы знать, что в этой большой кухне, полной прислуги, медсестер из больницы Святой Анны или из приемной доктора, почтенных еврейских родственников, вечно голосящих разновозрастных ребятишек, бегающих без удержу или увлеченных игрой, в этой кухне, где даже Джемме, супруге и хозяйке дома, никогда не удавалось пробить брешь в незримой стене, за которой Элия отстранялся от всего, что его окружало, ей, одинокой сестре и свояченице, и подавно удалось бы занять лишь скромный уголок. Права была ее мать, которая всегда отказывалась навещать этот дом! А отец и братья, когда приходили сюда колоть дрова, никогда не соглашались подниматься наверх, и еду приходилось носить им в дровяной сарай на первом этаже, – разве не правы они были, избегая любой близости и общения?
Был все же среди родственников Элии (с годами Аузилия все больше укреплялась в этом мнении) один, совершенно отличный от остальных.
Речь шла об отце Элии, бедном синьоре Соломоне.
Отец двенадцати детей, этот дряхлый старик, в третий раз овдовевший, когда женился Элия, был сильно привязан к съемной квартирке на улице Витториа, где прожил почти полвека. И однако, несмотря на это, он решился последовать за сыночком в дом на улице Гьяра и вскоре после переезда скончался там в почти столетнем возрасте.
К примеру, он встречался на улице с лично знакомой ему женщиной, не важно, была ли та в шляпке синьоры или в крестьянском платке. Немедленно, в знак почтения, слегка смешанного с восхищением, когда дело того стоило, он прижимался спиной к стене или даже сходил с тротуара. Будучи человеком глубоко религиозным и ревностно исполняющим обряды (Элия своим браком, вероятно, причинил ему глубокую боль, по крайней мере, вначале), дома тем не менее он никогда не говорил о религии – ни своей, ни чужой. Он лишь выражался на особом диалекте, похожем на феррарский, но полном еврейских словечек, обычных в обиходе жителей улицы Мадзини, вот и все. Однако даже еврейские слова в его устах не звучали таинственно и странно. Непонятным образом даже они окрашивались его вечным оптимизмом и добротой.
Когда его спрашивали о времени, он доставал из кармана серебряные часики с ключом, которые после его смерти перешли к Якопо, внуку-первенцу; прежде чем ответить, который час, он всегда с блаженным видом прикладывал их к уху. Часто, даже когда его не просили (ведь этот самый миролюбивый на свете человек был притом ревностным патриотом), он начинал рассказывать о давних временах, когда Феррара была еще под властью Австрии и солдаты в белых мундирах, примкнув штыки, стояли в карауле на площади перед Архиепископским дворцом. Люди смотрели на этих солдат с презрением и ненавистью. Он признавался, что тогда, в пятидесятые годы, будучи еще совсем молодым, разделял эти чувства. Но ведь, если подумать, добавлял он, в чем были онивиноваты, бедняги, в основном чехи и хорваты, поставленные караулить господина кардинала-легата? Раз ты солдат, подчиняйся, известное дело. Приказы не обсуждаются.
Чаще, правда, он говорил про Джузеппе Гарибальди, который был – он открыто заявлял об этом – солнцем, кумиром его молодости: он описывал голос Генерала, громкий и мелодичный, как у лучшего тенора, при звуках которого кровь закипала в жилах; он, Соломон Коркос, смешавшись с восторженной толпой, звездной июньской ночью 1863 года слушал, как этот голос раздавался с балкона палаццо Костабили, где Герой Двух Миров [14]14
Почетное звание Джузеппе Гарибальди.
[Закрыть]гостил целую неделю.
Он взял с собой Элию – обычно рассказывал Соломон Коркос – и на протяжении всей речи держал его на руках, чтобы в памяти младшего из сыновей (слишком маленького, чтобы помнить другую чудесную ночь несколькими годами ранее, когда народным гневом была сметена ограда гетто) навсегда запечатлелся образ светловолосого Человека в красной рубашке, творца Италии. Гарибальди! У Соломона Коркоса на руках было двенадцать детей! И все же он был уверен: достаточно одного слова Генерала (рассказывая, он всегда слегка запинался, но в этот момент дыхание перехватывало, глаза блестели), чтобы, если надо, последовать за ним на край света. На край света, конечно! Кто бы ни услышал речи Джузеппе Гарибальди, поступил бы так же.
С Джеммой он был всегда предупредителен учтив, галантен. Да и в отношении Аузилии как он был всякий раз любезен и вежлив! Например, встречая ее в доме, он каждый раз справлялся о ценах на овощи: почем горох, почем салат, картофель, бобы и так далее. И было ясно – он делал это, желая незаметно намекнуть, что он испытывал огромное уважение к ее семье, семье огородников. «Вы Аузилия, сестра Джеммы», – начинал он разговор с довольным видом, ведь с некоторых пор – он с улыбкой касался пальцем лба – память начала давать осечки, и он был рад, что сам вспомнил ее имя.
Была еще одна вещь, помимо седых кудрей, блестящих, как шелк, и большого характерного носа, которая особенно ей запомнилась. Аромат, шедший от его одежды.
Тот же запах – смесь цитрусовых, сухого сена и пшеницы – она чувствовала, листая тома религиозных книг, которые он приносил с собой в дом на улице Гьяра для раздачи гостям, приглашенным на два пасхальных ужина; она всякий раз вдыхала этот запах, исходивший от старинных пожелтелых страниц с текстом наполовину по-еврейски, наполовину по-итальянски, иллюстрированных голубоватыми выцветшими гравюрами, изображающими, как гласили подписи на итальянском, десять казней египетских, Моисея перед фараоном, переход через Красное море, манну небесную, Моисея на вершине горы Синай, беседующего со Всевышним, почитание золотого тельца и так далее, вплоть до явления Иешуа Земли обетованной. Редингот Элии всегда пахнул только спиртом и карболкой. Одежда же, да и вся личность Соломона Коркоса источали аромат, который, хотя и был иным, тем не менее сразу же вызывал в памяти запах ладана.
Сложенные в серванте так называемой «парадной» гостиной – всегда пустовавшей огромной полутемной комнаты, выходившей на улицу Гьяра, – пасхальные книжечки понемногу пропитали этим ароматом и дерево серванта, и все помещение. Настолько, что она, Аузилия, каждый раз, когда закрывалась там и сидела в темноте, часами размышляя о чем-то своем (она продолжала пользоваться «парадной» гостиной как убежищем и после смерти Джеммы, переехав в 1926 году жить к Элии и Якопо в качестве домоправительницы, и даже после депортации их обоих в Германию осенью 1943 года), всегда чувствовала, что и бедный синьор Соломон тоже находится там, в этих четырех стенах, собственной персоной. Будто еще живой, сидит с ней рядом, дыша в тишине.
VI
Любовь – это другое, думала Аузилия: никто не мог знать этого лучше нее.
Нечто жестокое, ужасное, за чем подглядывают издалека или о чем грезят, опустив веки.
Действительно, то тайное чувство, которое с самого начала, хотя она никогда не признавалась себе в этом, связывало ее с Элией, настолько, что на всю жизнь стало постоянной, роковой, неизбывной потребностью, это чувство никогда не рождало радостных мыслей, если, входя каждый раз в кухню дома на улице Гьяра, где он у окна в углу засиживался до ужина за книгами (занимался и, похоже, не замечал ничего вокруг; но, возможно, на самом деле от пронзительного, вопрошающего взгляда черных глаз не укрывалось ничего заслуживающего внимания), Аузилия ощущала потребность, отводя глаза от спокойного взгляда Элии, который на мгновение, когда она входила, отрывался от книги, немедленно вызвать в памяти в свою защиту образ доброго и любезного Соломона Коркоса.
Взгляд Элии! Поистине ничто не могло ускользнуть от его взгляда. И все же вместе с тем казалось, будто он не видит…
В ту самую ночь, когда он попросил руки Джеммы (это случилось в августе 1888 года), вернувшись домой в поздний час, Элия крался на цыпочках мимо двери спальни синьора Соломона и на мгновение задержался около нее, раздумывая, не стоит ли войти. Зуб долой – и боль пройдет, сказал он себе наконец. Может быть, лучше сразу рассказать отцу все.
Он уже собирался повернуть дверную ручку, как вдруг из комнаты раздался голос отца.
– Где ты был, Господь всемогущий? – воскликнул тот. – Ты знаешь, что я глаз не мог сомкнуть?
Эти слова отца, и в особенности жалобный тон, заставили его передумать. Он поднялся к себе в спальню, крохотную комнатушку с видом на крыши, первым делом распахнул окно и выглянул наружу. Увидев, что уже занимается заря (в доме ни звука, спящий город внизу, макушка одной из четырех башен замка уже зарозовела), он вдруг решил не только совсем пренебречь сном в эту ночь, но и незамедлительно сесть заниматься.
Наука, говорил он себе в этот момент. Разве не она, по сути, его призвание?
Много десятилетий спустя, вспоминала Аузилия, он сам вдруг рассказал обо всем этом, когда они по обыкновению ужинали вдвоем на кухне.
Он сидел напротив нее, по другую сторону стола, на лицо падал свет свисавшей с потолка люстры. И, слегка усмехаясь в большие седые усы, казалось, смотрел на нее.
Но видел ли он ее на самом деле? В действительности?
Все-таки странный взгляд, бедняжка Джемма, был у него в тот момент! Как будто с того утра, наступившего вслед за вечером, когда он обещал взять ее сестру в жены, он всегда смотрел на людей и предметы именно так: сверху и как бы вне времени.
Мемориальная доска нa улице Мадзини
Пер. Ольга Уварова
I
Когда в августе 1945 года Джео Йош, единственный выживший из депортированных немцами осенью 1943 года ста восьмидесяти трех членов еврейской общины Феррары, которых большинство считало давно погибшими в газовых камерах, появился в городе, никто его вначале не узнал.
Йош. Фамилия, конечно, людям была знакома, ее носил Анджело Йош, известный торговец тканями, который, хотя и был фашистом во времена «марша на Рим» и даже входил в круг феррарских друзей Итало Бальбо – по крайней мере, до 1939 года, – все же не сумел уберечь себя и свою семью от великой бойни четырьмя годами позже. Пусть так, однако кто бы мог поверить, что человек неопределенного возраста и необъятной толщины, который на днях объявился на улице Мадзини прямо перед иудейским храмом, был одним из выживших в немецком Бухенвальде, Освенциме, Маутхаузене, Дахау и так далее; и главное, кто мог поверить, что он, именно он действительно был одним из сыновей бедного синьора Анджело? И даже если признать, что речь не идет ни о каких трюках и мистификациях и что среди феррарских евреев, сосланных нацистами в концлагеря, и вправду мог быть некто ДжеоЙош, то чего хотел он сейчас, спустя столько времени, после стольких испытаний, выпавших в той или иной мере на долю каждого, без различия политических убеждений, сословий, религий и рас, – чего хотел он сейчас? На что претендовал?
Однако всё по порядку: вернемся немного назад и начнем рассказ с того момента, когда Джео Йош объявился в нашем городе; с этого, собственно, и началась история его возвращения в Феррару.
* * *
Сейчас, когда описываешь ее, эта сцена может показаться нереальной и чересчур литературной. Чтобы усомниться, достаточно представить себе, как она разыгрывается в антураже столь привычной, столь хорошо знакомой феррарцам улицы Мадзини: той улицы, что отходит от площади Эрбе, тянется вдоль бывшего еврейского гетто и своим ораторием Сан-Криспино, прорезанными по бокам щелями улочек Виньятальята и Витториа, терракотовым фасадом иудейского храма чуть дальше, а также заполонившими ее по всей длине и по обеим сторонам бесчисленными магазинами, крупными и мелкими лавками в какой-то мере служит связующим звеном между средневековым центром Феррары и ее ренессансной и современной частью.
Утопающая в тишине солнечного августовского полдня, изредка нарушаемой отзвуками далеких выстрелов, улица Мадзини открывалась взору пустынной и нетронутой. Такой ее увидал и молодой рабочий в шляпе из газетного листа, что с половины второго дня, забравшись на невысокие подмости, возился с мраморной плитой, которую ему поручили укрепить на пыльном кирпичном фасаде синагоги в двух метрах над землей. Фигура крестьянина, по воле войны вынужденного переехать в город и податься в каменщики, с самого начала потонула в свете, это он и сам сразу ощутил. Безмолвия, которое порождал все сводивший на нет августовский зной, не нарушила даже незаметно обступившая его и постепенно занявшая большую часть мостовой пестрая и разношерстная публика.
Первыми остановились двое молодых мужчин – бородатые партизаны в штанах до колен, с красными платками на шее, с автоматами через плечо и в очках на носу: студенты, из городских господ, подумал молодой крестьянин-каменщик, услышав их голоса и украдкой взглянув на них из-за плеча. Вскоре к ним прибавился священник в тяжелой черной сутане, на вид нисколько не страдающий от жары; следом за ним появился бойкий господин лет шестидесяти, с черной с проседью бородкой, в рубашке с расстегнутым воротничком, открывавшей взгляду невероятно впалую грудь и беспокойный кадык. Сей буржуа начав вполголоса читать то, что, по всей вероятности, было написано на плите – а это была бесконечная череда имен, – в какой-то момент прервался, чтобы взволнованно воскликнуть: «Сто восемьдесят три из четырехсот!» – словно эти имена и цифры могли касаться непосредственно его, Подетти Аристиде, родом из Боско-Мезола, оказавшегося в Ферраре случайно, не имевшего намерения задерживаться здесь ни на день дольше необходимого и озабоченного исключительно своей работой. «Евреи», – слышалось все больше голосов за спиной рабочего. Сто восемьдесят три еврея, депортированных в Германию и известно как погибших там, из четырехсот, проживавших в Ферраре до войны. Все ясно. Но секундочку. Эти сто восемьдесят три несчастных были выданы немцам не кем иным, как фашистами Республики Сал о [15]15
Фашистское государство на оккупированной нацистской Германией территории севера Италии в 1943–1945 гг.
[Закрыть], а если допустить, что они, «tupin», «мышата» [16]16
«Tupin» ( ит. диал.«мышата») – печально известное жестокими расправами особое отделение полиции, личная гвардия фашистского префекта Феррары Э.Веццалини, состоявшая исключительно из молодежи.
[Закрыть], могут однажды вернуться к власти (очень может быть, что в ожидании реванша они уже рыскают по дорогам, да небось еще и повязали на шею красный платок!), то разве не лучше делать вид, что и не знаешь вовсе, кто такие эти евреи? О, «мышата»! Неужто в подходящий момент они не повыскакивают из канав так же лихо, как попрятались в них перед приходом американцев, снова в своих мундирах крысиного цвета, с черепами на фесках и шевронах! Нет, нет, на дворе такие времена, что чем меньше ты знаешь – о евреях, о неевреях, о чем угодно, – тем лучше.
Бедный малый, бубнивший что-то на своем диалекте и сопевший над плитой, показывая солнцу упрямые лопатки; он настолько твердо решил никого не слушать – ему-то какое дело, главное, чтобы была работа, остальное его не волнует, – и так велико было его недоверие в отношении всех и вся, что, когда кто-то коснулся его лодыжки («Джео Йош?» – с усмешкой произнес в это время чей-то голос), он, вздрогнув, резко обернулся.
Перед ним стоял низкий, коренастый человек в надвинутой до ушей странной меховой шапке. Ну и толстяк! Казалось, он распух от воды, будто утопленник. Однако этого типа можно было не опасаться, раз он, явно чтобы завоевать его симпатию, тихо посмеивался.
Затем, уже без тени улыбки, он указал рукой на плиту за его спиной.
– Джео Йош? – повторил он.
Потом человек снова усмехнулся. Но тотчас же, словно смутившись и пересыпая речь постоянными «пожалуйста» на немецкий манер (он выражался с изяществом салонного собеседника, и Аристиде Подетти – именно к нему обращался незнакомец – внимал ему, разинув рот), заявил, что ему жаль, «поверьте мне», испортить все своим появлением, которое, как он был готов признать, имело все признаки форменного «gaffe» [17]17
Конфуз ( фр.).
[Закрыть]. Да-да, вздохнул он, плиту придется переделывать – ввиду того что Джео Йош (а на плите значилось и его имя) стоит перед ними собственной персоной. Разве только, добавил он тут же, оглядываясь по сторонам голубыми глазами, – разве только затеявшая ритуальные мероприятия комиссия, приняв случившееся как знак судьбы, не решит полностью отказаться от идеи с памятной доской, которая – тут он хмыкнул, – будучи расположена в столь людном месте, хоть и имеет то преимущество, что не останется незамеченной, но все же заслуживает порицания в силу того, что неподобающим образом исказит столь скромный, столь безыскусный фасад «нашего старого, дорогого Храма»: одна из немногих оставшихся, благодарение Богу, такими же, «как раньше», вещей, которые еще можно отыскать в Ферраре.
– Словно бы вас, – сказал он в заключение, – с вашим лицом, с вашими руками заставили облачиться в смокинг.
Говоря так, он вытянул вперед свои руки, мозолистые превыше всякого воображения; на тыльной, неестественной белизны стороне был прекрасно различим лагерный номер, выколотый на мягкой, словно вареной коже чуть выше правого запястья: буква «J» и следом за ней пять цифр.
II
Вот так, бледным и опухшим, словно восстав из морских глубин (его глаза, водянисто-голубого цвета, глядели от опор лесов снизу вверх, холодно, но совсем не с угрозой, а скорее с иронией и даже как будто с любопытством), Джео Йош вернулся в Феррару.
Этот человек возвращался столь издалёка: из гораздо более дальних далей, нежели предполагала география. Он вернулся, когда никто его уже не ждал. Что ему было нужно теперь?
Чтобы с должной рассудительностью ответить на подобный вопрос, возможно, требовались иные времена и в особенности иной город.
В любом случае требовались люди, менее напуганные, чем те небезызвестные синьоры, на которых как прежде, так и сейчас равнялось местное общественное мнение (цвет общества, состоящий, как водится, из авторитетных специалистов, адвокатов, врачей, инженеров, крупных торговцев, богатых землевладельцев; если перечислить всех по именам, выходит не больше трех десятков): всё люди, которые, входя до июля 1943 года в то, что можно в широком смысле слова именовать правящим городским классом, и будучи вынуждены после сентября того же года «примкнуть» к покойной Республике Сал о , вот уже три месяца только и чуяли повсюду, что всевозможные козни и ловушки.
Это так, приходилось им признать: они получили билет, пресловутый билет Республики Сал о . Но ведь взяли они его из гражданского долга, исключительно из любви к Родине. И не раньше рокового для феррарцев дня 15 декабря 1943 года, после которого по всей Италии цепной реакцией разгорелась братоубийственная война.
Но, возвращаясь к Йошу-младшему, продолжали они, поднимая голову и выпячивая грудь под пиджаком, в петлицу которого, за неимением каких-либо других отличительных знаков, некоторые вдели первую попавшуюся под руку медаль, – какой смысл крылся в этом его навязчивом желании носить на голове, несмотря на августовскую жару, меховую шапку? И в этих его постоянных ухмылках? Вместо того чтобы вести себя подобным образом, объяснил бы лучше, с чего это он такой толстый. Поскольку о голодном отеке тут никто не слыхивал (ясно, что речь шла о вранье, со всей вероятностью им же, главным заинтересованным лицом, и распространяемом!), его полнота могла означать две вещи: или в немецких концлагерях не было такого голода, как утверждала пропаганда, или ему удалось, кто знает какой ценою, добиться для себя особого обращения. Так что пусть он уж попритихнет и перестанет досаждать собой. Кто ищет соломинку в чужом глазу, пусть лучше позаботится о небезызвестном бревне, и так далее.
И что сказать о тех других – по правде сказать, таких было меньшинство, – что заперлись в домах, настороженно прислушиваясь к малейшим доносящимся извне звукам, являя собой квинтэссенцию страха и ненависти?
Среди последних был тот, кто, повязав через плечо трехцветную ленту, вызвался председательствовать на публичных распродажах конфискованного у еврейской общины имущества, включая утварь – серебряные светильники и прочее – двух синагог храма на улице Мадзини, одной немецкого, второй итальянского обряда; и тот, кто, нахлобучив на седины мрачный головной убор Черных бригад, работал судьей в чрезвычайном трибунале [18]18
Военные суды в фашистской Италии.
[Закрыть]на счету которого был не один смертный приговор, – в целом, как правило, уважаемые граждане, прежде, возможно, никогда особенно не проявлявшие признаков интереса к политике, напротив, в большинстве случаев ведшие тихую, спокойную жизнь, посвященную семье, карьере, научным занятиям… Так вот, теперь эти люди немало боялись за себя, не на шутку опасаясь, что их вдруг призовут платить, возможно собственной жизнью, за их деяния; и даже если Джео Йош не жаждал ничего иного, как жить, как вновь начать жить, даже в столь простом, столь элементарном желании они видели чуть ли не личную угрозу. Мысль о том, что однажды ночью за кем-то из них могут прийти «красные» и без лишнего шума увезти на расправу куда-нибудь за город, – эта мучительная мысль держала их в постоянной тревоге. Выйти сухими из воды, как-то выкрутиться. Они должны были суметь это сделать. Любой ценой.
Хоть бы он, этот убогий, фыркали они, перестал мозолить глаза, уехал из Феррары!
Безразличный к тому факту, что партизаны, сменившие штаб Черной бригады, использовали дом на улице Кампофранко, все еще записанный за его отцом и, следовательно, теперь принадлежащий ему и только ему, как казарму и тюрьму, Йош довольствовался тем, что расхаживал окрест с не обещающим ничего доброго выражением на лице – с очевидной целью подлить масла в огонь негодования тех, кто рано или поздно заставит заплатить по счетам всех его должников. Во всяком случае, было возмутительно, что новые власти, не поведя бровью, принимали подобное положение вещей. Бесполезно апеллировать к префекту доктору Герцену, поставленному на пост на следующий день после так называемого «Освобождения» тем самым КНО [19]19
Комитет национального освобождения, партизанская антифашистская организация, пришедшая к власти после падения Республики Сал о .
[Закрыть], подпольным председателем которого он стал после событий пятнадцатого декабря сорок третьего, – если правда (а это правда), что в занявшем помещения замка подведомственном ему учреждении во время особых секретных заседаний по ночам постоянно обновлялись проскрипционные списки. О да, они хорошо его знают, этого типа, который не пикнул, когда в тридцать девятом его как ни в чем не бывало вышвырнули с обувной фабрики в паре километров от города в сторону Болоньи, примерно в районе Кьезуол-дель-Фоссо, которой он тогда владел и лично управлял и которая позднее, во время войны, превратилась в груду развалин! С этой своей залысиной доброго отца семейства, с этой своей вечной, обнажающей золотые зубы улыбкой, с этими толстыми стеклами в черепашьей оправе, он имел безобидный вид (если не считать жесткой, прямой как палка спины, казалось привинченной к сиденью велосипеда, с которым он не расставался, – его силуэт так гармонировал со звучанием онемеченной еврейской фамилии), отличающий всех всерьез опасных людей. А архиепископская курия? А английская администрация? Не стало ли прискорбным веянием времени то, что даже от них в ответ нельзя получить ничего, кроме сокрушенных сочувственных вздохов или того хуже – то ли насмешливых, то ли смущенных улыбочек?