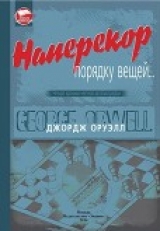
Текст книги "Наперекор порядку вещей... (Четыре хроники честной автобиографии)"
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
В Банюльсе мы оставались, сколько мне помнится, три дня. Это были странные беспокойные дни. Нам, казалось, следовало бы чувствовать глубокое облегчение и благодарность – мы оказались в тихом рыбачьем городке, вдалеке от бомб, пулеметов, очередей за продуктами, пропаганды и интриг. Но чувство облегчения не приходило. Мы покинули Испанию, но испанские события не покидали нас. Наоборот, все казалось теперь еще более живым и близким, чем раньше. Мы, не переставая, думали, говорили, мечтали об Испании. Месяцы напролет мы говорили себе, что «когда выберемся наконец из Испании», то поселимся где-нибудь на средиземноморском побережье, насладимся тишиной, будем, быть может, ловить рыбу. И вот теперь, когда мы оказались здесь, на берегу моря, нас ждали скука и разочарование. Было холодно, с моря дул пронизывающий ветер, гнавший мелкие, мутные волны, прибивая к набережной грязную пену, пробки и рыбьи потроха. Это может показаться сумасшествием, но мы с женой больше всего хотели вернуться в Испанию. И хотя это не принесло бы никакой пользы, даже наоборот, – причинило бы серьезный вред, мы жалели, что не остались в Барселоне, чтобы пойти в тюрьму вместе со всеми. Боюсь, что мне удалось передать лишь очень немногое из того, что значили для меня месяцы, проведенные в Испании. Я дал внешнюю канву ряда событий, но навряд ли сумел передать те чувства, которые они вызвали во мне. Мои воспоминания безнадежно смешались с пейзажами, запахами и звуками, которых не передать на бумаге: запах окопов, рассвет в горах, уходящий в бесконечную даль, леденящее потрескивание пуль, грохот и вспышки бомб; ясный холодный свет барселонского утра, стук башмаков в казарменном дворе в те далекие декабрьские дни, когда люди еще верили в революцию. Очереди за продуктами, красные и черные флаги, и лица испанских ополченцев; да, да – прежде всего лица испанских ополченцев, – людей, которых я знал на фронте и нынче разбросанных Бог знает где: одни убиты в бою, другие искалечены, третьи в тюрьме, но большинство, я надеюсь, живы и здоровы. Желаю им всем счастья. Я надеюсь, что они выиграют свою войну и выгонят из Испании всех иностранцев – немцев, русских и итальянцев. Эта война, в которой я сыграл такую мизерную роль, оставила у меня скверные воспоминания, но я рад, что принял участие в войне. Окидывая взором испанскую катастрофу, – каков бы ни был исход войны, она останется катастрофой, не говоря уже о побоищах и страданиях людей, – я вовсе не чувствую разочарования и желания впасть в цинизм. Странно, но все пережитое еще более убедило меня в порядочности людей. Надеясь, что мой рассказ не слишком искажает действительность, я все же убежден, что, описывая такие события, никто не может оставаться совершенно объективным. Трудно быть убежденным до конца в чем-либо, кроме как в событиях, которые видишь собственными глазами. Сознательно или бессознательно каждый пишет пристрастно. Если я не предупредил моих читателей раньше, то делаю это теперь: учитывайте мою односторонность, мои фактические ошибки, неизбежные искажения, результат того, что я видел лишь часть событий. И учитывайте все это, читая любую другую книгу об этом периоде испанской войны.
Чувство, что нужно что-то делать, хотя ничего, собственно, сделать мы не могли, выгнало нас из Банюльса раньше, чем мы предполагали. С каждой милей к северу, Франция становилась все зеленее и мягче. Мы покидали горы и вино, мчась навстречу лугам и вязам. Когда я проезжал Париж на пути в Испанию, город показался мне разлагавшимся и мрачным, совсем не похожим на тот Париж, который я знал восемь лет назад, когда жизнь была дешевой, а Гитлера не было еще и в помине. Половина кафе, в которых я сиживал в свое время, были закрыты из-за отсутствия посетителей, и все были одержимы мыслями о дороговизне и страхом войны. Теперь, после нищей Испании, даже Париж показался веселым и процветающим. Всемирная выставка была в полном разгаре, но нам удалось избежать посещения.
И потом Англия – южная Англия, пожалуй, наиболее прилизанный уголок мира. Проезжая здесь, в особенности, если вы спокойно приходите в себя после морской болезни, развалившись на мягких плюшевых диванах, трудно представить себе, что где-то действительно что-то происходит. Землетрясения в Японии, голод в Китае, революция в Мексике? Но вам-то беспокоиться нечего – завтра утром вы найдете на своем пороге молоко, а в пятницу, как обычно, выйдет свежий номер «Нью стейтсмена». Промышленные города были далеко, выпуклость земного шара заслоняла грязные пятна дыма и нищеты. За окном вагона мелькала Англия, которую я знал с детства: заросшие дикими цветами откосы железнодорожного полотна, заливные луга, на которых задумчиво пощипывают траву большие холеные лошади, неторопливые ручьи, окаймленные ивняком, зеленые груди вязов, кусты живокости в палисадниках коттеджей; а потом густые мирные джунгли лондонских окраин, баржи на грязной реке, плакаты, извещающие о крикетных матчах и королевской свадьбе, люди в котелках, голуби на Трафальгарской площади, красные автобусы, голубые полицейские. Англия спит глубоким, безмятежным сном. Иногда на меня находит страх – я боюсь, что пробуждение наступит внезапно, от взрыва бомб.
1938
ПОНЯТЬ ОРУЭЛЛА…
(Послесловие)
«Ныне все пишущие и говорящие барахтаются в грязи, а такие вещи, как интеллектуальная честность и уважение к оппоненту, больше не существуют..»
Джордж Оруэлл
Ночевали ли вы на улице? На площади в ворохе газет, в коробке картонной, да просто – под забором? Вы – приличные и ухоженные? Ночевали ли нарочно, специально выходя в ночь, чтобы превратиться в бомжа, бродягу, нищего, в то что на всех языках мира зовут «человеческим отбросом»?..
Вопросы не без умысла. Ибо в Барселоне, в далекой Испании и ныне есть площадь имени человека, который ночевал на ней как последний бомж. Человека, который и в Лондоне специально шел на Трафальгарскую площадь, чтобы встретить утро, лежа под газетами, писателя, который в тайне от родных переодевался у друзей в рванье, чтобы хоть раз, но попасть все-таки в тюрьму и узнать, как там относятся к тем, кого и за людей не считают. Это вот считал главным своим долгом. Потому что он – Оруэлл! Личность, чьи книги и через полвека после смерти, как показал один из опросов, идут на 3-м месте после Библии и сочинений Маркса.
«Чего я больше всего хочу, – признался как-то Джордж Оруэлл, – так это превратить политическую литературу в искусство… И когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: «Хочу создать произведение искусства». Я пишу ее потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание, и есть желание – первая моя забота – постараться быть услышанным…» В этом и кредо, и смысл существования его, и главная цель жизни.
Я когда-то писал о нем диссертацию, об антиутопиях и – о нем. Защитил ее в 1985-м, ровно через год после рубежной для Оруэлла даты, когда мир, по его предсказанию, должен был окончательно рухнуть в ад. Так он «пророчил», специально назвав свой роман цифрами – «1984». Мир в тот далекий уже год, к счастью, не рухнул. Но что-то в нем и в нашей стране, которая в ряду других сверхдержав стала «предметом» повествования Оруэлла, уже тогда непоправимо сдвинулось. К лучшему, или худшему сдвинулось – вам судить. Мне же главный специалист по его творчеству Виктория Чаликова, за полгода до своей смерти, успела сказать странную вещь: «Честно говоря, – призналась она, – я бы не хотела, чтобы наше общество прочитало и осмыслило Оруэлла до дна. В массовом порядке это может произойти только тогда, когда общество убедится: та альтернатива, какую сегодня предлагает идейный авангард этого общества, альтернатива прошлому тоталитаризму, она тоже не гуманистична, не человечна, она не даст простому человеку того, что он хочет…»
Доросли ли мы до глубокого понимания Оруэлла? Вкусили ли полной ложкой той «альтернативы» тоталитаризму, какую видим ныне вокруг? И что там бормочет-пророчит человеку наш нынешний идейный авангард, рвущиеся в вожди ловкачи, приспособленцы и идеологические шулеры? Пророчат о счастье и справедливости – «дистиллированной справедливости» мира – может, главной заботе великого Оруэлла?
КРИСТАЛЬНЫЙ ДУХ
Да, он велик! Пусть одни плюются и выбрасывают его книги, а другие – возносят до небес. Велик и само имя его – как пароль для думающих. Изданный на родине в 20 томах (5 романов, сказка-памфлет, 4 документальных повести, сборник стихов, дневники, письма и 4 тома критики и публицистики), переведенный на 65 языков, экранизированный, введенный в школьные программы и ежегодно перекрывающий всеобщие «индексы цитирования», Оруэлл и впрямь велик. Это ныне его письма, того, кто, работая посудомоем, зарабатывал доллар в сутки, продали в Лондоне за рекордную, вдвое превышавшую стартовую цену в 125 тысяч. А когда-то в СССР книги его переписывали от руки, и даже за чтение их давали реальные сроки. Тоже – критерий славы – рисковать свободой, чтобы прочесть… Но писать о нем – трудно. Он ведь просил друзей не «создавать» его биографии. Тоже показатель, если помнить, что писатели ныне, «пиара» ради, готовы хоть повеситься. Вселенские «проекты», подковерные драки за премии, публикации при жизни дневников каждого чиха своего, все эти презентации, перформансы, промоушены, ток и чмок-шоу. А Оруэлл не только не стремился – бежал этого. К счастью, друзья не послушались его и ныне существует почти десять его биографий. Одна из них, написанная его многолетним другом называется – «Беглец из лагеря победителей». А самую первую профессор Джордж Вудкок вообще назвал «Кристальный дух». «Daily Telegraph» тогда же написала: «Он и был «кристально чист духом». Ничто из того, что он говорил, не утратило силы, ничто из того, что он делал, нельзя игнорировать». И почти молитвенно добавила: «Это такой автор, личность которого сияет во всем, что он говорил и писал». Сияет! Да уж не святой ли он?
…«Святой» должен был умереть в Испании. Пуля прилетела из-за бруствера в 5 утра и пробила ему шею. Это случилось под Уэской, после семи месяцев его личной войны против Франко. Он был уже капралом и под его началом было 30 бойцов – таких же необученных и таких же – пламенных. Днем, обложившись мешками с песком, они гнили в окопах (остатки брустверов до сих пор сохранились в горах), готовили еду на жиденьких кострах, чистили винтовки, мурлыкая под нос революционные песенки (каждый на своем языке), а по ночам ходили в рейды и брали в плен фашистов. В горах до сих пор есть тропа, которую так и зовут – «тропой Оруэлла». И вот – утренняя пуля, он как раз инструктировал смену часовых.
«Мешки с песком, – вспоминал он, – вдруг поплыли прочь и оказались где-то далеко-далеко». Часовой-американец, с которым он только что говорил, нагнулся к нему: «Эй! Да ты ранен!..» Потом попросил нож, чтобы разрезать рубаху. Оруэлл потянулся достать его, но понял: правая рука парализована. «Ничего у меня не болело, – напишет, – и я почувствовал какое-то странное удовлетворение. Это понравится моей жене, – подумал он. – Она всегда мечтала, что меня ранят, а значит – не убьют в бою…» Но когда его приподняли, изо рта хлынула кровь. Он понял – песенка его спета. Он никогда не слышал, чтобы человек или зверь выживали, получив пулю в шею, а значит – жить ему оставалось несколько минут. Запомнил: ему не хотелось покидать этот мир, который, несмотря на все недостатки, его устраивал. «Я подумал также о человеке, подстрелившем меня, – кто он? Поскольку он фашист, я бы его убил, но если бы его привели, я поздравил бы его с удачным выстрелом…»
Поздравить не смог бы, ибо почти сразу выяснилось: у него пропал голос. Через 8 дней врач, ухватив его язык куском шершавой марли и, вытащив его, так что у него брызнули слезы, скажет: одна из голосовых связок парализована. «А когда вернется голос?» – беззвучно спросит Оруэлл. «Голос? – переспросит тот и весело добавит: – Никогда не вернется…» К счастью, врач ошибся: голос и в прямом, и в переносном смысле к нему вернется, и он расскажет о гражданской войне в Испании, как никто.
Это была и поныне единственная война человечества ради «смысла жизни» и – за «человеческое достоинство». Потом будут войны за родину, против колонизаторов, за свои и чужие богатства, территории, ресурсы. А тут в окопах вечно пахнущих «калом и гниющей пищей», битва за «смысл жизни» свела добровольцев со всего мира: интеллектуалов, художников, философов, киношников. В траншеях под Уэской, Теруэлем и Мадридом сидели, считайте, и ироничный плейбой Хемингуэй, и чистюля-аристократ Экзюпери, и будущий маршал, министр обороны СССР Родион Малиновский, и совсем уж «гражданский» Илья Эренбург. Эренбург и скажет потом: «Если для моего поколения остался смысл в словах «человеческое достоинство», то благодаря Испании». А Оруэлл на вопрос за что дрался, ответит: «За всеобщую порядочность…»
Странная это была война. Когда в 1936-м громыхнули первые выстрелы ее, все антифашисты Европы вздохнули с надеждой. Наконец-то нашлась страна, вступившая в схватку с фашизмом, ведь мир годами уже уступал ему. Японцы хозяйничали в Маньчжурии, Гитлер резал своих противников в Германии, Муссолини бомбил абиссинцев, а 53 государства лишь причитали на сессиях и ассамблеях: «Руки прочь!» И вот – когда и в Испании вспыхнул путч Франко против умеренно-левого правительства, все вздрогнули. Еще и потому вздрогнули, что война против Франко, против фашизма, почти сразу обернулась и революцией. Народ поднялся и за свободу от Франко, и – против капитализма того законного правительства, которое и защищал от фашизма. Крестьяне захватили землю, профсоюзы заводы, а священников и аристократов, поддержавших Франко, изгоняли или вообще – убивали. Мир в Испании почти сразу разделился не на 2 – на 4. На фашистов и демократов, а демократы, в свою очередь, на тех, кто за капитализм и кто – против. Русская эмиграция в Париже и Лондоне и та раскололась: одни полетели защищать Франко, другие – в интербригады, третьи в батальоны революционеров. Короче, каша заварилась та еще!
Оруэлл приехал в Барселону, как корреспондент. Город поразил его. Это был один вскинутый кулак: «Вива ля Република!» «Я впервые с радостью дышал воздухом равенства». Все дома были в красных, либо в красно-черных флагах анархистов, на стенах намалеваны серп и молот и даже ящики чистильщиков сапог были красно-черными. Никто не говорил «синьор» или «дон» – «товарищ». В парикмахерских – плакаты: «Рабов больше нет!». Богатые испарились, легковушки реквизированы, чаевые запрещены законом, а последних проституток лозунги призывали перестать заниматься этим «грязным делом». И песней для рабочих звучали имена вождей: Долорес Ибаррури, Андре Нин, Энрике Листер. «Многое в этом мне было непонятно, – напишет Оруэлл, – и даже не нравилось, но я сразу понял: за это стоит бороться…»
Ему было 33. Он почти сразу оказался в «казармах им. Ленина», где готовили к войне бойцов из ПОУМ – Объединенной марксистской рабочей партии, партии профсоюзов, членов которых считали анархистами, а затем – на Арагонском фронте, в отрядах, где в основном были испанские дети, мальчишки не старше 17-ти лет. Воинственная колонна их по пути к передовой растянулась чуть ли не до горизонта (кое-как одетая: на 100 человек – 12 шинелей, которые выдавались лишь часовым, кое-как вооруженная – они знали из какого конца винтовки вылетает пуля, но не больше). Мальчишки всю дорогу скандировали лозунги. Им эти крики казались грозными и страшными, но в детских устах они напомнили Оруэллу «мяуканье котят». Их и будут убивать, как котят, когда они начнут отчаянно драться за «дом Моникомо», который 115 дней будет переходить из рук в руки. Дом, который окажется «лечебницей для умалишенных». Сумасшедшая война за сумасшедший дом! У его стен Оруэлл впервые выстрелит в человека (до того стрелял только в слона в Индии), здесь 7 часов пролежит однажды в болоте и тут, взяв 3 гранаты (больше не давали) и сигару-талисман, присланную женой, не раз ходил в атаку. Одна из атак стала рукопашной. «Этот один раз, – напишет он, – был больше, чем одному человеку нужно за всю жизнь». И запоздало удивится, как вообще они, интеллигенты до мозга костей, мгновенно научились обходиться без носовых платков, хлебать еду из тех же мисок, из которых умывались, и месяцами спать не раздеваясь.
Войну за «сумасшедший дом» они проиграют. Как проиграют войну за еще один дом, который и поставит точку в битве против Франко. Сражение за «Телефонику», за телефонную станцию в центре Барселоны, когда вспыхнет «война в войне»: драка между своими – между правительством социалистов и анархистами профсоюзов. Оруэлл как раз 2 мая 37-го года приедет с фронта, чтобы встретиться с женой, бросившей в Лондоне, ради Испании, диссертацию по психологии. Приедет – и не узнает города. Официанты снова нацепят крахмальные манишки, всюду вернуться чаевые, а улицы, вместе с толстяками, сытыми дельцами, и элегантными женщинами, вновь заполонят открытые кабаре и шикарные публичные дома. На Оруэлла, чья кожаная куртка была в лохмотьях, шерстяная шапочка потеряла форму и съезжала на правый глаз, а от ботинок остались лишь шнурки, нарядные «хозяева жизни» взирали почти возмущенно. А через день, как раз 3 мая, и начнется новая каша – борьба за «Телефонику», где был штаб ПОУМ, располагалась редакция газеты профсоюзов «Ля Баталья» и где, кажется, находился Нин, вождь анархистов. Вот тогда Оруэлл, контролируя ситуацию на бульваре Рамблас, вместе с десятком других бойцов три дня проведет на крыше кинотеатра «Полиорама». Там, кстати, познакомился с Хербертом Фрамом, выдававшим себя за норвежского журналиста, а на деле оказавшимся Вилли Брандтом, да-да, тем самым, который в 1969 году станет федеральным канцлером ФРГ, а потом и лауреатом Нобелевской премии мира. Строительство баррикад, уличные перестрелки, полицейские патрули – всё это Оруэлл опишет в своей книге «Памяти Каталонии». Но главное – опишет облавы на ПОУМ, партию которую в одночасье объявят «троцкистской», а вскоре вообще – замаскированной фашисткой партией. В один-два дня десятки тысяч рабочих, в том числе восемь тысяч бойцов, мерзших в окопах, и сотни иностранцев, приехавших в Испанию сражаться с фашизмом, оказались коварными «предателями». Каково, пишет Оруэлл, было видеть 15-летнего испанца, раненого в окопах, его побелевшее лицо и думать о прилизанных ловкачах в Париже и Нью-Йорке, которые как по команде принялись строчить памфлеты, в которых доказывали, что и этот паренек – переодетый фашист, а профсоюзы Барселоны и ПОУМ – «пятая колонна» и вообще – «кровавые убийцы»? И первым – из песни слова не выкинешь! – заклеймил рабочих «наймитами Франко и Гитлера» – СССР, наша страна, которая на правах поставщика оружия, диктовала условия. Невероятно, но приказ Кремля гласил: «Предотвратите революцию, или не получите оружия». Почему? Да потому что за революцию был Троцкий, а лидер ПОУМ Андре Нин был, пишут, когда-то его секретарем. Мог ли Сталин, как раз в 1937-м уничтожавший у себя троцкистов, быть за такую революцию?! Хотя кремлевского вождя – «лучшего друга испанцев» – интересовал, думаю, лишь «золотой запас» страны, который нам-таки удалось «под шумок» вывести в СССР. Какие там революции и братская помощь – голый цинизм и холодный расчет. Недаром всем в Барселоне стали заправлять люди из НКВД: какой-то зловещий толстяк с Лубянки, по кличке «Чарли», и резидент в Испании, генерал Орлов – единственная русская фамилия, встретившаяся мне в книге Оруэлла о событиях в Каталонии. Вы удивитесь, но по иронии судьбы, как стало известно относительно недавно, против писателя Оруэлла там в Барселоне воевал не только Орлов, написавший потом мемуары, но и два командированных в Испанию «энкавэдешника», тоже ставших писателями: Лев Тарасов, написавший потом книгу «Испанская хроника Григория Грандэ» (в миру – Л. П. Василевский, «мастер грязных дел», ставший потом резидентом НКВД в Париже, а затем и в Мексике), и – «товарищ Альфред» – Станислав Ваупшасов (в миру – Ваупшас, будущий полковник госбезопасности, выпустивший в свет «Записки чекиста»). Именно к ним, к таким как они новым «победителям», почуяв силу, потянулись интеллектуалы Запада, а затем и «перебежчики» в Испании. Но когда и Оруэллу, решившему вернуться на фронт, его приятель-коммунист предложил перейти в интербригаду, он возразил: «Но ведь ваши газеты пишут, что я фашист». – «О, это не важно, – отмахнется приятель, – ты же только выполнял приказ». Но Оруэлл уже знал: перейди он к коммунистам, его рано или поздно заставят воевать против рабочих. А уж если стрелять, то он предпочел бы стрелять в их врагов. Именно здесь, в Испании окончательно сложилось его мировоззрение – позиция вечного «беглеца из лагеря победителей»…
Он вернется в Барселону еще раз, с забинтованной после ранения шеей. Войдет в «Континенталь», в отель, где еще недавно в штабе ПОУМ работала Эйлин, его жена, и почти сразу увидит ее, сидящую в холле. Его поразит как нарочито непринужденно она подойдет к нему. Обняв его и, не переставая очаровательно улыбаться людям, сидящим в холле, она шепнет ему: «Уходи!» – «Что?» – переспросит он. «Немедленно уходи отсюда! Не стой здесь!..» У выхода его догонит знакомый француз: «Слушай! Исчезни и спрячься, пока они не вызвали полицию». Уже на улице он спросит Эйлин: «Что все это значит?» – «ПОУМ вне закона, – ответит она. Почти все в тюрьме. Говорят, начались массовые расстрелы…» Выяснилось, что Андре Нин тайно убит (дело рук Орлова и его «командос»), что было, якобы, «доказано», что он по радио передавал военные секреты Франко. Эйлин рассказала, что исполком ПОУМ арестован и что у всех его членов «нашли» симпатические чернила для связи с фашистским подпольем, а саму Эйлин не арестовали лишь потому, что она служила «приманкой» для него. Вот тогда-то, чтобы не угодить в застенок, Оруэлл и стал ночевать на улицах, в какой-то разрушенной церкви на площади, которую потом назовут его именем, и впервые в жизни, всюду, где мог, озираясь и удивляясь на себя, царапать кирпичом на стенах: «Да здравствует ПОУМ!» А когда узнал, что сочувствующие коммунизму либералы в Европе, тот круг журналистов, с которым был знаком, не только оправдывали сей поворот фразами, типа: «Справедлив он или нет, но это мой социализм», не только не возмущались казнями в Испании и в СССР, но и попивая кофе по гостиным и глубокомысленно качая ножками, болтали, что «это необходимо» и «убийства оправданы», то понял: в мире родилось и окрепло новое «господствующее течение», и он, сам либерал из либералов, разумеется, будет против него. «Война научила меня, – скажет, – что левая печать так же фальшива и лицемерна, как и правая… С тех пор каждая моя строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм». Правда, добавит: «Как я сам его понимал…»
В июле ему с женой удастся бежать. Перед этим, рискуя жизнью, он попытался вырвать из тюрьмы одного бельгийца – друга и однополченца. И лишь потом они с женой стали тайком пробираться к вокзалу. Два сыщика и полиция обходили состав, отправлявшийся во Францию, ища «поумовцев», «но, увидя нас в вагоне-ресторане, решили, что мы люди респектабельные». Всего семь месяцев назад, когда он ехал в Испанию, сосед по купе, как раз француз, мрачно посоветовал ему: «Снимите воротничок и галстук. Там их сорвут с вас». Теперь всё было – наоборот. Походя на буржуа, любой оказывался в относительной безопасности…
В Англии он напишет книгу «Памяти Каталонии». Честно разберется в этой «каше». Так честно, что издатель его откажется печатать ее, и будет орать на него: «Зачем вы напичкали хорошую книгу всей этой чепухой: газетными цитатами, цифрами, доказательствами?» Но Оруэлл знал: лишь немногие в Англии догадывались, что убиты были тысячи совершенно невинных людей. «Если бы я не был возмущен этим, – скажет, – я бы никогда не написал эту книгу…»
«За окном мелькала Англия, которую я знал с детства, – заканчивал он книгу. – Заливные луга, на которых задумчиво пощипывают траву большие холеные лошади, неторопливые ручьи, палисадники коттеджей; а потом мирные джунгли лондонских окраин, плакаты, извещающие о крикетных матчах и королевской свадьбе, люди в котелках, голуби на Трафальгарской площади… Англия спит глубоким, безмятежным сном». И вывел последнюю фразу книги: «Иногда на меня находит страх, я боюсь, что пробуждение наступит внезапно, от взрыва бомб…»
Через два года бомбы посыпались и на Лондон. Началась вторая мировая. Пророчество его сбылось. Потом, уже при нас, западные литературоведы подсчитают: из 137 предсказаний в книгах Оруэлла 100 – осуществилось! Как вам процент «попаданий»? И не «отдыхает» ли рядом с нашим святым сам Нострадамус?
«МАСШТАБ ЦИВИЛИЗАЦИИ» – ПОРЯДОЧНОСТЬ
Одна сценка из жизни мучила его на склоне лет. Он как-то в деревне увидел 10-летнего мальчугана, который тонким прутиком гнал по тропе огромную лошадь и бил ее, когда она пыталась свернуть в сторону «Меня поразило, – напишет, – что, если бы животные осознали свою силу, мы не смогли бы властвовать над ними, и что люди эксплуатируют животных почти так же, как богачи эксплуатируют пролетариат…»
Мальчик и лошадь?! – взглянуть и забыть. Но лишь у него картинка эта превратится в яростную сатиру на «коммунизм», на сталинщину, в текст, где прямо, неуклончиво будет сказано о новой наседающей на мир лжи, насильно присваивавшей себе имя правды. В сказку-памфлет «Скотный Двор». В разоблачение извечной победы сильных над слабыми, хитрых над простодушными, властных – над добрыми. Фантастика, но и ее, эту книгу, вновь запретят на «свободном» Западе. Два года, до 1945-го, не будут публиковать ни в Англии, ни в Америке, ибо интеллектуалы, «креативный класс», сочувствовали тогда социализму и закрывали глаза на сталинский террор. Еще и потому закрывали, что «дядя Джо» (на деле, конечно, не Сталин, а русский народ) как раз ломал в это время хребет Гитлеру. Неудивительно, что даже жена издателя его в истерике наскакивала на мужа: «Я разведусь с тобой, если ты опубликуешь это!..»
Вообще-то его звали Эрик, а не Джордж. И не Оруэлл, а – Блэр. В семье он был средним из детей, а семья была из среднего класса: из «низшей прослойки верхнего слоя среднего класса» – так заковыристо выразится он. Родился, представьте, в Бенгалии. В семье английского служащего, выходца из аристократического, но обедневшего рода, в семье, по сути, колонизатора: Индия была колонией Британии. В 5 лет сочинил первое стихотворение про тигра; мать записала его. В нем зубы у тигра были похожи на «стулья» и это было – «неплохим сравнением». А вообще с детства был настолько одинок, что рано выработал привычку не только сочинять про себя «разные истории», но и «разговаривать с воображаемыми собеседниками». В 11-ть в местной газете напечатает первый стих, в 14 напишет аж целую пьесу в стихах – «подражание Аристофану», а в 30 уже лет скажет в стихах: «Я в этом времени – чужой…» Лучше бы написал: «другой». Совсем другой. Ведь я, например, в жизни не встречал никого из пишущих, кто бы взял псевдоним, лишь потому, что ему «неприятно видеть свое имя в печати». И чем это отличается от его ухода под «заборы и мосты», от жизни в ночлежках, дабы сравняться с бедняками, от слов, что и «годовой доход в несколько сот фунтов», казался ему «морально отвратительным, вроде сутенерства» и от признания, что «жизненная неудача», т. е. свой же крах, представлялась ему в 1930-х «единственной добродетелью».
Это было до Испании, в Париже. Он уже послужил полицейским в Бирме, тоже английской колонии, где пережил «невыносимое чувство вины», стрелял в слона, но не на охоте, ради забавы, а спасая полуголых туземцев от взбесившегося животного, а однажды присутствовал при казни тощего индуса с бритой головой и не ответил смехом на смех, когда ему сказали, что осужденный, узнав о приговоре, описался: «Прямо на пол, через штаны», – заливался от хохота охранник. Короче, перевидал всё и в Париж приехал, твердо решив стать политическим писателем. Казалось бы, в чем проблема? Садись и пиши, дыши воздухом «мекки творчества», а по вечерам – опрокидывай порции виски у каждой стойки, как Скотт Фитцжеральд. Но нет же, он сначала от бедности, а потом уже специально идет в судомои. Так рождалась его первая книга, ибо ниже рабов, как он понял, в Париже в то время просто не было.
Первым адом его стал ресторанчик при отеле с невинным именем «Три воробья». «Я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами; жарища градусов 45 и потолок, не позволявший распрямиться». – «Англичанин, да? – рявкнул ему официант, присматривающий за судомоями, и энергично показал кулак. – Давай трудись! – Станешь отлынивать, рога сверну, понял?..» Посуда, уборка, чистка ножей и снова – горы посуды, да кусок черного мыла, которое не мылится. Чад, огненные блики, пот, железо раскаленное, 13 часов у раковин. «Откуда ты, сучье отродье?» – орет ему шеф-повар. А Оруэлл лишь считал: за день его обозвали «сутенером» 39 раз. Ау, Фитцжеральд, Хемингуэй! – где в эти минуты вы смакуете свой виски?! Ведь Париж – это «праздник», не так ли? Вы лишь не знали, «зажигая» по ресторанам, что любой повар-француз способен плюнуть в ваш суп, что бифштекс он «поправляет» на тарелке пальцами, а официант потащит его вам, окунув в соус уже целиком сальные клешни, которыми поминутно приглаживает набриолиненную голову. Когда один из них на глазах Оруэлла уронил в шахту лифта жареного цыпленка, на опилки, корки и мусор, «птичку» обтерли тряпкой и тут же вновь отправили наверх, к богатенькому клиенту. Это, кстати, Оруэлл видел уже в другом ресторане, в том, который входил в дюжину самых роскошных в Париже. А позже вообще рискнет ставить на себе смертельные эксперименты: можно ли прожить на 30 шиллингов в месяц, втереться в «ряды» попрошаек-нищих, выжить в грязных ночлежках Лондона, и что испытывает в тюрьме в первую же ночь бродяга, «взятый» на заплеванной мостовой у теплого люка. «Однажды он пришел ко мне домой, – вспоминал Р. Рис, – и попросил разрешения переодеться. Оставив свою приличную одежду у меня в спальне, он появился одетый чуть ли не в лохмотья. Ему хотелось, пояснил он, узнать, как выглядит тюрьма изнутри; он надеялся, что увидит ее, если будет задержан». Заметьте: это не тот ловкий трюк под названием «журналист меняет профессию», который скоро научатся делать щелкоперы и на Западе, и у нас, когда заранее договариваются с начальством о «шпионе» из газеты. Нет, Рис пишет, что Оруэлла всерьез беспокоило только одно: как бы, устраиваясь на ночлег в каком-нибудь «доме призрения», среди небритых бродяг, калек и безработных, его не «выдал» бы безупречный итонский слог – он ведь после школы Св. Киприана, закончил привилегированный колледж в Итоне, готовивший к славной карьере элиту Британии. Короче, бегство «из мира респектабельности» мыслилось всерьез. Не протест против «жирных» – бунт сродни толстовскому. Восстание совести ради сохранения органичности взгляда и поступка, какой-то видимой ему одному целостности личности.








