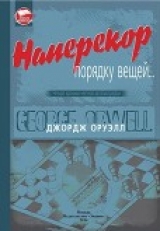
Текст книги "Наперекор порядку вещей... (Четыре хроники честной автобиографии)"
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц)
Допустим, мы установили, что труд плонжера, в общем, бесполезен. Тогда откуда, спрашивается, желание сохранять этот вид труда? Попробую, не трогая причин чисто экономических, показать, каким милым ощущением может сопровождаться мысль о людях, обреченных всю жизнь соскребать грязь с тарелок. Ведь многим (многим из живущих весьма неплохо) эта мысль несомненно мила. Как утверждал Катон[104]104
Марк Порций Катон (Старший, или Центор) – консул 195 г. до н. э., историк, оратор, автор руководств по различным отраслям практической деятельности.
[Закрыть], раб должен работать всегда, когда не спит. Нужен или не нужен его труд, неважно; он должен работать, так как работать само по себе хорошо – для рабов, во всяком случае. Тезис живучий, на его основе и наворочены горы всяческой бесполезной траты сил.
Я полагаю, инстинктивное желание навеки сохранить ненужный труд идет просто из страха перед толпой. Толпа воспринимается как стадо, способное на воле вдруг взбеситься, и безопаснее не позволять ей от безделья слишком задумываться. У богатых людей, склонных к честному размышлению, вопрос об улучшении жизни работяг обычно вызывает следующий ход мыслей:
«Да, разумеется, нищета очень огорчительна. А впрочем, эта неприятность нас не касается и грусть об этом не особенно мешает всем нашим радостям. И что-то делать, переделывать мы совершенно не собираемся. Нам жаль вас, бедные низшие классы, жаль вас, как киску в лишаях, но мы зубами и когтями будем драться против любого улучшения вашей жизни. В нынешней ситуации вы явно не столь опасны. Сейчас мы общим положением дел довольны и не рискнем увеличивать вашу вольность хотя бы на час в день. Так что, братья дорогие, придется уж вам попотеть, отрабатывая наши прогулки по Италии. Потейте, и черт с вами!».
Такова же позиция умных и образованных, в чем легко убедиться, читая сотни интеллектуальных эссе. Высокообразованные люди редко имеют меньше четырех сотен фунтов в год и, естественно, держат сторону богачей, воображая, что свобода бедняков угрожает их собственной свободе. Полагая альтернативой некий мрак марксистской социальной утопии, человек тонкого воспитания предпочитает оставить все по старому. Его, возможно, не приводят в восторг повадки богачей, но даже их вульгарность ему ближе и менее обременительна, чем проблемы нищих трудяг. Из-за боязни предположительно опасной толпы почти всякий образованный умник становится консерватором.
Страх перед толпой – страх суеверный, он основан на убеждении в непостижимом коренном отличии расы богатых от расы бедных. Но нет ведь никакой такой границы. Деление на бедных и богатых определяется доходом, лишь его суммой; рядовой миллионер – тот же рядовой мойщик тарелок в ином костюме. Поменяйте их местами и кто есть кто? Где грязь, где князь? Все это станет очень ясно, если сам без гроша покрутишься среди народа малоимущего. Но беда в том, что люди с образованием и воспитанием, люди, вроде бы призванные утверждать либеральные взгляды, никогда среди бедных не обретаются. Вообще, что большинство культурных граждан знает о бедности? Для публикации моего перевода стихов Вийона вдумчивый редактор счел нужным дать специальный комментарий к строчке «Ne pain ne voyent qu’aux fenestres»[105]105
«В любом окне видящий только хлеб» (фр.). Из поэмы Ф. Вийона «Большое завещание»; в русском переводе Ф. Мендельсона это строчки «Но в сердце мрак и пуст живот, Он не наполнен и на треть, На девок ли теперь глядеть…» (Ф. Вийон. Стихи. М., 1963, с. 71).
[Закрыть] – настолько непонятен ценителям поэзии голод. С подобными пробелами в знаниях суеверный ужас перед толпой взрастает вполне органично. Образованному человеку видятся орды полузверей, рвущих рабские цепи лишь затем, чтобы разграбить его дом, сжечь его книги, а самого его заставить работать у станка или чистить уборные. «Пусть что угодно, – думает человек образованный, – пусть любая несправедливость, только бы удержать толпу в узде». Не видится, что при отсутствии врожденных различий между массами богачей и бедняков нет и проблем освободившейся толпы. Толпа фактически уже теперь свободна – толпа богатых, своей властью учредивших громадные каторжные цеха типа «шикарных» отелей.
Подведем итог. Плонжер – раб, причем раб никчемный, исполняющий тупую, в основном бесполезную, работу. Его держат при таком деле, главным образом, из-за смутного подозрения, что, получив больше досуга, он может стать опасным. И культурные люди, от которых должны бы идти помощь и сострадание, внутренне одобряют его рабство, так как ничего про сегодняшних рабов не знают и потому сами их опасаются. Я говорю о плонжере, рассмотрев именно его случай, но то же в равной степени применимо к бесчисленному множеству профессий. Это лишь мое собственное мнение насчет причин существования плонжеров, соображения вне важнейших вопросов экономики и несомненно весьма банальные. Просто кое-что из мыслей, навеянных трудами у ресторанной кухонной раковины.
XXIII
Покинув «Трактир Жана Котара», я сразу же лег спать и спал почти сутки. Затем впервые за полмесяца почистил зубы, вымылся, сходил подстричься, выкупил одежду из ломбарда. И два дня восхитительного безделья. Я даже, надев лучший свой костюм, посетил наш «Трактир» – небрежно прислонившись к стойке бара, кинул пять франков за бутылку английского пива. Прелюбопытно заявиться праздным гостем туда, где был последним из рабов. Борис очень жалел, что я уволился как раз тогда, когда мы наконец прорвались и совсем скоро должны были начать купаться в золоте. Позднее я получил от Бориса весточку, где сообщалось, что у него чаевых по сотне в день, а также новая подружка, барышня très sérieuse[106]106
Очень порядочная (фр.).
[Закрыть] и никогда не пахнет чесноком.
Целый день я провел, обходя наш квартал и со всеми прощаясь. Напоследок выслушал рассказ Шарля про финал старика Руколя, нищего, обитавшего здесь раньше. Шарль, вероятно, как всегда сильно привирал, но история была славная.
Умершего за пару лет до моего приезда в Париж Руколя еще частенько вспоминали. Не Даниэль Дансер[107]107
Знаменитый английский нищий (в оригинале имя приведено во во французской транскрипции).
[Закрыть], масштаб помельче, однако тоже интересная фигура. В свои семьдесят четыре года старик каждое утро шел на рынок подбирать овощную гниль, ел кошатину, вместо белья обертывался газетой, топил печь фанерной обшивкой комнаты, штаны себе смастерил из мешка – и все это, имея на счету в банке полмиллиона. Хотелось бы мне лично с ним познакомиться.
Как многих нищих, Руколя сгубила рискованная инвестиция. Однажды в квартале замелькал бойкий и деловитый еврейский парень с первоклассным планом доставки в Англию контрабандного кокаина. Конечно, купить кокаин в Париже довольно просто, да и перевезти его тайком несложно, только вот обязательно какой-нибудь стукач донесет в таможню или полицию. Доносят, считалось вокруг, сами торговцы кокаином, так как вся контрабанда в руках синдикатов, не желающих конкуренции. Парень однако уверял, что опасности никакой: у него есть путь прямо из Вены, в обход известных каналов и без посредников-вымогателей. На Руколя он вышел через поляка, студента Сорбонны, готового вложить четыре тысячи, если Руколь даст шесть. Хватило бы закупить десять фунтов кокаина, нажив потом изрядный капиталец.
Поляк и еврей чуть не надорвались, вытягивая деньги из старого Руколя. Шесть тысяч для него было немного (в его матрасе хранилось гораздо больше), но он испытывал смертные муки, расставаясь с каждым грошом. Неделю без перерыва дельцы объясняли, наседали, доказывали, уговаривали, умоляли. Старик ополоумел, разрываясь между жадностью и боязнью. При мысли о возможном барыше в пятьдесят тысяч у него кишки сводило спазмой, но пересилить себя и рискнуть деньгами он не мог. Так и сидел в углу, обхватив голову руками, постанывая, временами дико вскрикивая, то и дело падая на колени (он был чрезвычайно набожен) и моля ниспослать ему силы. И никак не решался. И внезапно – более всего от изнеможения – решился: вспорол свой матрас с деньгами, выдал ровно шесть тысяч.
В тот же день еврей притащил кокаин и вмиг исчез. Между тем, как и следовало ожидать, благодаря шумным стенаниям Руколя сделка стала известна всему кварталу; уже следующим утром нагрянула полиция.
Поляка и Руколя обуял ужас. Полиция внизу, обшаривают комнату за комнатой, а на столе увесистый пакет кокаина, и спрятать некуда, и лестница перекрыта, сбежать нельзя. Поляк готов был выкинуть порошок в окно, но Руколь даже слышать об этом не хотел. Шарль рассказывал, что был свидетелем драматической сцены: едва попробовали взять пакет у Руколя, тот прижал кокаин к груди и несмотря на свой преклонный возраст дрался как бешеный. Обезумев от испуга, он все-таки скорее пошел бы в камеру, чем выкинул сокровище.
Наконец, когда полицейские уже обыскали первый этаж, кто-то подал идею. У соседа Руколя, мелкого коммерсанта, имелась на продажу дюжина банок дамской пудры – предложено было в эти банки насыпать кокаин, выдав за безобидную косметику. Пудру мигом вытряхнули в окно и заменили кокаином, банки демонстративно, как предмет самый невинный, расставили по столу. Через пару минут вошла полиция. Простучав стены, обследовав половицы, заглянув в дымоход, вывернув наизнанку драные кальсоны и ничего не обнаружив, бригада собиралась уходить, когда инспектор заметил стоящие на столе банки:
– Tiens![108]108
Нате-ка! (фр.).
[Закрыть] Еще кое-что, сразу и внимания не обратил. Что это, а?
– Дамская пудра, – проговорил поляк со всем возможным в его состоянии спокойствием.
Но тут Руколь так громко, тревожно застонал, что полиция насторожилась. Одну из банок открыли, содержимое высыпали, инспектор, понюхав, высказал мнение о кокаине. Руколь и поляк начали клясться всеми святыми, что это пудра, – бесполезно, чем горячей они клялись, тем больше вызывали подозрений. Парочку арестовали и под конвоем повели к ближайшему участку.
В участке начался допрос у комиссара, а банку с порошком отослали в лабораторию. По словам Шарля, Руколь вел себя неописуемо. Он молил, плакал, заявлял то одно, то совершенно обратное, вдруг зачем-то выдал поляка и при всем том непрестанно голосил на всю улицу. Полицейские просто лопались от смеха.
Через час возвратился посланец с банкой кокаина и заключением эксперта. Улыбаясь, сказал:
– Это не кокаин, monsieur.
– Нет? Не кокаин? – изумился комиссар. – Mais, alors[109]109
Но тогда (фр.).
[Закрыть] – что?
– Дамская пудра.
Поляка и Руколя сразу же отпустили, вполне оправданных, но жутко злых. Еврейский парень их попросту надул. Впоследствии, когда волнения утихли, выяснилось, что ту же шутку он сыграл еще с двоими из нашего квартала.
Поляк рад был отделаться, пусть даже потеряв четыре тысячи, но несчастный старик Руколь был совершенно раздавлен. Придя домой, он слег, и уже заполночь все еще слышались его вопли:
– Шесть тысяч франков! Nom de Jésus Christ! Шесть тысяч!
На третий день его хватил удар, а спустя две недели он скончался. От разбитого сердца, как пояснил Шарль.
XXIV
До Англии я добирался третьим классом через Дюнкерк и Тилбери (самый дешевый и не самый худший путь через Канал)[110]110
Имеется в виду пролив Ла-Манш.
[Закрыть]. Поскольку за каюту надо было доплачивать, вместе с большинством пассажиров третьего класса я спал в салоне. Некоторые наблюдения из моего дневника:
«Ночевка в салоне; двадцать семь мужчин, шестнадцать женщин. Наутро никто из женщин не умывался. Мужчины почти все отправились в ванную комнату, а женщины просто достали свои зеркальца и припудрили несвежие лица. Вопрос: вторичный половой признак?».
Со мной ехала молодая румынская пара, сущие дети, совершавшие свадебное путешествие. Их любопытство к неизвестной Англии я удовлетворял чудовищным враньем. По дороге домой, после долгих тягот в чужом городе Англия виделась мне вариантом рая. Действительно, многое зовет вернуться на английскую землю: ванные, кресла, мятный соус, должным образом приготовленный молодой картофель, хлеб с отрубями, апельсиновый джем, пиво из настоящего хмеля – великолепно, если есть чем заплатить. Англия восхитительная страна для того, кто не беден, а я, имея перспективу надзора за дебилом, бедным быть, разумеется, не собирался. Мечта о скором блаженном житье очень подогревала патриотизм. Чем больше вопросов задавали румыны, тем шире разливались мои хвалы всему английскому: климат, пейзаж, поэзия, музеи, законы и права – сплошное совершенство.
– А хороша ли в Англии архитектура?
– Блистательна! – отвечали. – Одни лишь лондонские монументы чего стоят! Париж вульгарен: или грандиозно, или убого. Но Лондон!..
Тем временем пароход подошел к Тилбери. Первое здание у причала несомненно было отелем – чудовищный оштукатуренный барак, мелкие башенки которого пялились с берега наподобие глядящих со стены клиники кретинов. Слишком вежливые для каких-либо замечаний, румыны молча косились на отель. «Выстроен по французскому проекту», – уверил я. И даже когда поезд проползал сквозь трущобы восточных лондонских районов, я продолжал настаивать на красотах местного зодчества. Не было слов, достойных выразить прелесть Англии, теперь, когда я, вырвавшись из нужды, приближался к благополучию.
В офисе моего друга Б. все разом рухнуло. «Мне очень жаль, – встретил меня приятель, – но твои наниматели уехали за границу и пациента увезли. Впрочем, они должны вернуться через месяц. Пока, надеюсь, продержишься?»
Я оказался за порогом, даже не сообразив занять еще немного денег. Впереди месяц ожидания, а в кармане всего-навсего девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Новость меня сразила. Долго не удавалось собраться с мыслями. Весь день я проболтался по улицам, а ночью, слабо представляя, где найти в Лондоне дешевое пристанище, пошел в «семейный» отель-пансион. Заплатил семь с половиной шиллингов – осталось десять шиллингов и два пенса.
Утром составил план. Хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться за помощью к Б., сейчас это все-таки неудобно, и на какой-то срок необходимо затаиться. Опыт научил меня не закладывать лучшие вещи. Всю одежду я оставил в вокзальной камере хранения, взял только не совсем новый костюм, который думал обменять на более поношенный, выиграв при этом около фунта. Собираясь месяц прожить на тридцать шиллингов, я должен был одеться плохо, буквально «чем хуже, тем лучше». Реально ли растянуть тридцать шиллингов на месяц, я понятия не имел, в Лондоне я ориентировался совсем не так, как в Париже. Может, милостыню просить или же торговать шнурками для ботинок? Из воскресных газет мне помнилось про нищих, у которых зашито за подкладкой тысчонки две. Во всяком случае, было точно известно, что голод в Лондоне не грозит, хотя бы об этом я мог не беспокоиться.
Продавать свой костюм я отправился в Лэмбет, бедняцкий район, где всюду торгуют ношеным тряпьем. В первой лавке, куда я сунулся, хозяин был вежлив, но бесполезен, во второй – крайне невежлив, в третьей – глух как пень или же притворялся таковым. Четвертый торговец, блондинистый мясистый малый, весь розовый как ломоть ветчины, оглядев меня, быстро и пренебрежительно пощупал ткань:
– Жиденький материальчик, прям дешевка (костюм был добротный и дорогой). Почем сдаешь?
Я объяснил, что хотел бы получить одежду пониже качеством плюс разницу в цене, на его усмотрение. Секунду он размышлял, потом набрал каких-то замызганных тряпок и кинул мне. «Как насчет денег?» – напомнил я, уповая на фунт. Торговец поджал губы, посопел и выложил возле тряпок шиллинг. Я не собирался спорить с ним, но поскольку невольно открыл рот, он сделал движение, якобы забирая монету, – верно оценил мою беспомощность. Мне было позволено переодеться в задней комнатке.
Полученное старье состояло из пиджака, в свое время темно-коричневого, пары черных холщовых брюк, шарфа и матерчатой кепки. Рубашку, носки и ботинки я оставил свои, в карман переложил расческу и бритву. Очень странное ощущение возникло в новом наряде. Мне и раньше случалось плохо одеваться, но ничего хоть сколько-то подобного. Вещи были не просто мятыми и грязными, их отличала – как бы это выразить? – некая благородная ветхость, некая, вовсе не похожая на пошлую заношенность, патина старинной тусклой блеклости. Виды такой одежды демонстрируют бродяги или продавцы спичек. Часом позже на улицах Лэмбета мне встретился какой-то бредущий с видом нашкодившего пса субъект, явно бродяга; присмотревшись, я узнал самого себя в витринном зеркале. И лицо уже покрыто пылью. Пыль чрезвычайно избирательна: пока вы хорошо одеты, она минует вас, но лишь появитесь без галстука, облепит со всех сторон.
На улицах я оставался до самой ночи, причем безостановочно ходил, серьезно опасаясь, что ввиду костюма полиция примет меня за попрошайку и арестует. Говорить я тоже не осмеливался, воображая, что будет замечено несоответствие между произношением и одеянием (страх, как я впоследствии убедился, напрасный). Новый мой костюм мгновенно перенес меня в новый мир. Отношение ко мне круто изменилось. Лоточник, которому я помог собрать рассыпавшийся товар, кинул с улыбкой: «Спасибо, браток». До сей поры «братком» меня никто не называл – эффект соответственной одежды. Впервые я заметил, как меняется в связи с вашим костюмом поведение женщин. Когда рядом проходит человек в мятом вылинявшем пиджаке, их передергивает и они брезгливо отшатываются, как от дохлой кошки. Одежда – мощнейшая вещь. В отрепьях сложно, по крайней мере поначалу, преодолеть ощущение действительной собственной деградации. Такое же чувство позора, неясного и тем не менее весьма чувствительного, испытываешь первой ночью в тюрьме.
Ближе к одиннадцати я стал высматривать ночлег. Зная по книгам о ночлежках (кстати, ночлежками они никогда не именуются), я полагал найти спальное место пенса за четыре. Приметил на обочине Ватерлоо-роуд какого-то работягу в спецовке и обратился к нему. Сказал, что без гроша, хотел бы переночевать как можно дешевле.
«Ага, – кивнул он, – там вон, на ту сторону поди, написано где над дверями «Тихий Отдых для Бессемейных Мужчин». Точно, отличный кип[111]111
«Кип» на жаргоне – место для сна.
[Закрыть], я сам ходил. У них там дешево да еще чисто».
Окна торчавшей на указанном месте развалюхи едва светились, темнея заплатами выбитых и заклеенных бумагой стекол. В кирпичном коридоре навстречу снизу вышел худосочный, с заспанными глазами мальчишка. Из подвала послышался смутный шум, плеснуло жаркой, отдающей сырой затхлостью. Мальчишка, зевая, подставил ладонь:
– Кип надо? Гони бычок, и все дела.
Заплатив шиллинг, я вслед за мальчишкой по темной шаткой лесенке поднялся в спальню. Сладковато воняло больничной палатой и грязным бельем; окна, видимо, были наглухо забиты, вначале показалось, что воздуха просто нет. Горящая свечка позволила различить низкую комнату площадью метров двадцать и вмещавшую восемь коек. Шестеро квартирантов уже лежали, бдительно свернув рядом всю снятую одежду, включая поставленные сверху башмаки. В углу кто-то кошмарно, мерзейшим образом кашлял.
Постель оказалась жесткой как камень, подушкой служил валик, по твердости не уступавший бревну. Спать тут было хуже, чем на столе, – кровать гораздо короче стандартной, очень узкая, и матрас таким горбом, что приходилось напрягаться, удерживая себя от падения. Смердящие застарелым потом простыни я был вынужден отодвинуть подальше от носа. К тому же вместо одеяла тоненькая хлопковая накидка, и согреться при всей духоте трудновато. И постоянная возня вокруг. Примерно через каждый час мой сосед слева, матрос вероятно, просыпался и, кляня бога с дьяволом, закуривал. Другой жилец, жертва простуженного мочевого пузыря, раз шесть за ночь вставал, чтобы шумно использовать ночной горшок. Квартировавшего в углу каждые двадцать минут терзало кашлем, регулярный накат приступа ожидался, как ждешь очередной рулады воющей на луну собаки. Звук этого кашля не описать; человек хрипел, давился, будто ему все нутро выворачивало. Он как-то чиркнул спичкой – осветилось старческое лицо, впалые серые щеки покойника и намотанные для тепла на голову штаны (манера, которой я, должен признаться, не выношу). Всякий раз в ответ на кашель старика или ругань матроса летели сонные крики:
– Заткнись! Заткнись к черту, чтоб тебя…!
Спал я в общей сложности не больше часа. Утром проснулся со смутным впечатлением придвинутого ко мне крупного темного предмета. Открыв глаза, увидел прямо перед своим лицом закинутую на мою кровать матросскую ступню. Ступня была очень смуглой, смуглой как у индусов, но от грязи. Стены пестрели пятнами, цвет сыроватых, недели три не стираных простынь достиг оттенка довольно плотной умбры. Я оделся и пошел вниз. В подвале обнаружилось несколько стоящих в ряд чугунных ванн, висела пара скользких мокрых полотенец на роликах. Имея при себе кусочек мыла, я уже хотел приступить к мытью, когда заметил, что внутренние стенки ванн чернеют грязью – слоем жирной липкой грязи, не светлее сапожной ваксы. Ушел немытым. Заведение по всем статьям не отвечало рекомендации «дешево да еще чисто». Зато, как мне позже открылось, оно было типичнейшей ночлежкой.
Перейдя мост и прошагав довольно далеко к востоку, я наконец решил зайти в торговое кафе на Тауэр-хилл. Лондонское торговое кафе, каких тысячи, показалось мне после Парижа необычным и иностранным. Душноватый зальчик со скамьями, высокие спинки которых хранили моду прошлого столетия, с меню, написанном обмылком по зеркалу, и подавальщицей, девчонкой лет четырнадцати. Работяги жевали что-то из собственных газетных свертков и пили чай из похожих на керамические стаканы чашек без блюдец. Сидевший особняком в углу еврей, уткнувшись в тарелку, жадно и виновато ел бекон.
– Нельзя ли чая и хлеба с маслом? – спросил я юную официантку.
Она оторопела. Удивленно таращась, ответила: «Масла нету, только маргарин». И повторила буфетчику мой заказ фразой, столь же присущей Лондону, как вечный coup de rouge[112]112
Революционный бунт (фр.).
[Закрыть] Парижу:
– Полный чай с двойным бутером!
На стене рядом со мной висела табличка, предупреждавшая «Уносить сахар воспрещается», а ниже некий поэтического склада гость приписал: «Кто упрет отсюда сахар, того надо послать на…», но кто-то еще не пожалел сил соскрести последнее слово. Это была Англия.
После стоившего три с половиной пенса чая-с-двойным-бутером у меня осталось восемь шиллингов и два пенса.
XXV
Восемь шиллингов были растянуты на три дня и четыре ночи. После неудачной пробы на Ватерлоо-роуд[113]113
Странно, но факт общеизвестный: клопов на юге Лондона гораздо больше, чем на севере, и почему-то эти насекомые не совершают массового перехода через реку (прим. автора).
[Закрыть] я перебрался еще дальше к востоку и следующую ночь провел в ночлежке на Пеннифилдс. Заурядная лондонская ночлежка из тех, которые могут принять от полусотни до сотни постояльцев и управляются «полномочными», – наличие этих доверенных представителей владельцев свидетельствует о хорошем достатке хозяев, то есть о выгодности предприятий. В спальнях коек по пятнадцать-двадцать, постели опять-таки жесткие и холодные, но простыни – уже прогресс – постираны не далее чем неделю назад. Цена ночлега девять пенсов или шиллинг (за шиллинг спальня с койками длиной шесть футов вместо обычных четырех), платить положено наличными до семи вечера либо когда выходишь на улицу.
Внизу общая кухня с предоставленными всем и бесплатно дровяной плитой, бачком для чая, кое-какой утварью, тостерными вилками. Кроме того горящие круглые сутки в любой сезон две кирпичные печки. Топили, убирали и застилали койки поочередно сами жильцы. За старшину был похожий на викинга красавец Стив, портовый грузчик, слывший тут «головой», решавший споры и выставлявший неплательщиков.
Кухня мне нравилась. Глубокий низкий подвал, дремотная жара с дымком кокса, свет только от печных огней и по углам густые бархатные тени. С веревок под потолком свисает мокрое тряпье. Мелькая багровыми бликами, жильцы, главным образом грузчики, докеры, топчутся у плиты со своими плошками; некоторые совсем голышом, так как одежду постирали и теперь сушат. Вечерами игра в карты (в «нап» – «наполеон») или в шашки и песни: самая любимая – «А я парнишка, горе злое отца с матерью», вторая по частоте исполнения – про гибель корабля. Иногда поздней ночью притаскивается и делится на всех ведро купленных по дешевке моллюсков. Дележ съестного был в обычае, при этом считалось само собой разумеющимся подкармливать безработных. Иссохший бледный человечек, явно одной ногой в могиле, все рассуждавший «Браун-то, как к дохтору сходимши, и помер враз», постоянно кормился за счет такого рода угощений.
Среди постояльцев пара-тройка дряхлых пенсионеров. Я раньше даже не подозревал, что в Англии есть люди, которые живут лишь на положенную ввиду преклонных лет пенсию десять шиллингов в неделю. Никаких иных ресурсов у этих старцев не имелось. Одного из них, любителя почесать языком, я спросил, как ему удается существовать.
«А чего ж тут, – ответил он. – По девяти пенсов за кип – это те на неделю пяток шиллингов да три пенса. Потом клади три пенса, чтоб в субботу щетину поскоблить, – это те пятерик да шесть. Потом, гляди-ка, волос постричь хотя раз в месяц – еще, значит, пару пенсов накинь. И станется те на неделю четверик да четыре пенса для пищи и чтоб курнуть».
О каких-либо других тратах старик не помышлял. Питался чаем и хлебом с маргарином (к концу недели вчерашним хлебом и чаем без молока), одежду наверно получал в пунктах благотворительности. И выглядел довольным, превыше еды ценя теплый угол и постель. Однако же, из жалких пенсионных десяти шиллингов еще уделять деньги на бритье – внушает благоговейный трепет.
Целый день я болтался по улицам между Уоппингом и Уайтчеплем. Все так странно после Парижа: все вокруг гораздо чище, гораздо тише и скучней. Не слышно ни грохота трамваев, ни кипучей шумной возни боковых улочек, ни громыхания марширующих через площади военных. Прохожие одеты лучше, лица мягче, спокойнее, однообразнее, без вызывающего жесткого индивидуализма французов. Меньше пьяных, меньше грязи, меньше ругани и больше бездельников. На всех углах кучки зевак, слегка оголодавших, подкрепляющих себя лишь чаем-с-бутером, блюдом, необходимым лондонцу каждые два часа. Сам воздух, кажется, лишен парижской лихорадочности. Там, в Париже, страна стаканчиков вина и потогонной системы, а здесь страна чашечек чая и трудовых договоров.
Интересно было наблюдать за толпой. Женщины в Ист-энде[114]114
Ист-энд – восточная, «пролетарская» часть Лондона. Далее упоминаются районы Ист-энда.
[Закрыть]хорошенькие (возможно, результат смешения кровей), Лаймхауз щедро приправлен Востоком – и китайцы, и отпущенные в увольнение моряки-индийцы, и торгующие шелковыми платками дравиды, и даже несколько бог знает как попавших сюда сикхов. Повсюду уличные митинги. На Уайтчепле некто, называвший себя Гласом Евангельским, ручался за шесть пенсов уберечь вас от преисподней. На Ост-Индиа-док-роуд Армия спасения проводила церковную службу в пении псалма «Кто подобен Иуде лживому?» отчетливо звучал мотивчик «Кому охота с пьяной матросней?». На Тауэр-хилл двое мормонов пытались воззвать к публике. Осаждавшая площадку аудитория горланила и не давала говорить. Кто-то обличал мормонов за многоженство; хмурый бородач, как видно неколебимый атеист, яростно прерывал ораторов, едва слышалось слово «бог». Шум, гам, перепалка:
«Дорогие друзья! Если позволите, нам бы хотелось вам сказать…» – «Пускай доскажут, имеют право, не встревай!..» – «Нет-нет, ты мне прежде ответь: ты можешь своего бога показать»? Покажъ давай, тогда и верить в его буду…» – «Да заткнись, хватит к им вязаться!..» – «Сам заткнись! Многоженцы е…!» – «А че ж, нам многоженство не без пользы, взять хоть е… девок фабричных…» – «Дорогие друзья, если б вы только позволили…» – «Нет-нет, ты не виляй, ты говори: видал бога-то? За руку, что ль, здоровался?..» – «Да не встревай, черт тебя подери, ну не встревай же!»…
Минут двадцать я стоял, ожидая узнать что-нибудь о мормонах, но митинг далее бурлящей свары не продвинулся. Обычный удел всех митингов.
На Мидлсекс-стрит сквозь базарную толчею продиралась замызганная оборванка, волочившая пятилетнего шкета. Тот ревел благим матом, а мамаша размахивала у него перед носом жестяной дудкой.
– Играться? – орала она. – Думает, взятый, чтоб вот токо дудку ему купи? Давно не драла тебя? Щас, ублюдочек сопливый, ты у меня поиграешься!
Из дудки капельками падала слюна. Визжа в два голоса, мамаша с отпрыском исчезли. Очень и очень странно после Парижа.
Накануне вечером при мне в ночлежке на Пеннифилдс сцепились два жильца, сцена была гнетущая. Один из стариков-пенсионеров, лет семидесяти, голый до пояса (он стирал), бешено, срываясь на крик, поносил отвернувшегося к печке коренастого грузчика. Хорошо освещенное огнем, лицо старика дергалось от обиды и гнева. Видимо, случилось что-то серьезное.
Старикан: Ах ты…!
Грузчик: Заткни пасть… старый, пока я те не двинул!
Старикан: Ну-ка, попробуй, ты…! Я хоть старее годов на тридцать, а токо тронь, так в морду врежу – мочой весь завоняешь!
Грузчик: Ох, кабы я тя после на части не развалил, старый…!
Так продолжалось минут пять. Окружающие сидели, понурившись, ссору старались не замечать. Тем временем грузчик мрачнел, а старикан все больше входил в раж. Подскакивал к противнику, кричал ему чуть ли не в самое лицо, шипел, плевался, как разъяренный кот. Пробовал даже нервно, не совсем удачно, ткнуть кулаком. Наконец взорвался:
– …! Вот ты кто —…! Пососи-ка своим вонючим ртом! Я те… своим глотку заткну!.. ты, больше ничего…. сучье отродье! На-ка, облизни!..ты!..!..! УБЛЮДОК ЧЕРНОМАЗЫЙ!
Выкрикнув это, старик вдруг рухнул на лавку, прижал к лицу ладони и завыл. Противник, видя, что народ настроен против него, ушел.
От Стива я потом узнал причину ссоры: все из-за съестного на какой-нибудь шиллинг. По некоторым причинам старик остался без своего хлеба с маргарином и трое суток ему предстояло питаться только угощением соседей, а грузчик, имевший работу и хороший сытный кусок, позубоскалил над стариком, отсюда и скандал.
Когда финансы мои сократились до шиллинга, четырех пенсов, я перебрался в Боу, в ночлежку, где брали лишь восемь пенсов. Спустился в затерянный среди переулков и тупиков душный тесный подвал метра три на три. С десяток квартирантов, большей частью чернорабочих, сидели у бьющего ярким светом огня. Несмотря на глубокую ночь сынишка полномочного, бледный и взмокший, резво ползал по коленям жильцов. Старик ирландец насвистывал слепому снегирю в крошечной клетке. Были и другие пичуги – чахлые создания, не знавшие ничего кроме этого склепа. Обитатели ночлежки, ленясь тащиться до уборной через двор, мочились прямо в огонь. Сев к столу, я почувствовал странное шевеление под ногами; поглядев вниз, увидел плавно текущую сплошную черную массу – тараканы.
В спальне шесть коек; простыни, крупно помеченные штампом «Украдено из дома №…, Боу-роуд», пахли кошмарно. Рядом спал дряхлый старик, рисовальщик на тротуарах, с каким-то особенным искривлением спины, заставившим его выгнуться, свесив зад в полуметре от моего лица. Эта часть его тела была голой, покрытой примечательным узором грязных разводов наподобие мраморной плитки. Среди ночи явился пьяный, свалившийся возле моей кровати. Имелись также клопы – не такой ужас, как в Париже, но достаточно, чтобы держать вас в боевой готовности. Местечко хуже некуда. Однако полномочный с женой там были людьми радушными, готовыми налить вам чашку чая в любой час дня и ночи.








