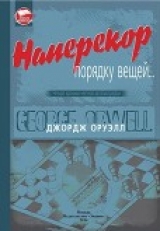
Текст книги "Наперекор порядку вещей... (Четыре хроники честной автобиографии)"
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 41 страниц)
Итак, в свои семнадцать лет я был одновременно снобом и ополчившимся на власти бунтарем. Читал, перечитывал Уэллса, Шоу, Голсуорси (они еще числились в разряде опасно «передовых» писателей) и сам себя полагал социалистом. Ни четких представлений о социализме, ни понимания того, что рабочий класс – живые люди, у меня не имелось. Читая книги (например, «Люди бездны» Джека Лондона) я страшно переживал за пролетариев, но, оказавшись рядом с ними, по-прежнему их презирал и ненавидел. По-прежнему бесило их косноязычие, коробили их грубые привычки. А стоит напомнить, что английский трудовой люд тогда был в очень боевом настрое. Шли крупные угольные забастовки, шахтеры виделись исчадьем ада, и пожилые леди перед сном заглядывали под кровать, боясь, не прячется ли там злодейский Роберт Смилли[189]189
Смилли, Роберт (1857–1940) – лидер профсоюзного движения британских горняков.
[Закрыть]. Всю войну и некоторое время после нее на шахтах не хватало рабочих и заработки были высоки, теперь же ситуация ухудшилась так резко, что горняки восстали. Воевавшие, которых в армии держали соблазном радужных послевоенных перспектив, вернулись домой, где не оказалось ни работы, ни хотя бы жилья. Кроме того, бывшие воины возвращались с чисто солдатским – вольным, несмотря на армейскую дисциплину, отношением к жизни. Бурлили возмущенные чувства. Не забыть тогдашней песенки с припевом:
Только то из прежнего отыщешь,
Что богач кует деньгу, бедняк – детишек.
И удачи не видать
Ни чуточки,
А зато какая нам досталась шуточка!
Народ еще не привык разгонять скуку безработных дней бесконечными чашками чая. Люди все-таки еще ждали того счастливого житья, за которое сражались в окопах, и откровенная вражда к благополучной культурной публике выражалась даже острее прежнего. Оглядываясь назад, мне вспоминается, что половину времени я обличал капитализм, а половину – ярился на неслыханно дерзких водителей автобусов.
Мне не исполнилось и двадцати, когда я отправился в Бирму служить в индийской Имперской военной полиции. На такой дальней «заставе империи» классовый вопрос вроде бы потерял актуальность. Критерий явной социальной розни там отсутствовал: первостепенную важность имело не то, учился ли ты в благородной школе, а то, достаточно ли бела твоя кожа. Фактически большинство белых не являлись бы «джентльменами» в Англии, но кроме рядовых солдат и нескольких невнятных личностей все жили самым джентльменским образом (то бишь держали слуг и называли вечернюю трапезу «обедом»), и местным обществом британцев рассматривались как единый класс – класс «белых людей», резко возвышавшийся над классом «аборигенов». Однако этот смуглый низший класс воспринимался иначе, чем пролетарии на английской земле. Существенным моментом было отсутствие физической брезгливости к «аборигенам», во всяком случае бирманцам. Смотрели на них свысока и, тем не менее, охотно допускали теснейший бытовой контакт; предрассудков на этот счет не я не заметил даже у закоренелых ревнителей цвета кожи. Имея много слуг, ты быстро привыкаешь к барской лени, и я, например, позволял бирманскому бою одевать, раздевать себя, хотя не вынес бы прикосновений английского лакея. Эмоционально я ощущал бирманцев как неких нянюшек. Подобно большинству народов, жители Бирмы источают свой запах – трудно описать его, от него словно покалывает зубы, – но этот запах ничуть не казался мне отвратительным. (Кстати, мы тоже для людей Востока пахнем весьма специфично. Китайцы, как я знаю, говорят, что от белого человека несет трупом. Бирманцы тоже так считают, хотя у них хватало учтивости не сообщать об этом мне). Определенным образом я даже ощущал свою ущербность: ведь если смотреть в лицо фактам, внешними данными азиаты превосходят европейцев. Сравните гладкую как шелк кожу бирманца, которая с возрастом лишь тускнеет, но остается тугой, – и шершавую, дряблую, морщинистую кожу белого человека за сорок лет. У белого мужчины на голенях, запястьях, на груди заросли безобразной густой шерсти, а у бирманца лишь кустики жестких черных волосинок кое-где в надлежащих местах, вообще же тело безволосое, да и лицо обычно безбородое. Белый почти всегда лысеет, бирманец – крайне редко, практически никогда. Зубы бирманца идеальны, хотя красноватого цвета от сока постоянно жующегося бетеля, – у белого зубы обязательно портятся и крошатся. Белый человек от рождения скроен плоховато, а уж как растолстеет, то весь в каких-то немыслимых буграх, – у азиата стройная осанка и он до старости ладно сложен. Общепризнанно, что среди белых изредка появляются особи, в молодые годы блистающие несравненной красотой, но в целом, что ни говори, восточные люди миловиднее. Впрочем, об этом я не задумывался, обнаружив, что «аборигены» намного симпатичнее противных английских «низших классов». Мышление мое тогда не выходило за рамки рано и прочно усвоенных предубеждений. На короткое время меня, двадцатилетнего, прикомандировали к армейскому Британскому полку. Конечно, я искренне восхищался рядовыми солдатами, как всякий юнец восхищается крепкими, бодрыми парнями, которые на пять лет старше и чья грудь увешана боевыми медалями. И все же мнилось что-то противное в них, парнях из «простого люда», сближаться с ними отнюдь не тянуло. По утрам, когда отряд отправлялся на марш, а мы с младшим лейтенантом топали сзади, от испарений сотни разогретых жарой тел у меня сводило кишки. Абсолютная, как вы понимаете, предвзятость. Физически солдат благополучен, насколько это вообще возможно для белого мужчины. Он молод и, благодаря постоянным тренировкам на свежем воздухе, здоров, строгая дисциплина понуждает его к чистоте и опрятности. Но мне чудилось иное. Я знал, что впереди шагает разящий потом низший класс, и от сознания этого меня подташнивало.
Процесс истребления (по крайней мере, убавления) моего социального снобизма шел исподволь, растянувшись на несколько лет. Изменить отношение к проблеме классов помогли моменты, напрямую с этим не связанные, даже, казалось бы, посторонние.
Проведя пять лет офицером полиции в Бирме, я под конец возненавидел империализм, которому служил, с неописуемой яростью. В свободной атмосфере Англии этого до конца не понять. Чтобы по-настоящему возненавидеть империализм надо побыть его частью. Со стороны британские порядки в Индии (или, скажем, французские в Марокко, голландские на Борнео) видятся логичными, доброжелательными, плодотворными, и они действительно таковы: под управлением иностранцев коренному населению обычно живется лучше, чем под властью соплеменников. Но став участником системы, неизбежно придешь к признанию ее незаконной тиранией. Самому толстокожему английскому сахибу это прекрасно известно. Каждое туземное лицо на улице заставляет почувствовать себя вломившимся чудовищем. И большинство британцев в Индии вовсе не так уверены насчет своих позиций, как полагают в Англии. От совершенно неожиданных персон, от проспиртованных джином старых бандитов из верховной администрации мне доводилось слышать фразы типа: «Зря, нас, конечно, принесло в эту треклятую страну. Но раз уж мы здесь, надо, черт возьми, держаться». В наше время никто уже не верит, что есть право вторгаться в чужие страны и силой подчинять народы. Иностранный гнёт – зло значительно более явное и понятное, чем притеснение экономическое. Привычно допуская наш грабеж заморских территорий ради того, чтобы полмиллиона бездельников купались в роскоши, мы на своей земле бились бы до последнего против каких-нибудь китайских захватчиков. Так что даже праздная публика, без малейших угрызений совести живущая чужим трудом, достаточно ясно ощущает, как несправедливо было явиться с другого конца света и против воли людей завладеть их странами. В итоге индийского британца непременно преследует чувство вины, которое он тщательно скрывает, ибо свобода слова не допускается, любое нелояльное замечание может испортить карьеру. По всей Индии полно англичан, втайне ненавидящих и систему, и свое в ней участие, но только изредка, в абсолютно надежной компании позволяющих прорваться накипевшему чувству. Помню, однажды ночью мне случилось ехать в поезде с человеком из департамента образования (имени незнакомца я так никогда и не узнал). Жара не давала уснуть, и мы всю ночь проговорили. Полчаса осторожных расспросов убедили каждого из нас, что собеседник «безопасен», после чего мы до утра, пока поезд медленно тянулся сквозь непроглядный мрак, попивали пиво и проклинали Британскую империю – проклинали от души, всем сердцем и разумом. Нам было замечательно. Но болтали мы о вещах запрещенных и под утренним ярким солнцем, когда поезд вполз в Мандалай, распрощались виновато, как согрешившие любовники.
Насколько мне удалось заметить, всех белолицых служащих в Индии временами мучает совесть. Исключение составляют те, кто занят делом нужным стране независимо от присутствия либо отсутствия британцев: врачи, инженеры, специалисты лесного хозяйства. А я служил в военной полиции, то есть был активно действующим элементом деспотического режима. К тому же, в полиции напрямую сталкиваешься с имперской гнусностью, и есть большая разница: просто качать из страны деньги или исполнять грязную работу. Большинство людей за смертную казнь, но сами в палачи бы не пошли. Даже бирманские европейцы косо посматривали на людей из полиции, зная их зверские приемы. Помню, я инспектировал полицейский пост, и туда по какому-то поводу зашел знакомый мне американский миссионер. Подобно большинству миссионеров пуританских сект, это был совершеннейший осел, хотя довольно славный малый. Один из моих туземных подчиненных как раз измывался над арестованным (сцена эта у меня описана в романе «Дни в Бирме»). Понаблюдав происходящее, американец повернулся ко мне и задумчиво сказал: «Да-а, не хотелось бы служить на вашем месте». Меня прожгло стыдом. Хорошеньким же дельцем я занимаюсь! Даже американский миссионер, туполобый девственник-трезвенник со Среднего Запада, имеет основания снисходительно меня жалеть! Ощущение позора продолжало преследовать и тогда, когда рядом не было свидетелей, готовых устыдить. Во мне стало нарастать непередаваемое омерзение ко всей машине так называемого правосудия. Как ни крути, сама система наказаний (в Индии, между прочим, гораздо более гуманная, чем в Англии) – жуткая штука. Ей требуется персонал чрезвычайно нечувствительный. Жалкие заключенные в вонючих тюремных клетках, серые покорные лица осужденных на долгий срок, шрамы на ягодицах провинившихся, выпоротых бамбуком, вой женщин и детей, когда уводят их родича, – подобные вещи невыносимы, если ты непосредственно причастен ко всему этому. Однажды мне довелось официально присутствовать на казни через повешение, и впечатление было – процедура эта хуже тысячи разбойных убийств. Входя в тюрьму, мне каждый раз казалось (чувство, знакомое многим посетителям тюрем), что мое место по ту сторону решетки. Я думал – и продолжаю думать, – что самый страшный преступник нравственно выше судьи, приговаривающего к виселице. Но, разумеется, такого рода мысли приходилось таить в себе, поскольку на Востоке англичанин вынужден хранить молчание. В конце концов, я выработал анархистскую теорию, согласно которой всякая государственная власть есть зло и наказание приносит вреда больше, чем преступление, а если человеку доверять и не начальствовать над ним, он будет вести себя прилично. Эту сентиментальную чушь я давно оставил. Конечно, мирных людей нужно защищать от насилия. Всюду, где существует криминал ради выгоды, необходимо иметь суровый закон и применять его безжалостно; альтернатива – Аль Капоне. Но тот, кому положено выносить, исполнять приговоры, все-таки непременно почувствует наказание как зло. Не сомневаюсь, даже в Англии многих судей, работников полиции и тюрем нередко посещает тайный ужас из-за того, что они вытворяют. А наш гнет в Бирме был двойным: мы не только казнили людей, сажали их в кутузку и т. п., мы это делали, будучи интервентами, оккупантами. И до самих бирманцев смысл нашей юрисдикции не доходил. Посаженный в тюрьму вор не считал себя справедливо наказанным уголовником, он себя видел только жертвой чужеземных захватчиков, а примененные к нему меры – свирепым произволом. Лица за толстыми тиковыми брусьями полицейских камер или железными прутьями тюремных решеток так ясно об этом говорили. Увы, я не научился равнодушно воспринимать выражение человеческих лиц.
Отправляясь в 1927 году домой в отпуск, я уже всерьез подумывал бросить офицерскую службу, и, вдохнув английского воздуха, решился – не вернулся обслуживать адский деспотизм. Но мне хотелось большего чем просто скинуть форму. На протяжении пяти лет я был сотрудником репрессивной системы, и это подарило мне больную совесть. Впечатанные в память бесконечные лица – лица обвиняемых на скамье подсудимых, лица приговоренных в камере смертников, лица подчиненных, над которыми я куражился, лица старых крестьян, с которыми обходился пренебрежительно, и слуг, которых в минуты гнева учил кулаком (каждый на Востоке хоть изредка позволяет себе такое: восточные люди весьма способны спровоцировать), – нещадно терзали меня. Сознание огромной вины требовало искупления. Эмоции чрезмерные, но вы попробуйте годами делать нечто, что лично для вас неприемлемо, и, вероятно, исполнитесь тех же чувств. Я все упростил до идеи: угнетенный всегда прав, а угнетатели всегда не правы, – наивно и неверно, но естественно после того, как сам являлся одним из угнетателей. Созрела мысль бежать не только от империализма – от любой формы превосходства человека над человеком. Я хотел опуститься, оказаться на самом дне, среди жертв и вместе с ними против тиранов. Думы мои вынашивались в глухом одиночестве, благодаря чему ненависть к угнетению достигла степени невероятной. Единственно достойным мной был признан отказ от жизненных успехов. Любой намек на стремление «преуспеть», иметь хотя бы несколько сот годовых, казался духовным уродством, видом подлости.
И вот тогда мое внимание привлек английский рабочий класс. Впервые я задумался о нем и только потому, что обнаружил некую аналогию. Пролетариат символизировал жертву несправедливости, подобно угнетаемым бирманцам. Антитеза в Бирме была крайне проста: белые наверху, темнокожие внизу; и я, понятное дело, сочувствовал темнокожим. Теперь выяснилось, что эксплуататорство и тиранию не обязательно искать так далеко. На родине, под боком имелся угнетенный класс, терпевший муки и лишения, по-своему не менее жестокие, чем имперские притеснения на Востоке. Со всех уст не сходило слово «безработица». Для меня это после Бирмы было довольно ново, однако постоянное кудахтанье среднего класса («все эти безработные просто бездельники…») меня не обмануло. Я часто думал: верят ли себе даже болваны, несущие такую дичь? Но никакого интереса к социализму, к его экономической теории я в те дни не испытывал. Мне казалось – порой, честно сказать, кажется и сейчас, – что экономический грабеж прекратится, как только нам по-настоящему захочется его прекратить, и при горячем, искреннем желании с ним покончить метод едва ли очень важен.
О жизни рабочего класса я не знал ничего. Изучал цифры безработицы, но что стоит за ними, понятия не имел. Во-первых, мне было неведомо, что худший вид бедности есть бедность «приличная». Жуткий крах выброшенного на улицу достойного честного труженика, его отчаянная битва с непонятным и всесильным законом экономики, распад семейства, разъедающий душу позор, – все это было за пределами моего опыта. Бедность мне виделась как лютый голод и грязные лохмотья. Соответственно, сознание устремилось к наиболее очевидным изгоям общества: бродягам, нищим, проституткам, криминальным элементам. «Низшие из низших» – вот с ними мне хотелось быть. Страстно мечталось вообще уйти из респектабельного мира. Я много размышлял на эту тему, планировал, как все продам, раздам, изменю имя и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из старых обносков… В жизни, однако, так не получается. Кроме необходимости принять во внимание родных и близких, сомнительно, что образованный человек сможет выбрать такую участь в спектре открытых ему путей. Но все-таки возможно было пожить среди отверженных, узнать, каков их быт, на время стать частицей их мира. Вот я отправлюсь к ним, и меня примут, и я там окажусь на самом дне, и – так я ощущал, хоть сознавал всю неразумность ощущения, – доля вины с меня спадет.
Определив курс, я наметил порядок действий. Пойду, надлежащим образом переодевшись, в Лаймхаус, Уайтчепел или иной скверный лондонский район, устроюсь спать в ночлежке, заведу у доков знакомство с грузчиками, нищими лоточниками, попрошайками и даже, может, уголовниками. Разузнаю насчет бродяг: как присоединиться к ним, как попадают в специально созданные для бродяг ночные полутюремные приюты и т. п., а затем, набравшись необходимых знаний, сам отправлюсь бродяжничать.
Вначале было нелегко. Требовалось притворяться, а у меня ни капли актерских талантов. Я не умею, например, скрывать свой выговор, во всяком случае, долее пары минут. И поскольку мне представлялось (вот оно, наше классовое сознание!), что, едва я открою рот, во мне узнают «джентльмена», для недоверчивых была сочинена история о моих злоключениях. Убедительное тряпье я приобрел, тщательно загрязнил в нужных местах, и, хотя мой неподходящий рост[190]190
В произведениях Оруэлла неоднократно встречается замечание о том, что классовую принадлежность англичанина легко определить по его росту: долговязые представители буржуазии заметно отличаются от низкорослых, коренастых пролетариев.
[Закрыть] не спрячешь, я, по крайней мере, уже знал, на кого должен походить. (Кстати, как мало людей это знают; взгляните на любое изображение бродяги в «Панче», – всегда типаж двадцатилетней давности). Итак, однажды вечером, переодевшись в доме у приятеля, я вышел и побрел в восточном направлении, дойдя наконец до какой-то припортовой ночлежки в Лаймхаусе. Местечко выглядело довольно угрюмо. Ночлежка обнаружилась вывеской в окне: «Отличные койки для одиноких мужчин». Господи, как пришлось подхлестнуть свою отвагу, чтобы переступить порог! Теперь смешно, но я ведь, знаете ли, еще побаивался пролетариев. Хотелось найти контакт с ними, хотелось даже стать одним из них, и все-таки они казались опасными иноземцами. Темный дверной проем виделся входом в жуткое подземелье – нечто вроде полного крыс коллектора. Вошел я с тяжким предчувствием драки. Сейчас признают во мне чужака, решат, что я прибыл шпионить, накинутся, отдубасят и вышвырнут вон. Храбрости я набрался, но перспектива не вдохновляла.
Откуда-то изнутри появился мужчина в рубашке с засученными рукавами – «управляющий» заведения. Я сказал, что хотел бы переночевать. Никакого настороженного взгляда мой выговор не вызвал, человек просто потребовал девять пенсов и показал, где спуститься в душную подвальную кухню. Внизу пили чай, играли в шашки портовые грузчики, землекопы и несколько матросов. На меня, вошедшего, компания лишь мельком глянула. Но дело было поздним субботним вечером, по комнате мотался напившийся молодой здоровяк. Мой приход привлек его внимание, он шатнулся ко мне, глаза на его мясистом багровом лице блеснули угрозой и подозрением. Я напрягся: драка не заставила себя ждать. В следующий момент здоровяк кинулся мне на грудь и обхватил ручищами за шею: «Чайку испей, браток! – жалостливо взрыдал он. – Испей чайку!».
Я выпил чашку чая. Состоялось своего рода крещение. Страхи мои исчезли. Никто не подвергал сомнению мою личность, не донимал назойливым любопытством; все были вежливы, милы и принимали меня запросто, с полным доверием. Дня три я оставался в той ночлежке, а через несколько недель, набравшись знаний касательно привычек нищего люда, ушел в свой первый бродяжий поход.
Об этом подробно рассказано в моей книге «Фунты лиха в Париже и Лондоне» (практически все описанные эпизоды действительно имели место, только иначе скомпонованы), не стоит повторяться. Позднее я подолгу – порой по желанию, порой по необходимости – скитался и бродяжил, месяцами жил в ночлежках. Но та первая экспедиция прочнее всего в памяти, – так странно, просто фантастично было в самом деле оказаться на дне, среди «низших из низших», на равных с пролетарским людом. Бродягу, правда, не назвать типичным пролетарием; а все-таки среди бродяг ты слит с определенной группой, низшей кастой рабочего класса, и подобного единения другим путем, насколько мне известно, не добьешься. Несколько дней я бродяжил по северным предместьям Лондона вместе с одним ирландцем. На время мы стали закадычными приятелями, ночевали вдвоем в камере приюта для бродяг, он мне поведал свою историю, а я ему, фиктивную, свою. Мы клянчили объедки у внушавших надежду дверей и честно делились добычей. Я был ужасно счастлив – удалось! Я наконец в самом презренном, нижайшем геологическом слое стран Запада! Классовый барьер рухнул (или казался рухнувшим). И там, в том жалком, бесприютном, по сути чрезвычайно скучном, бродяжьем мирке я испытал такое облегчение, что, хоть сегодня эта авантюра видится мне нелепой, переживания были весьма впечатляющие.
10
Дружба с бродягами помогает избавиться от многих предрассудков, но межклассовую проблему этим, к сожалению, не решить.
Бродяги, попрошайки, уголовники и прочие социальные отщепенцы – публика чрезвычайно специфичная, для пролетариата характерная не больше чем писательская интеллигенция для буржуазии. Довольно просто найти общий язык с заграничным «интеллектуалом», и очень нелегко – с иностранным обывателем средних слоев. Много ли англичан видели домашнюю обстановку французской рядовой буржуазной семьи? Разве что на свадебном торжестве, по-другому практически невозможно. Нечто подобное и относительно британского рабочего класса. Не составляет труда задушевно сойтись с воришкой, если знаешь, где с ним встреться, однако крайне сложно стать душевным другом каменщика.
Но отчего столь просто быть на равных с люмпенами? Мне часто говорили: «Бродяги, безусловно, сразу видят, что вы не из них? Они, конечно, сразу замечают, что у вас иные манеры, совсем иная речь?». Должен сказать, немалая часть, добрая четверть бродяг не замечает ничего. Во-первых, многим людям свойственно определять человека по одежде, не вслушиваясь в его произношение. Мне неоднократно доводилось с этим сталкиваться, когда я выпрашивал куски у задних дверей. Кое-кто был удивлен моей «культурной» речью, большинство же видело лишь то, что я грязный и рваный. Во-вторых, бродяги стекаются отовсюду, а диалектов на британских островах изрядно, речь некоторых бродяг необычна, едва понятна для других, и пришедший из Дархема, Кардиффа или Дублина может не различать, какой южноанглийский выговор является «культурным», какой нет. К тому же «образованные» очень редко, но встречаются среди бродяг. И даже если вдруг станет известно о твоем чуждом происхождении, отношение к тебе вряд ли изменится, поскольку для этой компании важно одно – ты, как и все тут, «в заднице». Притом чересчур лезть с вопросами не принято. Захочется, можешь попотчевать людей своей историей (и большинство бродяг, получив хоть малейший повод, охотно это делают), но понуждать к рассказам о себе никто не будет и всякий твой сюжет сочтут достаточным. Даже епископ, обрядившись соответственно, мог бы стать своим в босяцком кругу; ему даже не надо было бы скрывать епископский ранг при условии, что бродяги полагали бы его лишенным духовного сана дерзким отступником. Когда ты топаешь с бродягами и внешне от них не отличаешься, спутников твоих мало интересует, кем тебе доводилось прежде быть. Этот особый, отринутый от мира мирок, где все равны, действительно демократичен, – возможно, к демократии он ближе, чем что-либо иное в Англии.
С обычными пролетариями ситуация совершенно другая. Ну, для начала, быстро и просто в их среду не попадешь. Надень старье, пойди в ближайший бродяжий приют, и ты уже бродяга, но грузчиком или шахтером тебе не стать. Этой работы, даже если сил хватает ее выполнять, ты не получишь. Участие в левом движении позволит наладить тесный контакт с рабочей интеллигенцией, но для широких пролетарских масс эти товарищи не намного типичнее бродяг или карманников. Остается такой путь, как проживание квартирантом в домах пролетариев, что, впрочем, сильно смахивает на филантропические посещения трущоб. Несколько месяцев подряд я жил в шахтерских семьях. Ел за одним столом с членами семьи, спал на одной из их кроватей, умывался над их кухонной раковиной, пил с ними пиво, метал стрелки в картонную мишень, часами напролет беседовал. Но, хотя я находился среди них и, надеюсь, не был им неприятен, своим я все-таки не стал, и они это сознавали еще лучше меня. Сколь бы ты не симпатизировал им, сколь бы интересными не находил беседы с ними, всегда той чертовой горошиной под периной принцессы чувствуется сквознячок классовых различий. Не отвращение или неприязнь, всего лишь некое различие – и уже по-настоящему не сблизиться. Даже с шахтерами, считавшими себя коммунистами, потребовались деликатные маневры, чтобы они не называли меня «сэр», и все они всегда, кроме моментов особенного оживления, старались ради меня смягчать их грубоватый северный говор. Они мне нравились, ко мне, кажется, тоже относились искренне и сердечно, и все-таки я там ходил как иностранец, что всеми нами превосходно ощущалось. Какие пути не изыскивай, проклятие классовых различий встает между вами каменной стеной. Ладно, пускай не каменной стеной – тонкой стеклянной стенкой аквариума; прозрачной перегородкой, которую так легко не замечать и сквозь которую никак не проникнуть.
К сожалению, в наши дни модно делать вид, что это стекло проницаемо. Разумеется, все в курсе относительно существования классовых предрассудков, однако каждый утверждает, что лично он неким таинственным образом совершенно от них избавлен. Снобизм как раз из тех пороков, которые отлично видятся в других и никогда – в самих себе. Не только верой и правдой исповедующие социализм, но любой «интеллектуал» уверенно полагает себя абсолютно непричастным к подлой классовой розни: уж он-то в отличие от окружающих способен воспринимать реальность вне таких глупостей, как деньги, чины, звания, положение и т. п. «Я не сноб» сделалось универсальным кредо. Кто нынче не глумится над Палатой лордов, армейской кастой, королевской фамилией, закрытыми школами, любителями верховой охоты, пансионами старых леди и джентльменов, сельским «светским» обществом и вообще над социальной иерархией? Позиция обязательная, принимается почти автоматически. Особенно это заметно в романах. Претендующий на серьезное направление романист, живописуя высший класс, настроен непременно иронически. Образ какого-нибудь пэра или баронета рисуется с насмешкой почти инстинктивной. Для подобной стилистики есть дополнительное основание – бедность современного культурного языка. Речь «образованных» людей сделалась столь бесцветной и безжизненной, что у романистов возникла проблема. Легче всего ее решить, подхлестнув юмористичность до степени фарса, то бишь изображая всякого представителя высших классов непроходимым тупицей. Прием понравился, распространился и стал употребляться практически рефлекторно.
А все же любой из нас в глубине души знает, что это чепуха. Все мы браним классовые отличия, но очень немногие всерьез хотели бы их упразднить. И становится очевидным тот существенный факт, что революционность взглядов отчасти проистекает из прочной тайной уверенности в неизменном порядке вещей.
Желающим получить яркую иллюстрацию этого стоит проштудировать романы и пьесы Джона Голсуорси, держа в уме даты его произведений. Голсуорси – образец сверхчувствительного, со слезинкой, довоенного гуманиста. Начинает он комплексом болезненной жалости вплоть до мысли, что каждая замужняя дама это ангел, прикованный к сатиру. Его постоянно сотрясает гневная дрожь из-за страданий переутомленных клерков, малоимущих фермерских рабочих, падших светских женщин, несчастных преступников, проституток и животных. Мир, как явствует из его книг (романы «Собственник», «Правосудие» и пр.), четко делится на угнетателей и угнетенных, причем угнетатели царят, подобно гигантским каменным идолам, сокрушить которых невозможно всем земным запасом динамита. Однако впрямь ли автору так хочется их свергнуть? О нет, в битве с несокрушимой тиранией опорой ему служит именно сознание этой несокрушимости. Когда же, совершенно неожиданно, привычный порядок начинает рассыпаться, его охватывают несколько иные чувства. Тогда, отбросив свое чемпионство в драке мопса со слоном тирании и беззакония, он устремляется к защите той позиции (см. роман «Серебряная ложка»), что излечившихся от былой немощи пролетариев массово, как гурты скота, следует высылать в колонии. Проживи Голсуорси еще десяток лет, он, вполне вероятно, пришел бы к некоей благородной версии фашизма. Неизбежная судьба сентиментальных гуманистов. При первом же столкновении с реальностью все их убеждения изменяются диаметрально.
Той же начинкой лицемерия обычно горчит слоеный пирожок «передовых» взглядов. Возьмем, допустим, империализм. Всякий левый «интеллектуал», естественно, антиимпериалист. От имперского вымогательства он открещивается столь же автоматично и самодовольно, как от вымогательства классового. Даже интеллектуалы правого толка, определенно не борцы с британским империализмом, считают нужным кинуть со стороны брезгливо-удивленный взгляд. И как легко дается здесь остроумие: бремя белого человека, «Правь, Британия», сочинения Киплинга, занудливые бывшие сахибы – ну кто способен упомянуть об этом, не хихикнув? Ну а, с другой стороны, какой культурный человек хоть раз в жизни не повторил анекдот насчет старого солдата-индуса, сказавшего, что в Индии, если британцы ее покинут, от Дели до Пешавара не останется ни девственниц, ни рупий? Таково отношение левых к империализму, – отношение вялое, абсолютно безвольное. А это вопрос самый главный: вы за единство или за распад Империи? И в глубине души никакой англичанин (и менее всего любители высмеивать сахибов) не желает ее развала. Кроме всего прочего, ублажающий нас довольно высокий уровень жизни напрямую зависит от прочно припаянных колоний, особенно наших тропических колоний в Индии, Африке. Чтобы Англия могла жить относительно комфортно, сотни миллионов индусов должны жить на грани голода, – ах, как жесток этот капитализм! Но каждый раз, садясь в такси или наслаждаясь земляникой со сливками, вы молчаливо признаете существующий режим. Альтернатива – скинуть за борт имперские дела, сократив британскую территорию до холодного островка, на котором нам всем придется крепко вкалывать, питаясь, в основном, селедкой и картофелем. Это последнее, чего желает представитель левого фланга, и он же продолжает ощущать, что лично не несет никакой моральной ответственности за империализм. Охотно принимает дары Империи, замаливая грех глумлением над охранителями имперской системы.








