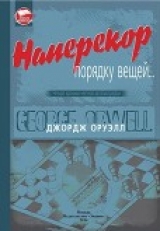
Текст книги "Наперекор порядку вещей... (Четыре хроники честной автобиографии)"
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
Вот так крысы,
Ростом с кошку,
В интендантстве завелись!
В Ла Гранхе крысы действительно напоминали размерами котов; большие, разжиревшие, они бродили по горам мусора, обнаглев до того, что разогнать их можно было только выстрелами.
Наконец-то на дворе установилась весна. Небесная синева стала нежнее, воздух вдруг пропитался пряным ароматом. В канавах шумно спаривались лягушки. Возле водопоя, куда водили мулов всей деревни, я нашел изящных зеленых лягушат, размером с маленькую монетку, такого яркого цвета, что молодая трава блекла рядом с ними. Деревенские ребятишки отправлялись с ведрами ловить улиток, которых они жарили живьем на кусках жести. Как только погода установилась, крестьяне вышли в поле на весеннюю пахоту. Испанская аграрная революция – явление настолько непонятное, что мне так и не удалось выяснить, была ли земля обобществлена или крестьяне просто разделили ее между собой. Думаю, что теоретически землю обобществили, поскольку верховодили здесь P.O.U.M. и анархисты. Во всяком случае, помещиков не было, земля обрабатывалась, народ казался довольным. Дружелюбие крестьян по отношению к нам не переставало меня удивлять. Тем из их числа, кто постарше, война должна была представляться бессмысленной; она принесла с собой нехватку самого необходимого и ужасающе скучную жизнь для всех. Кроме того, крестьяне и в лучшие времена не любят, когда в их деревнях расквартировывают солдат. И тем не менее, они относились к нам неизменно дружелюбно, понимая, видимо, что хотя мы и невыносимы кое в чем, мы стоим между крестьянами и бывшими их помещиками. Гражданская война явление несуразное. Хуэска лежала менее чем в десяти километрах от деревни. В Хуэску крестьяне ездили на рынок, там у них были родственники, туда каждую неделю в течение всей своей жизни они отправлялись торговать птицей и овощами. А теперь вот уже восемь месяцев непреодолимый барьер колючей проволоки и пулеметного огня лежал между ними и городом. Случалось, что они забывали об этом. Однажды я спросил у старушки, несшей маленькую железную лампу, из тех, которые наполняют оливковым маслом: «Где я могу купить такую лампу?» – «В Хуэске», – ответила она не задумываясь и мы оба рассмеялись. Деревенские девушки, очаровательные созданья с угольно-черными волосами и танцующей походкой, вели себя очень откровенно и непосредственно, что тоже, вероятно, было результатом революции.
Мужчины в потрепанных голубых рубашках и черных вельветовых штанах, в широкополых соломенных шляпах, шли за плугами, которые тащили упряжки мулов, ритмично шевеливших ушами. Жалкие плуги едва царапали землю, не оставляя за собой ничего похожего на настоящую борозду. Все сельскохозяйственные орудия местных крестьян безнадежно устарели, что объясняется прежде всего дороговизной металла. Когда ломался, например, лемех, его латали, потом латали снова, и так до тех пор, пока на нем не оставалось живого места. Грабли и вилы делались из дерева. Крестьяне, редко носившие башмаки, не знали лопаты; они копали землю неуклюжей мотыгой, вроде тех, которыми пользуются в Индии. Здешняя борона видимо не изменилась со времен каменного века. Эти бороны, величиной с кухонный стол, сколачивались из досок, в которых выдалбливались сотни дырочек, а в каждую из дырочек вставлялся кремень, обтесанный точно таким же способом, каким обрабатывали камень десять тысяч лет назад. Помню, что я почувствовал нечто вроде ужаса, увидев впервые это орудие в брошенной хижине на ничьей земле. Я долго рассматривал его, прежде чем до меня дошло, что это борона. Мне стало дурно при мысли о том, сколько труда нужно вложить, чтобы сделать такую штуку, от сознания бедности, заставлявшей пользоваться кремнем вместо стали. С того времени я стал относиться гораздо более доброжелательно к промышленному развитию. В деревне были и два современных трактора, видимо отобранных у крупного помещика.
Раза два я дошел до маленького огороженного кладбища, лежавшего примерно в миле от деревни. Убитых на фронте обычно отвозили в Сиетамо; здесь же лежали деревенские покойники. Странное кладбище, совсем непохожее на английское. Никакого почтения к мертвым! – Все заросло кустами и жесткой травой, всюду валяются человеческие кости. Но особенно удивило меня полное отсутствие религиозных надписей на могильных камнях, хотя все они были поставлены до революции. Только один раз, кажется, я здесь обнаружил столь обычную для католических кладбищ надпись: «Молитесь за душу такого-то». Большинство надписей носило совершенно мирской характер, много было шутливых стихов, восхвалявших добродетели усопшего. Крест или беглое упоминание о небе попадались на одной из четырех-пяти могил, но и их почти всюду сбил долотом какой-то ревностный безбожник.
Народ в этой части Испании, как мне показалось, совершенно лишен религиозных чувств, – я имею в виду ортодоксальную религиозность. Любопытно, что за все время моего пребывания в Испании, я ни разу не видел крестившегося человека, а ведь это движение, казалось бы, должно стать машинальным, не зависящим от революции. Конечно, испанская церковь вернется к жизни (есть поговорка – ночь и иезуиты всегда приходят снова), но так же очевидно, что с началом революции она совершенно рухнула. Такое, думаю, не могло бы приключиться в подобных обстоятельствах даже с умирающей англиканской церковью. Для испанского народа, во всяком случае для Каталонии и Арагона, церковь – это просто-напросто обман. Христианскую веру, возможно, в какой-то степени заменил анархизм, широко распространившийся и несомненно имеющий религиозную окраску.
В тот день, когда я вернулся из госпиталя, мы передвинули наши окопы примерно на тысячу метров вперед, где им полагалось быть и раньше, и заняли позиции на берегу небольшого ручья, в нескольких сотнях ярдов от фашистов. Эту операцию следовало провести несколько месяцев назад; теперь ее цель была отвлечь часть сил противника и помочь анархистам, атаковавшим дорогу на Яку.
Мы не спали шестьдесят или семьдесят часов, и события вспоминаются сквозь туман, точнее отдельными картинками. Я помню, что мы подслушивали разговоры противника на ничьей земле, в сотне метров от Каза Франчеза, крестьянского дома, превращенного в часть линии фашистской обороны; семь часов сряду мы лежали в вонючем болоте, мокли в пропахшей камышами воде, чувствуя, как тело погружается все глубже и глубже. Память сохранила запах камыша, леденящий холод, неподвижные звезды в черном небе, хриплое кваканье лягушек. Стоял уже апрель, но я не помню в Испании ночи холоднее. Хотя всего в ста метрах позади нас рылись окопы, стояла полная тишина, нарушаемая лишь хором лягушек. Только один раз в течение всей ночи я услышал посторонний звук, – знакомое шлепанье лопаты, трамбующей мешок с песком. Как это ни странно, время от времени испанцы вдруг проявляют чудеса организованности. За семь часов шестьсот человек отрыли тысячу двести метров траншей, защищенных бруствером и сделали это так тихо, что фашисты не слышали ни одного звука, хотя они были на расстоянии всего 150–300 метров. В течение ночи мы потеряли только одного человека. На следующий день, конечно, потери возросли. Каждый боец точно знал, что ему нужно делать, а как только работа была закончена, сразу же явились разносчики пищи с бурдюками вина, в которое был подмешан коньяк.
Потом рассвело и фашисты внезапно обнаружили нас прямо под своим носом. Мы находились в двухстах метрах от Каза Франчеза, но казалось, что ее квадратное белое строение нависало прямо над нами, а пулеметы, видневшиеся в заложенных песком верхних окнах, были наведены точно на наши окопы. Мы глазели на Каза Франчеза, удивляясь, почему фашисты нас не замечают, как вдруг брызнул бешеный град пуль. Все попадали на колени и начали яростно окапываться, углублять траншею, рыть боковые лисьи норы. Поскольку моя рука все еще была в перевязке и копать я не мог, я провел большую часть дня за чтением детективного романа «Пропавший ростовщик». Содержания книги я не помню, но очень живо вспоминаются все ощущения, которые сопровождали чтение: мокрая глина на дне окопа, я все время убираю ноги, о которые спотыкаются люди, пробегающие мимо меня, визг пуль над самой головой. Томас Паркер был ранен навылет пулей в бедро, что, как он заявил, совсем не входило в его расчеты. Мы несли потери, но их нельзя было даже сравнить с тем потерями, которые мы могли иметь, если бы фашисты обнаружили нас ночью. Позднее мы узнали от дезертира, что пять фашистских часовых было расстреляно за халатность. Но даже и сейчас они могли нас всех перестрелять, если бы догадались подтащить несколько минометов. Очень неудобно было выносить раненых по узким, тесным трап-шеям. Я видел, как вываливался из носилок и задыхался в агонии солдат в черных от крови бриджах. Раненых нужно было нести километра полтора, а то и больше, ибо санитарные машины никогда не подъезжали близко к фронтовой линии, даже когда к ней вела дорога. Если же санитарные машины приближались к передовой, то фашисты били по ним из пушек, с некоторым, впрочем, основанием, ибо в современной войне никто не подумает дважды, прежде чем использовать санитарные машины для подвозки боеприпасов.
На следующую ночь мы ждали в Торре Фабиан приказа атаковать. Приказ об отмене атаки был передан в последнюю минуту по рации. Мы ждали в амбаре, сидя на мякине, тонким слоем покрывавшей груды перемешанных человеческих и коровьих костей. Амбар кишмя кишел крысами. Мерзкие животные выскакивали со всех сторон. Нет ничего, что я ненавидел бы больше крысы, шныряющей по моему телу в потемках. Впрочем, мне удалось наподдать одной так здорово, что она отлетела в сторону.
Ждем сигнала. В пятидесяти или шестидесяти метрах от фашистского бруствера длинная цепь людей, сидящих на корточках в оросительной канаве. В темноте видны лишь острия штыков и белки глаз. За нашей спиной сидят Копп и Бенжамен, а возле них связист с рацией на спине. На западе видны розовые вспышки орудийных выстрелов, а вслед за ними, через несколько секунд следуют мощные взрывы. Потом мы услышали потрескивание рации и отданный шепотом приказ отходить, пока не поздно. Мы отошли, но недостаточно быстро. Двенадцать несчастных парнишек из J.C.I. (Молодежной лиги P.O.U.M.; в ополчении P.S.U.C. лига называлась J.S.U.), залегших всего в сорока метрах от фашистской позиции, были захвачены рассветом врасплох и не смогли отступить. Весь день пролежали они, прикрытые лишь пучками травы, фашисты стреляли, как только замечали малейшее движение. К ночи семеро из ребят были убиты, пятерым удалось выползти с наступлением темноты.
Много дней подряд мы вслушивались в звуки боя, который вели анархисты по другую сторону Хуэски. Звуки были неизменно те же: внезапно, еще до рассвета, грохот нескольких десятков одновременно взорвавшихся снарядов – даже на далеком расстоянии дьявольский гул – и затем непрерывный рев ураганного огня из винтовок и пулеметов, тяжелый катящийся звук, странным образом напоминающий барабанный бой. Постепенно в стрельбу включались все укрепления, окружавшие Хуэску, и мы стояли, сонно прислонившись к брустверу, слушая свист пуль, бессмысленно чертивших над нами воздух.
Днем оружейная стрельба велась беспорядочно. Был обстрелян и частично разрушен Торре Фабиан, в котором теперь разместилась наша кухня. Любопытно, что если смотреть на артиллерийскую стрельбу с безопасного расстояния, то всегда хочется, чтобы цель была накрыта, даже если под огнем находится ваш обед и несколько товарищей. В это утро фашисты стреляли хорошо; возможно, за дело принялись немецкие наводчики, – они точно взяли в вилку Торре Фабиан. Первый снаряд – перелет, второй – недолет, третий накрыл цель. Взлетели взорванные балки, кусок крыши поднялся, как подброшенная игральная карта. Следующий снаряд отсек угол дома, так аккуратно, как если бы его отрезал ножом великан. Но повара приготовили обед во время – достижение немалое.
Шли дни, и мы научились различать скрытые от глаза, но зато хорошо слышимые пушки. Мы узнавали две батареи русских 75-миллиметровок, стрелявшие совсем недалеко от нас. Слыша их, я почему-то представлял себе толстого игрока в гольф, ударяющего по мячу. Это были первые русские пушки, которые мне довелось увидеть, вернее, услышать. Снаряд выходил из жерла с большой скоростью и летел низко. Поэтому до нас доходили почти одновременно звук выстрела, свист снаряда и взрыв. За Монфлорите стояли два тяжелых орудия, выпускавших по нескольку снарядов в день. Их глубокое, глухое рычание напоминало далекий рев прикованного к скале чудовища. Из средневековой крепости на горе Арагон, взятой штурмом правительственными войсками в прошлом году (говорили, что она пала впервые в истории) и защищавшей один из подступов к Хуэске, била тяжелая пушка, должно быть столетней давности. Ее грузные снаряды летели так медленно, что казалось их можно было догнать, слегка ускорив шаг. Звук снаряда почему-то больше всего напоминал свист едущего на велосипеде человека, Самый зловещий звук, несмотря на малые размеры, издавали минометы. Их снаряд представлял собой нечто вроде крылатой торпеды, величиной с литровую бутылку, похожей на стрелки с оперением, которые бросают в цель в кабачках. Металлический скрежет выстрела наводил на мысль о дьявольской кузнице, в которой ударяют по наковальне с чудовищной глыбой хрупкой стали. Иногда над нами пролетали самолеты и сбрасывали воздушные торпеды, от взрыва которых ходуном ходила земля в радиусе нескольких километров. Разрывы фашистских зениток метили небо маленькими облачками, какие можно увидеть на скверных акварелях, но ни разу они не приближались к самолету даже на тысячу метров. Когда на вас пикирует самолет, поливая позицию пулеметным огнем, внизу слышится будто биение крыльев гигантской птицы.
На нашем участке фронта было затишье. В двухстах метрах вправо от позиции, где фашисты занимали господствующую высоту, их снайперам удалось подстрелить несколько наших товарищей. Влево от нас, даже на расстоянии метров в 200, на мосту через ручей шла своеобразная дуэль между фашистскими минометчиками и бойцами, сооружавшими цементную баррикаду поперек моста. Маленькие хищные мины со свистом пролетали по воздуху и – звинг-бум! звинг-бум! Разрывы мин были оглушительны вдвойне, когда они рвались на асфальтированной дороге. В сотне метров от места взрыва можно было стоять в полной безопасности, глядя на фонтаны земли и черного дыма, тянувшиеся кверху, как волшебные деревья. Бедняги-солдаты, строившие баррикаду, большую часть дня отсиживались в лисьих норах, вырытых в стенах траншей. Но жертв было меньше, чем можно было ожидать, и баррикада неуклонно росла, превращаясь в цементную стену толщиной более чем в полметра с амбразурами для двух пулеметов и небольшой полевой пушки. Цемент, за неимением другого железа, армировался старыми кроватями.
7
Как-то вечером Бенжамен сказал, что ему нужно пятнадцать добровольцев. Было решено провести на фашистскую позицию атаку, которая была отменена в прошлый раз. Я смазал маслом мой десяток мексиканских патронов, покрыл слоем грязи штык винтовки (чтобы, поблескивая, он не выдал нас врагу), запаковал краюху хлеба, кусок красной колбасы и давно припасенную сигару, которую жена прислала мне из Барселоны. Гранат выдали по три штуки на человека. Испанское правительство сумело наконец, наладить производство приличных гранат. Она действовала по принципу гранаты Миллса, но имела не одну чеку, а две. Граната взрывалась через семь секунд после того, как вырывали обе чеки, одна из которых выходила слишком туго, а вторая – очень легко. Это был главный недостаток гранаты. У нас был выбор: оставить обе чеки на месте, рискуя тем, что в нужный момент тугая заест, либо вырвать ее заранее и ходить в постоянном страхе, что граната взорвется в кармане. Но все же это была довольно неплохая граната.
Около полуночи Бенжамен повел пятнадцать человек вниз, к горе Фабиан. С вечера беспрерывно лил дождь. Оросительные канавы переливались через край, и стоило оступиться, как вы оказывались по пояс в воде. В полной темноте, под проливным дождем притаилась темная масса людей. Копп обратился к нам сначала по-испански, а потом по-английски, разъяснив план атаки. Фашистские укрепления на этом участке были вытянуты в форме буквы Г. Нам предстояло взять штурмом бруствер, построенный на возвышенности у сгиба линии. Примерно тридцать человек, половина испанцев и половина англичан, во главе с командиром нашего батальона Хорге Рока (батальон ополчения насчитывал около 400 человек), и Бенжаменом должны были подползти к фашистским окопам и перерезать проволоку. Потом Хорге бросит первую гранату. По этому сигналу мы закидаем фашистов градом гранат, и не давая им опомниться, захватим окопы. Одновременно семьдесят бойцов Ударного батальона атакуют другую фашистскую «позицию», лежащую в двухстах метрах вправо от нас и соединенную с первой траншеей связи. Чтобы мы не перестреляли друг друга в темноте нам выдадут белые нарукавные повязки. В этот момент прибыл вестовой и доложил, что повязок нет. Раздался чей-то жалобный голос из темноты: «Пусть тогда фашисты наденут повязки».
Ждать оставалось час или два. Сеновал над стойлом для мулов был так разбит снарядами, что ходить по нему в потемках было невозможно. Половина пола была вырвана и недолго было свалиться с шестиметровой высоты на камни. Кто-то разыскал лом, вывернул из пола разбитые доски, и через несколько минут мы сидели вокруг костра, подсушивая мокрую одежду. Один из бойцов вытащил колоду карт. Разошелся слух – один из тех таинственных слухов, которыми полнится война, – что будут раздавать горячий кофе с коньяком. Мы ринулись вниз по разваливающейся лестнице и стали бродить по двору, выспрашивая в темноте, где дают кофе. Увы! Никакого кофе не было. Вместо этого нас собрали, построили в ряд, и мы зашагали вслед за Хорге и Бенжаменом, заторопившимися в ночь.
Все еще шел дождь и, не было видно ни зги, но ветер утих. Непролазная грязь. Тропинка, шедшая через свекольное поле, превратилась в сплошное месиво грязи, по которому наши ноги скользили, как по смазанному жиром столбу. Прежде чем мы добрались до исходной позиции, каждый из нас несколько раз упал, винтовки покрылись слоем грязи. В окопах ждала кучка людей – наш резерв и врач у выложенных в ряд носилок. Мы пролезли через брешь в бруствере и бултыхнулись в очередной оросительный канал. Снова вода по пояс, снова хлюпанье скользкой грязи в башмаках. Хорге ожидал на траве, пока мы все не выберемся из окопа. Потом, согнувшись в три погибели, он начал медленно красться вперед. Фашистский бруствер был от нас примерно в ста пятидесяти метрах, мы могли добраться незамеченными только передвигаясь совершенно бесшумно.
Я шел впереди вместе с Хорге и Бенжаменом. Пригнувшись до самой земли, но с поднятым лицом, мы двигались почти в полной темноте, причем, по мере приближения к цели, шаги наши делались все медленней и медленней. Дождь не сильно хлестал по нашим лицам. Оглядываясь назад, я видел ближайших ко мне бойцов – горбатые тени, напоминавшие большие черные грибы, медленно скользили вперед. Но каждый раз, как только я приподнимал голову, мой сосед Бенжамен яростно шептал мне в ухо: «Голову вниз! Голову вниз!» Я мог бы ему ответить, что беспокоиться нет нужды, зная по опыту, что в темную ночь нельзя увидеть человека на расстоянии двадцати шагов. Значительно важнее было идти тихо. Услышь нас фашисты, им достаточно было бы нажать на гашетку пулемета, чтобы обратить нас в бегство или перестрелять всех до одного.
Но идти тихо по размокшему грунту было почти невозможно. Как мы ни старались, наши ноги вязли в грязи и каждый шаг сопровождался хлюпаньем. На беду ветер стих и, несмотря на дождь, стояла совсем тихая ночь. Звуки разносились далеко. Вдруг я пнул консервную банку и в ужасе подумал, что все фашисты в округе услышали меня. Но нет, ни звука, ни выстрела, ни движения в фашистских окопах. Мы продолжали красться, с каждым шагом все медленнее. Я не могу передать всю глубину моего желания попасть наконец туда. Лишь бы только добраться до места, откуда можно швырнуть гранату, прежде чем нас услышат. В такие минуты страх отступает, – остается лишь отчаянное, безнадежное стремление преодолеть отделяющее от противника пространство. Я испытывал подобное чувство на охоте, то же мучительно страстное желание подобраться на выстрел, та же кошмарная уверенность, что это невозможно. А как удлиняется расстояние! Я хорошо знал местность, нам нужно было пройти меньше ста пятидесяти метров, но казалось, что это целая миля. Ползя так медленно, ощущаешь, должно быть, подобно муравью, бесконечное разнообразие земли: вот чудесный клок гладкой травы, потом отвратительный ком вязкой грязи, высокий шуршащий камыш, который нужно обогнуть, горка камней, возле которой теряешь надежду проползти бесшумно.
Мы ползли уже целую вечность, и мне начало казаться, что мы заблудились, как вдруг в темноте показались едва заметные параллельные полоски. Это была наружная ограда из колючей проволоки (у фашистов две линии заграждения). Хорге встал на колени, пошарил в карманах. Единственные наши ножницы для резки проволоки были у него. Хруп, хруп. Мы осторожно оттянули в стороны концы проволоки. Теперь надо было ждать тех, кто подтягивался вслед за нами. Казалось, что они поднимают ужасный шум. До фашистского бруствера оставалось не более пятидесяти метров. И снова вперед, пригнувшись к земле. Медленно поднимаешь ногу, потом опускаешь ее на землю неслышно, как кот, подбирающийся к мышиной норе; прислушиваешься, ждешь, потом другая нога. Раз я поднял голову. Бенжамен молча положил ладонь на мою шею и сильно надавил. Я знал, что внутреннее проволочное заграждение натянуто всего в двадцати метрах от бруствера. Мне казалось невероятным, чтобы тридцать человек могли добраться до него незамеченными. Ведь одного дыхания достаточно, чтобы выдать нас с головой. И все же мы добрались. Фашистский бруствер уже виден, высоко нависшая над нами черная насыпь. Хорге снова стал на колени, повозился. Хруп, хруп. Бесшумно эту штуку не разрежешь.
Теперь и внутреннее заграждение позади. Мы ползем на четвереньках, пожалуй немного быстрее чем прежде. Если у нас будет время рассредоточиться вдоль траншеи, тогда все в порядке. Хорге и Бенжамен отползают вправо. Теперь наши бойцы должны один за другим пролезать через узкую дыру в проволочном заграждении. И в этот момент на фашистском бруствере сверкнул огонь и грохнул первый выстрел. Часовой наконец-то нас услышал. Хорге привстал на колено и широким движением метнул гранату. Она взорвалась где-то на бруствере. Сразу же, гораздо быстрее, чем можно было ожидать, с фашистского бруствера ударило десять или двадцать винтовок. Итак, они нас ждали. Мгновенно в мертвенно-бледном свете стали видны все мешки с песком. Бойцы, не успевшие подползти ближе, кидали гранаты и некоторые из них взрывались, не долетая до бруствера. Казалось, что каждая амбразура извергает струи огня. Всегда очень неприятно оказаться под огнем в темноте. Кажется, что каждая вспышка винтовочного выстрела предназначена для тебя. Но хуже всего – гранаты. Вам не понять этого ужаса, если вы не видели, как она рвется возле вас в темноте. Днем слышен лишь грохот взрыва, а в темноте к нему прибавляется ослепительная красная вспышка. Я кинулся на землю после первого залпа. Все это время я лежал в слизкой грязи на боку и яростно боролся с чекой гранаты. Эта дьявольская штука ни за что не хотела вылезать. Наконец я понял, что тяну не в ту сторону. Я выдернул чеку, швырнул гранату и снова кинулся на землю. Граната взорвалась, не долетев до бруствера; испуг помешал мне прицелиться как следует. В этот момент прямо передо мной взорвалась граната, так близко, что я почувствовал жар взрыва. Распластавшись на земле, я так сильно вдавил свое лицо в грязь, что шея заболела и я решил, что меня ранило. Сквозь грохот я услышал голос англичанина, спокойно сказавшего: «Я ранен». Граната действительно ранила нескольких человек, не задев меня. Я привстал на колени и снова бросил гранату, не заметив куда она попала.
Фашисты стреляли, наши сзади стреляли, и я очень ясно сознавал, что нахожусь между двух огней. Я почувствовал выстрел над самым ухом и понял, что боец находится прямо позади меня. Я приподнялся и заорал: «Не стреляй в меня, болван!» В этот момент я увидел Бенжамена, находившегося в десяти-пятнадцати метрах и махавшего мне рукой. Я побежал к Бенжамену. Для этого нужно было пересечь линию плевавшихся огнем амбразур, и я бежал, приложив левую руку к щеке; идиотский жест – как если бы рука могла остановить пулю, по я чертовски боялся ранения в лицо. Бенжамен с довольной, зловещей улыбкой на лице, стоял на одном колене и тщательно целясь, стрелял из своего пистолета по винтовочным вспышкам. Хорге был ранен первым залпом и лежал где-то в укрытии. Я стал на колени возле Бенжамена, выдернул чеку из моей третьей гранаты и метнул ее. Здорово! На этот раз сомнения не было. Граната взорвалась за бруствером, в том углу, где стоял пулемет.
Фашистский огонь внезапно ослаб. Бенжамен вскочил на ноги и крикнул «Вперед! В атаку!» Мы кинулись по невысокому крутому склону, увенчанному бруствером. Я сказал «кинулись», но правильнее было бы сказать «поплелись». Впрочем, трудно двигаться быстро, если ты промок и вымазан с головы до ног грязью, в руке тяжелая винтовка со штыком и сто пятьдесят патронов. Я был уверен, что на бруствере меня поджидает фашист. Если он выстрелит, то на таком расстоянии промах невозможен, но почему-то я ждал не выстрела, а именно удара штыком. Я представлял себе, как скрещиваются наши штыки и думал: чья рука окажется сильнее? Но никто меня не ждал. С неясным чувством облегчения я увидел низкий бруствер и мешки с песком, по которым удобно было карабкаться наверх. Обычно через них трудно перелезть. Внутри все было разнесено вдребезги, всюду валялись бревна и куски черепицы. Наши гранаты разрушили все строения и блиндажи. Но вокруг по-прежнему не было ни живой души. Я подумал, что они притаились где-то под землей и крикнул по-английски (все испанские слова вдруг вылетели у меня из головы): «Вылезайте! Сдавайтесь!» Никакого ответа. Вдруг человек, в сумерках он казался тенью, скользнул по крыше разбитой хижины и метнулся влево. Я кинулся за ним, без толку тыкая штыком в темноту. Обежав хижину я увидел человека, не знаю был ли это тот же самый, которого я заметил раньше, убегавшего вдоль траншеи, что вела к соседней фашистской позиции. Должно быть я почти догнал солдата, ибо видел его очень четко. Он был без шапки и видимо совсем голый, если не считать одеяла, которое натягивал на плечи. Если бы я выстрелил, его разнесло бы на куски. Но опасаясь, чтобы мы не перестреляли друг друга нам не приказали стрелять в фашистских окопах, а бить только штыком. Впрочем, я и не думал стрелять. В моей памяти вдруг всплыла картинка двадцатилетней давности: учитель бокса в школе показывает, как он поразил штыком турка в Дарданеллах. Я ухватился за конец приклада и сделал выпад, целясь в спину бегущего. Не достал. Еще выпад, и снова напрасно. Так мы бежали, он вдоль траншеи, а я поверху, тыкая его в лопатки и не доставая. Теперь мне это кажется комичным, но думаю, что ему тогда было не до смеха.
Солдат, конечно, знал место лучше меня и вскоре исчез. Когда я вернулся, захваченная позиция была полна народа. Стрельба немного ослабла. Фашисты все еще поливали нас с трех сторон сильным огнем, но теперь нас разделяло большее расстояние. До поры до времени позиция была в наших руках. Помню, что я с видом оракула изрек: «Мы сможем удержать это место полчаса, не больше». Я и сам не знаю, почему я сказал именно полчаса. Глядя через бруствер направо, можно было увидеть бесчисленные зеленоватые вспышки винтовочных выстрелов, прошивавших темноту. Но они были далеко, в ста или в двухстах метрах. Теперь надо было обшарить позицию и забрать все, что могло пригодиться. Бенжамен вместе с несколькими бойцами рыскали – в развалинах большой хижины или блиндажа посреди позиции. В сильном возбуждении Бенжамен выбрался через разбитую крышу, таща за веревочную ручку ящик боеприпасов.
– Товарищи! Боеприпасы! Полно боеприпасов!
– Нам боеприпасы не нужны, – раздался голос. Нам нужны винтовки.
Это была правда. Половина наших винтовок, залепленных грязью, отказала. Их можно было почистить, но в темноте опасно вытаскивать затвор; положишь куда-нибудь и не найдешь У меня был маленький электрический фонарик, который моя жена ухитрилась найти в Барселоне, другого освещения мы не имели. Несколько человек с исправными винтовками начала беспорядочно стрелять по далеким вспышкам. Но и они не рисковали вести беглый огонь, – даже лучшие из винтовок, разогревшись, могли отказать. В траншее нас было шестнадцать человек, в том числе один или двое раненых. Несколько раненых, испанцев и англичан, лежали за бруствером. Ирландец из Бельфаста Патрик О’Хара, имевший некоторый опыт в оказании первой помощи, сновал взад и вперед с пакетами бинтов, перевязывая раненых. И каждый раз, когда он лез через бруствер, в него, разумеется, стреляли свои же, хотя он, что было силы, орал: «P.O.U.M.!»
Мы начали осматривать позицию. На земле лежало несколько убитых, но я не стал на них смотреть. Меня интересовал пулемет. Все время, пока мы лежали перед бруствером, я спрашивал себя, почему пулемет не стреляет. Я посветил фонариком в пулеметное гнездо. Горькое разочарование! Пулемета не было. Тренога стояла, валялись ящики с патронами, но пулемета не было. Видимо, они сняли его и унесли, при первом сигнале тревоги. Конечно, они действовали по приказу, но поступили глупо и трусливо. Оставив пулемет на месте, они могли всех нас перестрелять. А мы-то мечтали о трофейном пулемете.
Мы шныряли по всем углам, но ничего ценного не находили. Кругом валялось много фашистских гранат, довольно примитивных. Они взрывались, если потянуть за веревочку. Я положил несколько штук в карман, на память. Нельзя было не удивляться, глядя на нищету фашистских окопов. Здесь не были разбросаны, как у нас, одежда, книги, пища, разные мелкие личные вещи; казалось, что у этих бедных фашистских солдат не было ничего своего, кроме одеял и нескольких кусков тяжелого мокрого хлеба. В дальнем конце стояла маленькая землянка, немного выступавшая над землей, с крохотным окошком. Мы посветили в окно фонарем и у нас вырвался крик восторга. У стены стоял цилиндрический предмет в кожаном футляре, высотой примерно в метр двадцать, имевший около пятнадцати сантиметров в диаметре. Пулеметный ствол! Мы кинулись в землянку, вытащили предмет из футляра и убедились, что это не пулеметный ствол, но вещь еще более ценная для нашей, плохо оснащенной, армии. Это был большой телескоп, думаю шестидесяти– или семидесятикратный, со складной треногой. По нашей стороне фронта таких телескопов не было вообще, и они были нам нужны до зарезу. Мы с триумфом вытащили телескоп и прислонили его к брустверу, чтобы захватить потом с собой.








