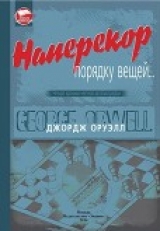
Текст книги "Наперекор порядку вещей... (Четыре хроники честной автобиографии)"
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
Я не считаю, что социалисты должны поступаться принципами, но многим из привычных атрибутов пожертвовать просто необходимо.
Было бы, например, крайне полезно устранить въевшийся в образ социалиста привкус нелепой эксцентричности. Хорошо было бы собрать в кучу и сжечь все эти сандалеты, балахоны, зеленые рубахи, а всех этих вегетарианцев, трезвенников, сладко блеющих мистиков отправить заниматься йогой в их замечательный Уэлвин-Гарден-Сити![207]207
Имеется в виду не только данный городок в Хартфордшире, но тип подобных общинных поселений, где культивировался специфичный образ жизни «в гармонии с красотой и природой».
[Закрыть] Но это, боюсь, недостижимо. Однако тем социалистам, кто поумней, вполне возможно прекратить отпугивать потенциальных сторонников вредным и совершенно неуместным стилем поведения. Так много мелкого самодовольства, которое легко попридержать. Скажем, угрюмо-начетнический взгляд типичного марксиста на литературу. Из массы памятных примеров приведу лишь один. Он ярок при всей тривиальности. В газете «Уокер Уикли» (одной из предшественниц «Дейли Уокер») имелась колонка бесед с читателями под названием «Книги на редакторском столе». Несколько недель там велось обсуждение творчества Шекспира, и один из подписчиков в досаде написал: «Дорогой товарищ! Надоело слушать про буржуазных авторов вроде Шекспира. Разве нельзя поговорить о писателях пролетарских… и т. д.». Ответ редактора был прост: «Просмотрев алфавитный указатель к тексту «Капитала», – сообщил он, – вы обнаружите, что Шекспир несколько раз был упомянут Марксом». Читатель, конечно, притих. С благословения Маркса Шекспир обрел уважение. Вот уровень ментальности, из-за которой нормальный человек шарахается от социалистов. Не стоит укреплять авторитет Шекспира подобным методом. И затем ужасный жаргон, который полагают обязательным практически все социалисты. Не вдохновляют эти «буржуазная идеология», «пролетарская солидарность», «экспроприация экспроприаторов» – от них становится тошно. Даже затертое и потерявшее значение «товарищ» подрывает доверие к социализму. Сколько прохожих раздумывали, не пойти ли на митинг, но, поглядев на сознательных социалистов, величающих друг друга «товарищ», решительно шагали в ближайший паб! Здоровый инстинкт – кому нужно, чтоб ему прилепили смешной бессмысленный ярлык, который даже после долгой практики не выговаривается без некоторого стыда? Поддерживать представление о том, что социалисты непременно носят сандалеты и бубнят насчет «диалектики материализма», губительно. Либо наглядно убедить, что в социалистическом движении можно быть человеком, либо дело проиграно.
За всем этим встает огромная, сложнейшая проблема. И означает она, что к вопросу социальных различий помимо грубой мерки материального достатка надо подходить честнее, внимательнее чем до сих пор.
Сложностям в связи с расслоением общества, я посвятил три главы. Главное тут, на мой взгляд, что английская классовая система, пережив свой расцвет, продолжает жить и не показывает никаких признаков отмирания. Это так запутывает ситуацию, что ортодоксальные марксисты (к примеру, Эли Браун в небезынтересной работе «Судьба средних классов») предпочитают определять социальный статус по цифре дохода. С экономической точки зрения, действительно есть лишь два класса: богачи и бедняки, но социально существует хитрая иерархия слоев, традиции которых впитываются с раннего детства и – главное – прочно сохраняются до конца жизни. Индивидуальные примеры несоответствия делению по простому экономическому принципу всюду. Вот такие писатели, как Герберт Уэллс и Арнольд Беннет, которые, достигнув высот материального благополучия, сохранили пуританскую честность низов среднего класса, а вот миллионеры, так и не сумевшие освоить грамотное произношение верхов. Вот лавочники, чей доход гораздо ниже, чем у каменщиков, однако сами они (и все общество) считают положение мелких торговцев несравненно более высоким. Вот ученик обычной муниципальной школы, ставший управителем заморской провинции, а вот воспитанник элитной школы, ныне торгующий по домам пылесосами. Если бы социальная стратификация четко определялась материальным положением, воспитанник элитной школы, как только заработки у него сравнялись с бедняцкими финансами, заговорил бы языком малоимущих масс. А он? Напротив, он вдесятеро крепче, как за спасательный трос, хватается за любой знак своего благородного воспитания. И полуграмотный миллионер хоть и копирует произношение дикторов Би-би-си, но редко достигает успехов в маскировке. В культурном отношении покинуть слой, которому принадлежишь от рождения, необычайно трудно.
С общим падением благосостояния социальные аномалии становятся массовым явлением. Невежд-миллионеров, правда, не прибавляется, зато все чаще питомцы престижных школ торгуют пылесосами, все больше разорившихся мелких хозяев вынуждены идти в Работные дома. Целыми группами населения люди среднего класса постепенно пролетаризируются, хотя – и это важный пункт – перспективу пролетаризации они (по крайней мере, в первом поколении) не приемлют. Взять, например, меня, с моим буржуазным воспитанием и пролетарским доходом. Какому классу я принадлежу? Экономически – явно «рабочему», но как представить себя не принадлежащим «буржуазному»? И, предположим, надо занять чью-то сторону; на чью же сторону я должен встать: верхов, сживающих меня со света, или же пролетариев с их абсолютно чуждым обиходом? Что касается лично меня, в критический момент я буду с рабочим классом. Ну а десятки, сотни тысяч других, оказавшихся в этой позиции? А как насчет гораздо более многочисленной, включающей уже миллионы, армии клерков и других мелких служащих, чьи традиции не столь уж буржуазны, но кому наверняка не понравится, если назвать их пролетариями? У этих представителей среднего класса те же заботы и те же враги, что у рабочих: всех грабит, унижает та же система. Но сколько из них это понимают? Слегка поднимется уровень жизни, и они снова, в одной фаланге с притеснителями, встанут против естественных своих союзников. Средний класс, доведенный до края нищеты и все-таки хранящий в сердце непримиримость антипролетарских чувств, – готовая опора фашистским лидерам.
Ясно, что надо пока не поздно увлечь этот эксплуатируемый средний класс движением социалистическим. Прежде всего, увлечь конторских служащих – их ведь такое множество, что, грамотно объединившись, они будут огромной силой. Ясно и то, что ничего подобного еще не делалось. Известный стереотип: последний, в ком можно надеяться найти искру бунтарства, – клерк или коммивояжер. Но почему? В значительной степени, думаю, по причине «пролетарского» перекоса пропаганды социалистов. Символом классовой борьбы в ней избраны мифические образы: «пролетарий», вольнолюбивый богатырь в темном фартуке молотобойца, и злой жирный «капиталист» в цилиндре и меховом пальто. Теоретически предполагается, что никого между этими фигурами не существует, а фактически в странах типа Англии примерно четверть населения – между. Твердя о «диктатуре пролетариата», позаботьтесь вначале элементарно объяснить, кто есть пролетариат. Ввиду тенденции идеализировать мускулистых работяг это всегда остается неясным. И кто из жалкого дрожащего полчища клерков и коммерческих агентов с заработком ниже, чем у шахтеров или портовых грузчиков, причислит себя к пролетариям? Пролетарий для них (так уж их научили) это человек без крахмального воротничка. Так что, пытаясь привлечь их речами о «классовой борьбе», удается лишь отпугнуть их: позабыв о цифре дохода и дорожа своим воротничком, они устремляются защищать класс, выжимающий из них все соки.
Здесь у социалистов работы непочатый край. Необходимо четко, внятно показывать, где линия, разделяющая эксплуататоров и наемных работников. Прояснять главное: весь небогатый, незащищенный от угрозы увольнения народ в одной лодке и должен бороться сообща. Может быть, стоило бы чуть пореже рассуждать о «буржуа и пролетариях», почаще – о жертвах и грабителях. Во всяком случае, надо отбросить вводящую в заблуждение привычку изображать, что пролетарий это исключительно рабочий с молотом или киркой. До каждого клерка, инженера, коммивояжера, до любого оказавшегося на мели лавочника или мелкого чиновника необходимо донести, что они – пролетариат, что так же, как для землекопа или станочника, социализм это знамя их команды. Нельзя оставлять их с привычным представлением, что идет борьба между теми, кто изъясняется культурно, и теми, кто малограмотно комкает слова, – тогда они, конечно, будут держаться на «культурной» стороне.
Я говорю о том, что надо убедить людей разных сословий объединиться, уговорить их на время отставить моменты классовых различий. Звучит, конечно, подозрительно. Слишком напоминает летний лагерь герцога Йоркского, где разглагольствуют о солидарности британской нации и дружных всенародных усилиях преодолеть тяготы, что отдает не то дурью, не то фашизмом, не то тем и другим. Не может быть сотрудничества классов, интересы которых противоположны. Какая дружба у капиталиста с рабочим? Кот не может сотрудничать с мышью, а если мышка так глупа, чтоб согласиться, недолго ждать, когда ее проглотят. Но вот на основании общих жизненных интересов сотрудничать вполне возможно. Все, у кого страх перед боссом и мороз по коже при мысли об арендной плате, должны действовать сообща: мелкий фермер и фабричный слесарь, конторская машинистка и шахтер, учитель и автомеханик. Есть некоторая надежда побудить их к этому, если удастся втолковать, в чем заключается их общий интерес. Но успеха тут не добиться, если агитировать, задевая социальные предрассудки, которые у многих столь же сильны, как соображения материальные. В конце концов, привычки и манеры банковского клерка действительно отличаются от манер и привычек портового грузчика, и ощущение превосходства сидит у клерка очень глубоко. Когда-нибудь, конечно, ему надо будет избавиться от своей спеси, но сейчас не лучший момент отчитывать, перевоспитывать его. Огромным преимуществом обернулось бы прекращение бессмысленной травли, которую социалистическая пропаганда ведет относительно всяких житейских проявлений буржуазности. Все речи и тексты левых авторов – от первополосных статей в «Дейли Уокер» до отдела юмора в «Ньюс Кроникл» – украшены массой набивших оскомину и зачастую очень глупых насмешек над такими, по терминологии коммунистов «буржуазными ценностями», как благородное изящество или джентльменская честь. Стиль подобных уничижительных сарказмов когда-то и с определенным основанием был введен самими буржуа, но сегодня он просто вреден, поскольку подменяет мелочами главный вопрос. Отвлекает внимание от того важнейшего факта, что бедность есть бедность, орудуешь ты кувалдой или авторучкой.
Опять-таки вот я, с моим происхождением и моим средним заработком около трех фунтов в неделю. Такого, как я, было бы наверно полезнее иметь на стороне социалистов, нежели подталкивать к фашизму. Но если постоянно измываться над моей «буржуазной идеологией», если назойливо намекать на мою второсортность по причине неумелых физических трудов, добиться можно только моей враждебности. Зачем-то вдруг понадобилось сообщать, что я уж от природы никудышный и должен изменить себя каким-то неведомым и неподвластным мне способом. Я не способен переделать на пролетарский лад свой выговор и, разумеется, свои вкусы, свой идеал, да и не стал бы никогда менять их. С какой стати? Я не прошу никого говорить в моей манере, так почему же меня призывают следовать чужим образцам? Гораздо лучше было бы принять как данность все эти непростительные классовые отметины и вообще минимально их касаться. Здесь есть подобие проблеме национальных, расовых различий, и опыт показал, что даже с чужеземцами, самыми неприятными из чужеземцев, можно сотрудничать, когда действительно необходимо. Экономически я в одной лодке с шахтером, землекопом, сельским пахарем, – напомните об этом, и я буду бороться в одном строю с ними. Но культурно я отличаюсь от шахтера, пахаря, землекопа, – уязвите меня этим, и я, возможно, пойду биться против них. Будь я отдельным странным типом, ну и ладно; но то, что верно для меня, верно для множества, колоссального множества людей. Каждый банковский клерк, в кошмарах видящий себя с нищенской торбой, каждый лавочник, балансирующий на грани банкротства, примерно в том же положении. Они – тонущий средний класс, и большинство цепляется за старые сословные привычки с верой, что это держит их на плаву. Жестоко и неумно начинать разговор с ними приказом отбросить спасательные пояса. Велика опасность, что в ближайшие годы целые слои среднего класса резко повлечет вправо. И они станут грозной силой. Пока они слабы, поскольку не умеют объединяться, но если, отпугнув, вы их сплотите в союз против вас, считайте, что разбудили дьявола. Намек на такую вероятность мы наблюдали во время всеобщей забастовки.
Подведем итог. Нет шансов выправить внутреннюю ситуацию, описанную в первых главах этой книги, нет шансов уберечь Англию от фашизма, если не сделать социалистическую партию действительно эффективной. Партия должна стать по-настоящему решительной и достаточно сильной численно. И это достижимо, если мы предложим цель, желательность которой признает обычный приличный народ. Поэтому кроме всего прочего пропаганде следует поумнеть. Меньше насчет «классового сознания», «экспроприации экспроприаторов», «буржуазной идеологии» «пролетарской солидарности» и неразлучных священных сестрах Тезе, Антитезе, Синтезе, – больше о справедливости, свободе и тяжелом положении безработных. И поменьше насчет индустриального прогресса, тракторов, Днепровской плотины, новой рыбоконсервной фабрики в Москве – прямого отношения к идее социализма эти вещи не имеют, но отгоняют многих, в том числе большинство владеющих пером. Все, что необходимо, это впечатать в сознание общества два пункта: первый – интересы всех, кого эксплуатируют, едины; второй – социализм совместим с традиционной благопристойностью.
Что касается чрезвычайно сложного вопроса классовых различий, единственно возможная сегодня тактика это вести себя тоньше и не распугивать людей успешнее, чем привлекать. И, прежде всего, охладить пыл чересчур назойливых стремлений изменить чей-то классовый стереотип. Если вы представитель буржуазии, наберитесь терпения и не кидайтесь заключить в объятия пролетарского брата – ему это, возможно, не понравится, а вы, не встретив понимания, обнаружите, что ваш снобизм не так мертв, как вам думалось. Если же по рождению или промыслу божьему вы пролетарий, не спешите глумиться над Славным Школьным Братством – оно ведь, в частности, символизирует терпимость и благожелательность, которые, быть может, со временем пригодятся и вам.
Я все же верю, я надеюсь, что в живом действенном социализме, обеспеченном поддержкой большинства англичан, вопрос классовых противоречий решится быстрее, чем кажется сегодня. В ближайшие годы у нас получится или не получится создать ту партию социалистов, в которой мы нуждаемся. Не получится – вспухнет свой фашизм, гнусный по-своему: приторно-елейный и благородно переименованный, с вежливым полисменом вместо нацистских горилл, львом и единорогом[208]208
Лев и единорог – геральдические звери на гербе Великобритании.
[Закрыть] вместо свастики. Получится – будет борьба, самая настоящая, поскольку наши плутократы смириться с властью подлинно революционной не захотят. И когда народ действительно разойдется на два враждебных лагеря, то все сторонники социализма, встав в один ряд, смогут иначе взглянуть друг на друга. И тогда, может быть, вся эта хмарь классовых предрассудков рассеется, и мы, тонущий средний класс – школьный учитель, полуголодный журналист-внештатник, живущая на мизерную пенсию одинокая дочь полковника, безработный выпускник Кембриджа, морской офицер без корабля, клерки, торговые агенты, трижды разоренные сельские бакалейщики – все мы плавно опустимся еще ниже, став рабочим классом, которым, собственно, давно являемся. И, вероятно, там окажется не так ужасно, как мы боялись. Ведь кроме безупречного произношения терять нам, в общем-то, и нечего.
1937

ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ
Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему.
Но отвечай глупому по глупости его, чтоб он не стал мудрецом в глазах своих.
Притчи 26, 5-6
1
За день до того, как я записался в ополчение, я встретил в Ленинских казармах Барселоны одного итальянца, бойца ополчения.
Перед штабным столом стоял кряжистый рыжеватый парень лет 25–26; его кожаная пилотка была лихо заломлена набекрень. Парень стоял в профиль ко мне, уткнувшись подбородком в грудь, и с недоумением разглядывал карту, разложенную на столе офицером. Что-то в его лице глубоко тронуло меня. Это было лицо человека, которому ничего не стоило совершить убийство, или не задумываясь, отдать жизнь за друга. Именно такими рисуются нам анархисты, хотя он был, вероятнее всего, коммунистом. Его лицо выражало прямоту и свирепость; кроме того, на нем было то уважение, которое испытывает малограмотный человек к людям, его в чем-то, якобы, превосходящим. Было ясно, что не умея читать карту, он видел в этом дело, требующее колоссального ума. Не знаю почему, но мне, пожалуй, никогда еще не приходилось встречать человека – я имею в виду мужчину, – который мне так понравился бы, с первого взгляда. Из замечания, брошенного кем-то из людей, сидевших за столом, выяснилось, что я иностранец. Итальянец поднял голову и быстро спросил:
– Italiano?[209]209
Итальянец? (прим. пер.).
[Закрыть]
– No, Inglés. Y tú?[210]210
Нет, англичанин. А ты? (прим. пер.)
[Закрыть] – ответил я на своем ломаном испанском.
– Italiano.
Когда мы направились к выходу, он сделал шаг в мою сторону и крепко пожал мне руку. Странное дело! Вдруг испытываешь сильнейшую симпатию к незнакомому человеку, У меня было чувство, будто наши души, преодолев разделявшую нас пропасть языка и традиций, слились в одно целое. Мне хотелось верить, что и я понравился ему. Но я знал, что для того, чтобы сохранить мое первое впечатление от встречи с итальянцем, я не должен был с ним видеться. Разумеется, мы больше не встречались; встречи подобного рода были в Испании делом обычным.
Я рассказал об итальянце потому, что он живо сохранился в моей памяти. Этот парень в потрепанной форме, с трогательным и в то же время суровым лицом стал для меня выразителем духа того времени. С ним прочно связаны мои воспоминания об этом периоде войны – красные флаги над Барселоной, длинные поезда, везущие на фронт оборванных солдат, серые прифронтовые города, познавшие горечь войны, холодные грязные окопы в горах.
Было это в конце декабря 1936 года, то есть менее семи месяцев назад, но время это кажется ушедшим в далекое, далекое прошлое. Позднейшие события вытравили его из памяти более основательно, чем 1935 или даже 1905 год. Я приехал в Испанию с неопределенными планами писать газетные корреспонденции, но почти сразу же записался в ополчение, ибо в атмосфере того времени такой шаг казался единственно правильным.
Фактическая власть в Каталонии по-прежнему принадлежала анархистам, революция все еще была на подъеме. Тому, кто находился здесь с самого начала, могло показаться, что в декабре или январе революционный период уже близился к концу. Но для человека, явившегося сюда прямо из Англии, Барселона представлялась городом необычным и захватывающим. Я впервые находился в городе, власть в котором перешла в руки рабочих. Почти все крупные здания были реквизированы рабочими и украшены красными знаменами либо красно-черными флагами анархистов, на всех стенах были намалеваны серп и молот и названия революционных партий; все церкви были разорены, а изображения святых брошены в огонь. То и дело встречались рабочие бригады, занимавшиеся систематическим сносом церквей. На всех магазинах и кафе были вывешены надписи, извещавшие, что предприятие обобществлено, даже чистильщики сапог, покрасившие свои ящики в красно-черный цвет, стали общественной собственностью. Официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо и обращались с ними как с равными, подобострастные и даже почтительные формы обращения временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше «сеньор» или «дон», не говорили даже «вы», – все обращались друг к другу «товарищ» либо «ты» и вместо «Buenos dias» говорили «Salud!»[211]211
Добрый день. Салют, привет. (прим. пер.)
[Закрыть]
Чаевые были запрещены законом. Сразу же по приезде я получил первый урок – заведующий гостиницей отчитал меня за попытку дать на чай лифтеру. Реквизированы были и частные автомобили, а трамваи, такси и большая часть других видов транспорта были покрашены в красно-черный цвет. Повсюду бросались в глаза революционные плакаты, пылавшие на стенах яркими красками – красной и синей, немногие сохранившиеся рекламные объявления казались рядом с плакатами всего лишь грязными пятнами. Толпы народа, текшие во всех направлениях, заполняли центральную улицу города – Рамблас, из громкоговорителей до поздней ночи гремели революционные песни. Но удивительнее всего был облик самой толпы. Глядя на одежду, можно было подумать, что в городе не осталось состоятельных людей. К «прилично» одетым можно было причислить лишь немногих женщин и иностранцев, – почти все без исключения ходили в рабочем платье, в синих комбинезонах или в одном из вариантов формы народного ополчения. Это было непривычно и волновало. Многое из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу же понял, что за это стоит бороться. Я верил также в соответствие между внешним видом и внутренней сутью вещей, верил, что нахожусь в рабочем государстве, из которого бежали все буржуа, а оставшиеся были уничтожены или перешли на сторону рабочих. Я не подозревал тогда, что многие буржуа просто притаились и до поры до времени прикидывались пролетариями.
К ощущению новизны примешивался зловещий привкус войны. Город имел вид мрачный и неряшливый, дороги и дома нуждались в ремонте, по ночам улицы едва освещались – предосторожность на случай воздушного налета, – полки запущенных магазинов стояли полупустыми. Мясо появлялось очень редко, почти совсем исчезло молоко, не хватало угля, сахара, бензина; кроме того, давала себя знать нехватка хлеба. Уже в этот период за ним выстраивались стометровые очереди. И все же, насколько я мог судить, народ был доволен и полон надежд.
Исчезла безработица и жизнь подешевела; на улице редко попадались люди, бедность которых бросалась в глаза. Не видно было нищих, если не считать цыган. Главное же – была вера в революцию и будущее, чувство внезапного прыжка в эру равенства и свободы. Человек старался вести себя как человек, а не как винтик в капиталистической машине. В парикмахерских висели анархистские плакаты (парикмахеры были в большинстве своем анархистами), торжественно возвещавшие, что парикмахеры – больше не рабы. Многоцветные плакаты на улицах призывали проституток перестать заниматься своим ремеслом. Представителям искушенной, иронизирующей цивилизации англосаксонских стран казалась умилительной та дословность, с какой эти идеалисты-испанцы принимали штампованную революционную фразеологию. В эти дни на улицах продавались – по несколько центавос[212]212
Мелкая монета. (прим. пер.)
[Закрыть]штука – наивные революционные баллады, повествовавшие о братстве всех пролетариев и злодействах Муссолини. Мне часто приходилось видеть, как малограмотные ополченцы покупали эти баллады, по слогам разбирали слова, а затем, выучив их наизусть, подбирали мелодию и начинали распевать.
Все это время я находился в Ленинских казармах и, как считалось, готовился к отправке на фронт. Когда я записывался в ополчение, меня обещали послать на фронт на следующий же день. В действительности мне пришлось ждать, пока не сформируется новая центурия. Рабочее ополчение, спешно сформированное профсоюзами в начале войны, по своей структуре еще сильно отличалось от армии. Главными подразделениями в ополчении были – «секция» (примерно тридцать человек), «центурия» (около ста человек) и «колонна», которая, практически, могла насчитывать любое количество бойцов. Ленинские казармы представляли собой квартал великолепных каменных зданий с манежем и огромным мощеным двором. Это были кавалерийские казармы, захваченные во время июльских боев. Моя центурия спала в одной из конюшен под каменными кормушками, на которых еще виднелись имена лошадей. Все лошади были реквизированы и отправлены на фронт, но помещение еще воняло конской мочой и прелым овсом. Я пробыл в казарме около недели. Запомнились мне, главным образом, конские запахи, неуверенные звуки горнов (все наши горнисты были самоучками, и я выучил испанские воинские сигналы только на фронте, услышав фашистских горнистов). Запомнились мне также топот подкованных башмаков в казарменном дворе, долгие утренние парады под зимним солнцем, азартные футбольные матчи – пятьдесят на пятьдесят – на посыпанном гравием манеже. В казармах жило тогда, должно быть, около тысячи мужчин и десятка два женщин, а также жены ополченцев, варившие для нас еду Тогда женщины все еще служили в ополчении, хотя число их было невелико. В первых боях они сражались плечом к плечу с мужчинами и это принималось как должное. Во время революции такие явления кажутся естественными. Но представления неуклонно менялись. Теперь, когда в манеже обучались ополченки, мужчин туда не пускали, ибо они зубоскалили и мешали. Всего лишь несколько месяцев назад никому бы в голову не пришло смеяться при виде женщины с винтовкой.
В казарме царили грязь и беспорядок. Впрочем таков был удел каждого здания, которое занимали ополченцы. Казалось, что грязь и хаос – побочные продукты революции. Во всех углах валялась разбитая мебель, поломанные седла, медные кавалерийские каски, пустые ножны и гниющие отбросы. Ополченцы без нужды переводили огромное количество еды, в особенности хлеба. Например, из моего барака ежедневно после еды выбрасывалась полная корзина хлеба – вещь позорная, если вспомнить, что гражданское население в этом хлебе нуждалось. Мы ели за длинными столами – доски на козлах, – из сальных жестяных мисок. Пили мы из кошмарной штуки – поррона. Поррон – это что-то вроде стеклянной бутылки с узким горлышком, из которого сильной струйкой било вино, когда его наклоняли. Из поррона можно пить на расстоянии, не поднося горлышка к губам, передавая его по кругу. Но впервые увидев поррон в действии, я забастовал и потребовал кружку. Уж слишком напоминал он мне грелку с водой, особенно когда в него было налито белое вино.
Постепенно новобранцам выдавали обмундирование, но поскольку это была Испания, все выдавали поштучно, и никогда не было известно, кто что получил. Некоторые же вещи, в которых мы особенно нуждались, в том числе ремни и патронташи, нам выдали в последнюю минуту, когда уже был подан поезд, везший нас на фронт. Я говорил о «форме», но боюсь, что меня неправильно поймут. Этого нельзя было назвать «формой» в обычном смысле слова. Может быть лучше сказать «мультиформа». Все были одеты в общем схоже, но не было двух человек, носивших абсолютно одинаковую одежду. Все в армии носили вельветовые бриджи, но на этом сходство кончалось. Одни надевали краги, другие – обмотки, третьи – высокие сапоги. Все носили куртки на молнии, но одни куртки были из кожи, другие из шерсти всевозможных цветов. Фасонов головных уборов было столько же, сколько бойцов. Шапки обычно украшались партийными значками, а кроме того почти все повязывали на шею красный или красно-черный платок. Колонна ополченцев казалась в то время разношерстным сбродом. Но поскольку фабрики выпускали эту одежду, ее выдавали бойцам, а к тому же, учитывая обстоятельства, она была не такой уж плохой. Правда, рубашки и носки из дрянной хлопчатки совершенно не защищали от холода. Мне даже вспоминать тошно о том, как жили ополченцы в первые месяцы, когда еще ничего не было организовано. Помню, что в газете всего двухмесячной давности я наткнулся на заявление одного из лидеров P.O.U.M.[213]213
P.O.U.M. – Partido Obrero de Unificación Marxista. Объединенная партия рабочих-марксистов. (прим. пер.)
[Закрыть], вернувшегося с фронта и обещавшего приложить все усилия к тому, чтобы «все ополченцы получили по одеялу». От этой фразы мороз пробирает, если вам когда-либо довелось спать в окопе.
На второй день моего пребывания в казармах началось так называемое обучение. Вначале был невероятный хаос. Новобранцы – в большинстве своем шестнадцати-семнадцатилетние парнишки, жители бедных барселонских кварталов, полные революционного задора, – совершенно не понимали, что такое война. Их даже невозможно было построить в одну шеренгу. Дисциплины не было никакой. Всякий, кому не нравился приказ, мог выйти из строя и вступить в яростный спор с офицером. Обучавший нас лейтенант, плотный, симпатичный парень, со свежим цветом лица, был раньше кадровым офицером. Впрочем, это видно было и по его выправке, и по щегольской форме с иголочки. Любопытно, что он был искренним и заядлым социалистом. Еще больше, чем солдаты, настаивал он на полном равенстве, без различия чинов. Я помню, как он огорчился, когда один из несведущих новобранцев назвал его «сеньором». «Что?! Сеньор? Кто назвал меня сеньором? Разве мы все не товарищи?» Не думаю, чтобы это облегчало его работу. А пока, новобранцы не приобретали никакой полезной выучки. Мне сказали, что иностранцы не обязаны являться на военные занятия (как я заметил, испанцы пребывали в трогательной уверенности, что все люди, приехавшие из-за границы, знают военное дело лучше их), но я, конечно, пришел вместе с другими. Мне очень хотелось научиться стрелять из пулемета; раньше мне не довелось с ним познакомиться. К моему отчаянию обнаружилось, что нас не учат обращению с оружием. Так называемая военная подготовка была обыкновенной, давно устаревшей шагистикой глупейшего рода: направо, налево, кругом, смирно, колонна по три шагом марш и тому подобная чепуха, которой я выучился, когда мне было пятнадцать лет. Трудно было придумать что-либо бессмысленнее для подготовки партизанской армии. Совершенно очевидно, что если на подготовку солдата отведено всего несколько дней, его следует научить тому, что понадобится в первую очередь: как вести себя под огнем, передвигаться по открытой местности, стоять на карауле и рыть окопы, а прежде всего, – как обращаться с оружием. Но эту толпу рвущихся в бой ребят, которых через несколько дней собирались бросить на фронт, не учили даже стрелять из винтовки или вырывать чеку из гранаты. В то время я не сознавал, что это объяснялось отсутствием оружия. В ополчении, сформированном P.O.U.M. положение с оружием было таким отчаянным, что свежие части, выходившие на линию огня, брали винтовки у бойцов, которых они сменяли. В Ленинских казармах винтовки были, по-видимому, только у часовых.
Прошло несколько дней. По нормальным понятиям, мы продолжали оставаться все тем же беспорядочным сбродом, но нас сочли готовыми для показа публике. Рано утром нас погнали строем в городской парк, расположенный на холме позади Plaza de España. Здесь был плац, на котором вышагивали ополченцы всех партий, а кроме того, карабинеры и первые соединения формируемой Народной армии. Городской парк являл собой странное и потешное зрелище. По всем дорожкам и аллеям, среди прибранных клумб, маршировали взад и вперед взводы и роты, мужчины выпячивали грудь и отчаянно старались походить на заправских солдат. Ни у кого из маршировавших по парку не было оружия, никто не был полностью обмундирован, хотя у большинства имелись кое-какие элементы форменной одежды ополчения. Процедура всегда была одинаковой. Три дня рысили туда и обратно (испанский маршевый шаг, короткий и быстрый), затем останавливались, выходили из строя и, задыхаясь от жажды, бежали вниз по холму к лавочке, торговавшей дешевым вином. Ко мне все относились очень дружелюбно. Я был англичанином, что вызывало любопытство, офицеры карабинеров очень интересовались мной и угощали вином. Как только мне удавалось оттянуть нашего лейтенанта в уголок, я начинал упрашивать его обучить меня стрельбе из пулемета. Я вытаскивал из кармана словарь Гюго и на моем варварском испанском языке начинал канючить:








