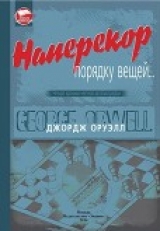
Текст книги "Наперекор порядку вещей... (Четыре хроники честной автобиографии)"
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Помнится зимний день в кошмарных окрестностях Уигана. Вокруг лунный пейзаж насыпей шлака, а в просветах между этими, с позволения сказать, холмами ряды дымящих черным дымом фабричных труб. Вдоль канала полоса мерзлой угольной грязи, истоптанной подошвами горняцких башмаков, и всюду пятна «заливин» – залитых грунтовыми водами ложбин, образовавшихся вследствие просадки подрытой шахтами почвы. И жуткий холод. «Заливины» покрыты горчичного цвета льдом, лодочники на баржах замотаны мешками до самых глаз, шлюзовые ворота обросли гроздьями сосулек. Словно мир, изгнавший всякую растительность, – ничего кроме дыма, шлака, льда, золы, грязи и мутной воды. Но даже Уиган красив в сравнении с Шеффилдом. Шеффилд, я полагаю, справедливо мог бы претендовать на звание самого безобразного города Старого света (жители, жаждущие хоть чем-то всех превзойти, возможно выдвинут такое требование). В этом городе с полумиллионным населением приличных зданий меньше, чем в обычной, с пятью сотнями обитателей, деревне на востоке Англии. А тамошняя вонь! Если изредка отступает серное зловоние, то лишь потому, что его перебивает запах газа. Даже воды бегущей через город мелкой речки окрашены ядовитой желтизной из-за какой-то химии. Остановившись однажды на улице, я пересчитал имевшиеся в поле зрения фабричные трубы: их оказалось тридцать три, и удалось бы насчитать гораздо больше, развейся на минуту густая пелена дыма и копоти. Характерным ландшафтом отпечатался в памяти наводящий смертную тоску пустырь (пустыри там почему-то еще тоскливей лондонских). Абсолютно голый, ни травинки, замусоренный дрянью рваных газет и дырявых кастрюль участок, направо ряд угрюмых четырехкомнатных домов из закопченного до черноты красного кирпича, налево тающий в дымной мгле частокол бесконечных фабричных труб, позади засыпанная шлаком насыпь железной дороги, а прямо в центре пустыря куб ярко-желтой кирпичной постройки с вывеской «Томас Грокок, перевозка автотранспортом».
Ночью, когда ужасные строения не видны да и все прочее во тьме, города вроде Шеффилда приобретают некое зловещее великолепие. Розовыми и зеленоватыми клубами медленно плывет густой дым, из-под колпаков на трубах литейных заводов, словно огненные циркулярные пилы, вьется зазубренное пламя. Через открытые двери цехов видишь гибкие полосы раскаленного железа, с которыми лихо управляются облитые алым светом литейщики; слышишь свист, грохот паровых молотов и звонкие удары по металлу.
Что касается гончарных городков, они почти одинаково безобразны на свой манер. Прямо в шеренгах закопченных домишек, так сказать посреди улицы, торчат похожие на врытые в землю гигантские бутыли бургундского, дымящие трубами чуть не в лицо конические кирпичные печи для обжига керамики. А где-нибудь неподалеку обязательно увидишь чудовищно огромный (шириной в сотни футов и почти такой же глубины) глиняный карьер, по одной стороне которого рельсовый путь с тянущейся цепью маленьких ржавых вагонеток, по другой – рабочие, умело, как скалолазы, отбивающие на кручах плотный грунт. Я проезжал там в снежную погоду, и даже снег был совершенно черным. Лучшее, что можно сказать о гончарных городках, – они невелики и довольно компактны. Не отъехав и на десяток миль, ты уже среди нетронутой природы, и с холмов городки эти уже видятся лишь грязными пятнышками.
Раздумывая относительно подобного уродства, задаешься двумя вопросами. Во-первых, неизбежно ли? Во-вторых, важно ли?
На мой взгляд, индустриализация вовсе не предполагает непременной некрасивости. Фабрика или даже газовый завод не обязательно должны быть безобразнее дворца, собачьей конуры или церковного собора. Все зависит от типа архитектуры. Северные промышленные города столь неприглядны, ибо выросли в период, когда строительство не знало современных стальных конструкций и дымоочистных устройств, когда вообще всех слишком занимали барыши, чтобы думать о чем-либо еще. Уродливость там сохраняется в значительной степени из-за того, что северяне к ней привыкли, перестали её замечать. Множество жителей Шеффилда либо Манчестера, подышав воздухом корнуэльских утесов, вероятно, не обнаружат в нем особой прелести. Однако после войны промышленность начала распространяться все южнее, приобретая почти симпатичный вид. Типичная послевоенная фабрика – не почерневшие кирпичные бараки с нагромождением коптящих труб, но сверкающие сооружения из бетона, стали и стекла, окруженные зелеными лужайками и клумбами тюльпанов. Взгляните на заводские корпуса, когда поездом отправитесь из Лондона по Западной магистрали: это, возможно, не шедевры зодчества, но уж конечно не кромешная жуть газовых заводов Шеффилда. Вместе с тем, хотя северное индустриальное уродство очевидно и вызывает протест каждого новоприбывшего, я сомневаюсь, что оно имеет первостепенное значение. Может быть, даже нежелательно изощряться в камуфляже объектов индустрии под что-то, чем они отнюдь не являются. Как верно замечено Олдосом Хаксли, тайная сатанинская мельница должна выглядеть именно тайной сатанинской мельницей, а не храмом прекрасных загадочных богов. Кроме того, и в худшем из промышленных городов многое по-своему живописно, выразительно. Коптящие трубы или зловонные трущобы отталкивают, главным образом, поскольку подразумевают исковерканные жизни и больных детей. С чисто эстетической точки зрения это может обладать определенным мрачным очарованием. Лично я обнаружил, что нечто донельзя странное, пусть даже одиозное, в итоге магически завораживает. Устрашавшая меня в Бирме природа стала таким навязчивым видением, что пришлось написать роман, дабы избавиться от наваждения (истинный предмет изображения всех романов о Востоке – восточный пейзаж). Нетрудно, видимо, по примеру Арнольда Беннета, обнаружить специфическую красоту угрюмых промышленных городов; легко представить, допустим, Бодлера, воспевающего шахтный террикон. Но безобразен или же красив индустриальный вид, это вряд ли существенно. Действительное зло гораздо глубже и оно неискоренимо. Вот это важно помнить при соблазне полагать чистенькое оформление индустриализации гарантией ее безвредности.
Только попав на промышленный север, осознаешь, что очутился не просто в незнакомой обстановке, но в иной стране. Отчасти из-за некоторых реальных различий, а более всего, из-за прочно вколоченной в нас антитезы север – юг. В Англии сложился примечательный культ «северности», с некоей «северной» вариацией снобизма. Приехавший в южное графство йоркширец непременно даст понять свое убеждение в превосходстве над тобой, южанином. И, если спросишь, он охотно объяснит, что лишь на севере жизнь «настоящая», труд «настоящий» и люди «настоящие», тогда как южный народ сплошь бездельники и паразиты, жирующие за счет северян. У северянина есть «твердость», он суров, угрюм, бесстрашен, добросердечен и демократичен, а южанин ленив, изнежен и тщеславен – в теории, по крайней мере, так. Соответственно, южанин появляется на севере с тем смутным ощущением ущербности, которое испытывает цивилизованный турист, рискнувший оказаться среди дикарей, а йоркширец, как и шотландец, прибывает в Лондон с настроением варвара-завоевателя. Очевидная реальность на мифы, взлелеянные давней традицией, не влияет. Как малорослый худосочный англичанин ощущает себя выше и сильней Карнеры[175]175
Примо Карнера (1906–1974) – легендарный итальянский боксер-тяжеловес ростом более двух метров.
[Закрыть] («какого-то итальяшки!»), примерно таково и отношение северян к южанам. Помню, один тщедушный йоркширец, который почти наверняка пустился бы наутек от гавкнувшего фокстерьера, сообщил мне, что на английском юге он чувствует себя «яростным викингом». Благоговейный культ севера нередко усваивают даже те, кто родом из других мест. Несколько лет назад мой друг, родившийся и выросший на юге, но ныне проживающий на севере, вез меня на машине через Суффолк. Проезжая через весьма симпатичную деревню, он, глянув на дома, заметил:
– Поселки в Йоркшире, конечно, страшные. Зато там замечательные люди! А тут наоборот: селения хороши, да население – гниль. Во всех этих коттеджах народ никудышный, вконец испорченный.
Не удержавшись, я спросил, есть ли у него тут знакомые. Нет, никого он тут не знал, но жители Восточной Англии, естественно, являлись никудышными. И другой мой приятель, по рождению тоже южанин, никогда не упустит случая воспеть северный край в укор югу. Цитата из одного его письма:
«Живу я сейчас в Клитероу, в Ланкашире… буквально ощущаю волшебство здешних рек, катящих среди гор и вересковых пустошей, – не то что на жирном вялом юге. У Шекспира «тщеславно серебрится Трент»[176]176
Шекспир. Генрих IV. Часть первая, акт 3, сцена 1.
[Закрыть], а по мне южные реки значительно самодовольней».
Любопытный образчик культа севера. Не только вас, меня и прочих английских южан щелкнули по носу, припечатав «жирными и вялыми», – оказывается, даже вода на северных широтах из Н2O вдруг превращается в нечто неизъяснимо дивное. Особенно интересно, что автор процитированных слов чрезвычайно интеллектуальный человек «передовых» взглядов, и национализм в привычных формах для него отвратителен. Скажи ему что-нибудь вроде того, что «один британец дороже трех иностранцев», он это с ужасом отвергнет. Однако в любом сопоставлении севера и юга вывод у него заранее готов. Все националистические схемы различий – все претензии на превосходство ввиду особой формы черепа или особого наречия – абсолютная фикция, реальна лишь человеческая вера в них. И, без сомнения, англичане насквозь проникнуты убеждением, что народы, живущие южнее, – хуже; этим до некоторой степени руководствуется даже наша внешняя политика. Поэтому, я полагаю, стоит уточнить, когда и почему это возникло.
Когда национализм впервые сделался религией, британцы, заметив, что на карте их остров почти в самом верху северного полушария, развили лестную для себя теорию о разрастании добродетелей по мере топографического продвижения к северу. На уроках истории в начальной школе нам примитивнейшим образом объясняли, что холодный климат людей закаляет, а жаркий расслабляет, из чего закономерно выводилась победа Нельсона над Испанской армадой. Чушь относительно беспримерной энергии англичан (фактически самых ленивых европейцев) изрекалась и перемалывалась, по меньшей мере, целое столетие. «Нам посчастливилось, – вещал в 1827 году «Куотерли ревью»[177]177
«Куотерли ревью» (Quarterly reviewer) – литературно-публицистический журнал, отражавший взгляды партии консерваторов.
[Закрыть], – ибо лучше тяжко трудиться на нашей суровой земле, чем роскошествовать среди олив, виноградников и грязных пороков». Эти «оливы, виноградники и грязные пороки» ярко выражают типично британское отношение к латинским народам. В мифологии Карлейля или Кризи «северянин» («тевтонский», позднее «нордический» тип) это дюжий решительный парень с белокурыми усами и чистой душой, а «южанин» – трусливый аморальный лицемер. Хоть данная теория и не достигла логического завершения, когда бы следовало утверждать, что нет никого лучше эскимосов, она внедрила представление о том, что люди к северу от нас повыше качеством. Отчасти этим объясняется столь глубоко пропитавший за последние полвека английскую жизнь культ Шотландии и всего шотландского. Индустриализация нашего севера добавила антитезе север – юг особой специфики. Еще сравнительно недавно северная часть Британии была отсталой, феодальной, а промышленность концентрировалась в Лондоне и на юго-востоке. Например, в годы Гражданской войны XVII в. (упрощая до схемы: в бунте буржуазии против феодализма) за парламент воевал народ южных и восточных областей, а население северных и западных краев стояло за короля. Однако с развитием на севере угольной индустрии там выкристаллизовался новый социальный тип – тип делового, самостоятельно всего добившегося северянина (диккенсовские мистер Раунсвел, мистер Баундерби)[178]178
Персонажи романов Диккенса «Холодный дом» и «Тяжелые времена».
[Закрыть]. Северный бизнесмен с его гнусным кредо «пробивайся или выбывай» сделался центральной фигурой девятнадцатого века и, словно труп верховного владыки, он правит нами до сих пор. Это назидательно представленный, скажем, в романах Арнольда Беннета герой, который начинает, имея полкроны, а финиширует, нажив полсотни тысяч, – герой, чьей главной гордостью является не только сохраненное, но приумноженное в богатстве хамство. Присмотрись к нему, и единственным его достоинством окажется умение делать деньги. Но пусть это даже убогий, узколобый и неотесанный невежда, нас приучили восхищаться им: ведь он имел «твердость» и «преуспел» – иначе говоря, набил мошну.
Такие умильные восторги в наши дни абсолютный анахронизм, поскольку северные бизнесмены больше не процветают. Однако фактами привычку не разрушить, и доныне у нас в почете северная «твердость». По-прежнему жива идея, что северянин «пробьется» (наживется) там, где южанин спасует. В глубине души каждый приезжающий в столицу йоркширец или шотландец видится себе Диком Виттингтоном[179]179
Согласно легенде (она связана с реально управлявшим британской столицей в конце XIV в. Ричардом Виттингтоном) служивший у лондонского купца нищий мальчик сбежал от хозяина, но, услыхав в колокольном звоне: «Вернись, Дик Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!», вернулся, и со временем пророчество колоколов исполнилось.
[Закрыть], который, начав карьеру уличным продавцом газет, увенчает ее постом лорд-мэра. Самонадеянности им, действительно, хватает. Только не следует думать, что это качество присуще подлинным пролетариям. Отправляясь несколько лет назад в Йоркшир, на слишком вежливый прием я не рассчитывал. Зная лондонских йоркширцев с их вечным резонерством и горделивой демонстрацией сокровищ родимой мудрости («вовремя разок пришить – после сто раз не чинить», так-то вот в наших краях говорят!), я был готов столкнуться с изрядной грубостью. Но ничего подобного не обнаружилось, и менее всего среди шахтеров. Горняки Йоркшира и Ланкашира проявляли сердечность и учтивость, даже смущавшие меня (порой до такой степени, что если и существует племя, чье превосходство я почувствовал, это шахтеры). Кстати, не прозвучало ни единой нотки презрения ко мне как уроженцу другой части страны. При том что британская региональная кичливость – национализм в миниатюре, стоит особо отметить: пролетариат снобизмом подобного сорта не увлекается.
Тем не менее, разница между севером и югом действительно есть; во всяком случае, есть доля правды в представлении о Южной Англии как об одном большом курорте с толпами барственных бездельников. По климатическим причинам сословие трутней, живущих дивидендами, предпочитает селиться на юге. В текстильных городах Ланкашира ты можешь месяцами не услышать «культурной» речи, тогда как в южных городах брось камешек, так непременно угодишь в племянницу епископа или иную благородную особу Ввиду отсутствия подобных, задающих тон господ, на севере усвоение буржуазных вкусов хотя и происходит, но очень медленно. И, например, все северные диалекты упорно сохраняются, в то время как говор южан сдается под натиском кино и столичного радио. Соответственно, ты со своей «культурной» речью на севере воспринимаешься скорее чужеземцем, нежели заезжим барином, что дает огромное преимущество в задаче найти контакт с рабочим классом.
Реально ли, однако, по-настоящему сблизиться с пролетариями? К этой проблеме я еще вернусь, пока только замечу, что мой ответ здесь отрицательный. Хотя, несомненно, север больше располагает, приближает к равенству отношений. В шахтерской семье тебя без особых затруднений могут принять как домочадца; в семействе простого южного фермера это весьма маловероятно. Шахтеров я видел достаточно, чтобы не полагать их идеальными, но знаю: многому научишься в их домашнем кругу, было бы лишь желание. Главное, что твои классовые эталоны и предубеждения проверяются тут иной традицией, не обязательно лучшей, но совершенно другой.
Ну, например, характер родственных связей. В семьях рабочих та же спаянность, что в семействах среднего класса, зато гораздо меньше деспотизма. У пролетария не висит вечным жерновом на шее фамильный престиж. Я уже говорил, что личностей среднего класса бедность крушит вдребезги, и не в последнюю очередь благодаря родне, без устали ворчащей, изводящей беднягу, не способного «преуспеть». Достаточно очевидны умение рабочих объединяться и невозможность этого в сословии с иным пониманием семейного долга. Сильный профсоюз служащих среднего класса не создать, поскольку здесь у каждого жена, которая во время забастовок будет настойчиво склонять супруга плюнуть на стачку и постараться занять хорошее место его товарища. Пролетариям также свойственна (весьма стесняющая поначалу) прямота в разговоре на равных. Предложишь рабочему человеку нечто для него нежелательное, он там, где люди с воспитанием соглашаются из деликатности, так и отрежет – не хочу. А отношение к «образованию»: как отличается оно от нашего и насколько оно трезвей! Чья-то ученость, в общем, вызывает уважение пролетариев, но если дело касается их самих, всю «образованность» они видят насквозь и отвергают здоровым инстинктом. Было время, когда я печалился, воображая грустные сюжеты о парнишках, вырванных из школы, жестоко брошенных «трудиться». Подобный приговор судьбы казался мне ужасным. Теперь-то я, конечно, понимаю, что в рабочей среде из тысячи подростков не найти одного, кто не мечтал бы поскорей бросить учебу Нелепо же, на взгляд таких ребят, попусту тратить годы на чепуху вроде истории и географии, их тянет к реальному делу Ходить в школу, когда ты почти взрослый, – для пролетариев это не по-мужски, попросту смехотворно. Вот еще выдумали: здоровенному малому, которому давно уж пора приносить деньги в семью, до восемнадцати лет бегать в школьном костюмчике и даже подвергаться порке за плохо приготовленный урок! Да чтоб рабочий парень позволял кому-то себя выпороть! Нет, он уже не сосунок, как некоторые. Эрнст Понтифекс из романа Сэмюеля Батлера «Путь всякой плоти», получив кое-какой реальный опыт, называет годы своей школьной и университетской учебы «тошной изнурительной гулянкой». С позиции рабочего люда, многое в привычном существовании средних классов выглядит изнурительным и тошным.
Домашняя обстановка у рабочих – я говорю не о семьях безработных, а о домах сравнительно благополучных – дышит такой уютной, честной, человечной атмосферой, какую с трудом обнаружишь где-то еще. Надо сказать, шансов жить счастливо работяга (если у него постоянное место и неплохой, «с приростом», заработок) имеет больше, чем человек «образованный». Домашняя жизнь у него налажена как-то естественней и симпатичней. Сцены в его жилище часто вызывали у меня ощущение некоей стройной завершенности, точнейшей сообразности. Особенно зимними вечерами, когда пылает огонь открытой плиты и блики пламени играют на стальном щитке. По одну сторону очага хозяин с подвернутыми рукавами рубашки сидит в кресле-качалке, изучает газетный отчет о скачках; по другую – хозяйка с шитьем на коленях, дети наслаждаются мятными карамельками, а пес поджаривает себе бок, развалясь на тряпичном коврике… Неплохо бы вот так, с условием, что у тебя не только это, хотя, пожалуй, и этого достаточно.
Подобные сценки реже, чем до войны, но все еще воспроизводятся во многих английских домах. Наличие их, главным образом, зависит от того, есть ли у хозяина дома работа. И эти уютные вечера семейства, которое, плотно закусив копченой рыбой и крепким чайком, блаженствует у горящего очага, принадлежат лишь нашему времени, нашей эпохе. Загляни в светлое будущее лет через двести: абсолютно все изменится; ни единой детали, наверное, не сохранится. Когда труд полностью будет машинным и каждый станет «образованным», едва ли хозяин дома останется тем же работягой с большими грубыми руками, которому сидя в одной рубашке приятно восклицать: «Ух, на дворе-то прямо колотун!». Не будет и пылающего угля, только какой-нибудь невидимый обогреватель. А мебель будет из металла, резины и стекла. Газеты, если и останутся, то уж конечно без новостей о скачках: с ликвидацией бедности угаснет азарт игр на тотализаторе, и лошади исчезнут с лица земли. Собак по соображениям гигиены тоже перестанут заводить. Да и детей благодаря ограничению рождаемости станет гораздо меньше. Так будет в следующей эпохе, а заглянув в средневековье, увидишь столь же непохожий и словно чужестранный мир. Лачуги без окон, топка по-черному, дым ест глаза, заплесневевший хлеб, расстроенный желудок, вши, цинга, ежегодно по младенцу, дети мрут как мухи и священник пугает рассказами о преисподней.
Но вот ведь интересно – не триумфы современной техники, не радио, кинематограф, не пять тысяч новых романов ежегодно, не гигантские толпы на ипподроме «Аскот» или матчах в Итоне и Харроу[180]180
«Аскот» – ипподром близ Виндзорского дворца (загородной королевской резиденции), где ежегодно проходят знаменитые четырехдневные скачки; Итон и Харроу – самые привилегированные из английских частных закрытых средних школ.
[Закрыть], а именно сценки в простых скромных жилищах (особенно те, что случалось видеть еще до войны, когда Англия благоденствовала) побуждают меня считать наше время, в общем, довольно сносным для житья.








