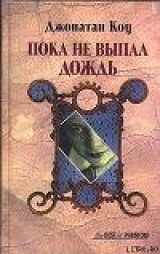
Текст книги "Пока не выпал дождь"
Автор книги: Джонатан Коу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Последнее изображение. Двадцатое по счету. Снова фотография. Вечеринка по поводу моего пятидесятилетия.
Пятьдесят славных лет! Мы с Рут переехали в Хэмпстед, и мой юбилей праздновали у нас дома. День выдался погожий, да и мы не подкачали. Праздник удался. Пришли мои родственники, друзья, светило солнце, и все было замечательно.
Ты тоже была среди гостей, Имоджин. Я ликовала, уговорив твоих родителей отпустить тебя на мой юбилей. А вот и ты на переднем плане. А кто тут рядом с тобой? Дай-ка взглянуть. Ну конечно, Рут. Затем моя сестра Сильвия. Обеих уже нет, увы. Снимает нас Томас, муж Сильвии. Он еще жив, хотя ему хорошо за восемьдесят. Симпатичный человек и интересный. Если ты когда-нибудь с ним встретишься, непременно попроси его рассказать о своей жизни. Томас – темная лошадка. Он куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Рядом с Сильвией – Джилл. На этом снимке ей лет двадцать шесть или двадцать семь. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, она слегка беременна. На день рождения она пришла одна и выглядела немного потерянной. Не знаю, почему ни муж, ни брат не составили ей компанию. Наверное, на то были причины.
Большая фотография, ее в двух словах не опишешь. А меня все сильнее одолевает усталость. Повествование мое в общем закончено. Осталось лишь добавить пару деталей. И разве тебе так уж обязательно знать, во что мы были одеты, на какой пробор были расчесаны наши волосы и какие напитки мы держали в руках? Пожалуй, это уже не имеет значения. Понимаю, неприлично бросать дело, не закончив, особенно когда конец так близок, но…
Хлебну-ка я виски. У меня в запасе еще полбутылки.
Зря я тебя пригласила. Я была счастлива видеть тебя в своем доме, но я перегнула палку. Слишком много сразу обрушилось на тебя. Слишком много незнакомых людей, незнакомых голосов, а в придачу незнакомый дом, где тебе было трудно ориентироваться. К концу дня ты еле держалась на ногах. Помнится, Джилл взяла тебя под свою опеку. Ты почуяла в ней друга и не отходила от своей новоявленной родственницы. К сожалению, Джилл с родителями ушли рано. Твои родители приехали за тобой только через час. Ты очень устала.
Но вот мы стоим на крыльце в саду. Впятером. Беатрикс, разумеется, здесь нет. К тому времени мы почти прекратили переписываться. То есть она перестала отвечать на мои письма. И таким образом история наших отношений… эта сага… завершилась. Продолжения уже не последует…
Однако самое плохое случилось потом. Кажется, более жестокого удара мне не наносили. Пришло письмо от твоего отца – твоего нового отца, как бы ты его ни называла. Он написал, что отныне общение со мной он считает для тебя «нежелательным». Якобы мои визиты тебя нервируют (понятия не имею, правду ли он говорил, – очень в этом сомневаюсь), а после моего дня рождения ты была чрезмерно возбуждена и утомлена, и поэтому настала пора полностью оградить тебя от людей из прошлого. В глубине души он всегда полагал этот шаг наиболее благоразумным. «В любом случае, – добавил он, – я получил работу за границей, и очень скоро мы покидаем страну». Что это была за заграница, он не уточнил.
* * *
В то время Рут снимала студию в Восточном Лондоне. Домой она вернулась поздно и застала меня за столом на кухне, я все еще сжимала в руке письмо от твоего отца. Я рассказала ей, что произошло, и тогда впервые она поговорила со мной начистоту – о моих отношениях с тобой, с Tea и Беатрикс. Розамонд, все к лучшему, твердила Рут. Ты больше ничем не обязана Беатрикс. Ничем не обязана Tea. И ты ничего не можешь сделать для этой бедной маленькой девочки. Сейчас она находится под присмотром, в нормальной семье, а когда вырастет, тогда пусть и решает, общаться ей с тобой или нет. (Тебе сейчас тридцать, Имоджин. Надо полагать, ты уже все для себя решила.) Ради бога, умоляла Рут, переверни эту страницу. Забудь о них. Выброси их из головы.
Вот такой она дала мне совет, весьма дельный. В ее понимании. И разумеется, продиктованный самыми добрыми намерениями. И я последовала этому совету, насколько это было в моих силах. С того дня я перестала писать Беатрикс, перестала писать твоей матери, не пыталась выследить тебя либо разузнать, как ты живешь. Я собрала все письма от Беатрикс и уничтожила их. Из фотоальбомов я вынула все снимки с ее изображением, сложила их в картонную коробку и зарыла на чердаке под кучей старья. Даже твой портрет отправился в «провальную комнату», откуда он никогда не извлекался, и я никогда на него не смотрела. В дальнейшем имя Беатрикс всплыло в нашей с Рут жизни лишь однажды, несколько лет спустя, когда на экраны вновь вышли «Преданные земле» и я потащила Рут в кинотеатр на Оксфорд-стрит. За что она на меня злилась, если честно. Поэтому я не сказала ей, что записала фильм, когда его показывали по телевизору, и, пока она была жива, я эту кассету не ставила.
Нет, я немного ошиблась: имя Беатрикс прозвучало еще раз. Я запамятовала, что незадолго до смерти Рут упомянула ее. Точнее, она задала мне вопрос.
Странно, но под конец нашей совместной жизни мы с Рут, оставаясь наедине, почти все время молчали. Мы жили в одном доме, вместе садились за стол, спали в одной постели, но я не помню, чтобы мы много разговаривали. Так, совсем чуть-чуть. Да и о чем нам было разговаривать? Мы прожили бок о бок много лет. Мы заранее знали, что каждая из нас скажет по тому или иному случаю, мы знали все, что происходило с нами, до того как мы встретились. Или думали, что знаем. Если мы что-то не желали обсуждать, то попросту тактично помалкивали.
Однако больная Рут, умирая, все же задала мне вопрос. Я пришла к ней в больницу, и, хотя передвигаться ей было тяжело, мы сумели-таки добраться до скамейки в маленьком дворике, большую часть которого занимал довольно уродливый бетонный фонтан. Отдышавшись, она – совершенно неожиданно – обратилась ко мне:
– Я хотела, кое-что выяснить насчет Беатрикс.
Я искоса взглянула на нее, и Рут продолжила:
– Это была она?
Я ответила, что не понимаю вопроса. Рут пояснила:
– До меня у тебя кто-то был, правда? И ты потеряла этого человека, а потом сошлась со мной.
Я не смела встретиться с ней взглядом. Конечно, я всегда предполагала, что Рут догадывается, что в прошлом я не всегда была одна, но мы никогда не касались этой темы и не произносили никаких имен, и клянусь, мне и в голову не приходило, что для Рут это могло быть важно.
– Это была Беатрикс? – повторила она, пока я судорожно соображала, что ответить.
После паузы я сказала:
– Нет.
Больше она к этому не возвращалась. А спустя недели полторы Рут умерла.
И Ребекка умерла. Несколько месяцев назад я увидела траурное объявление в газете. «Памяти любимой мамы, – гласило оно. – Любимой мамы Питера, Марка и Софии». Я уже была в курсе. Нет, разумеется, эти имена я слышала впервые, но я знала, что Ребекка вышла замуж и родила детей. Лет сорок назад я видела ее мельком в лондонском ресторане. Они сидели за столиком – вчетвером: Ребекка, некий мужчина и двое маленьких мальчиков, а на коленях у Ребекки лежал младенец. В том ресторане у меня была назначена встреча с приятельницей. Я зашла, увидела Ребекку с семейством и тут же вышла. К счастью, она меня не заметила. Ее муж обратил внимание на мой демарш, но он представления не имел, кто я такая. Я чуть ли не бегом кинулась прочь; позже пришлось звонить приятельнице, извиняться. Я была потрясена, изумлена. И обижена на нее. Впрочем, моя обида давно выветрилась. В конце концов, если она предпочла компромисс, что ж, пускай. Вправе ли я судить ее только потому, что для меня такой вариант неприемлем? Она казалась довольной, очень довольной. Это было видно сразу. А меня, вероятно, выбросила из головы. И меня, и Tea, и те два года, что мы прожили втроем…
Я говорю так, но…
Возможно, я слишком долго живу в полном одиночестве. Порою неделя пройдет, а я словом ни с кем не перемолвлюсь. Конечно, теперь у меня есть доктор Мэй, она приходит два-три раза в неделю. Завтра утром она опять придет, но ее ждет сюрприз, боюсь, неприятный. Надо не, забыть проверить, не заперт ли черный ход…
Но я не о том. Я так долго здесь живу, и преимущественно одна, что, наверное, это как-то повлияло на меня. Иногда мне кажется, что я потихоньку схожу с ума. Видишь ли, с тех пор как я узнала о смерти Ребекки, во мне возникла такая… убежденность…
Нет, ты подумаешь, что старуха рехнулась…
Ну а что, если это правда? А что, если она и впрямь ждет меня где-то там?
И с чего, спрашивается, я вдруг уверовала в это после стольких лет – всей жизни – неверия?
Это и есть сумасшествие?
Ох, до чего же холодно здесь. А на улице темно. И тихо.
Там, где она ждет меня, всегда тепло, сияет солнце, а в водной глади озера отражаются голубые небеса. Пронзительно-голубые.
Мы сядем рядышком на лугу, в высокой траве, над маленьким галечным пляжем, она прижмется ко мне – и последних пятидесяти лет как не бывало.
Удивительно, что вот сейчас я вспоминаю о ней и об озере. Я всегда думала, что мои последние мысли будут о «Мызе», о Беатрикс, о ночи, когда мы стали кровными сестрами и лежали в обнимку под зимней луной.
Но нет. Из тех объятий я давно вырвалась. Верно, с Беатрикс все началось. И та ночь указала мне путь, но… Я только сейчас поняла, куда этот путь вел, – к озеру, где был прожит лучший день моей жизни… А потом все пошло наперекосяк. Беатрикс вернулась, забрала Tea, мир зашатался и рассыпался…
Но существует Имоджин… И это только справедливо…
Отложу-ка я микрофон на минутку. Мне нужно кое-что принести из ванной. Таблетки, они помогут мне одолеть этот путь. А заодно я должна проверить, не заперла ли я по ошибке черный ход.
Прошу прощения…
А их не так много, как я предполагала. Погоди… я разложу их на столе, пересчитаю… Ровно дюжина… Ну значит, проблем быть не должно…
Любопытно, как быстро они подействуют. Поставлю-ка я музыку прямо сейчас, вдруг потом поздно будет.
Ох уж эти мои суставы! Совсем одеревенели.
Ну вот. Сейчас запоют скрипки. И духовые. «Байлеро».
Слушай музыку, Имоджин, пока я пью виски. И глотаю эти штуковинки, одну за другой.
Та-ак. А теперь надо все это спрятать куда-нибудь. И бокал не забыть.
Готово. И никаких сожалений.
* * *
Ах, эта музыка!.. Ты обратила внимание, как вступила певица, как зазвучал ее голос? Будто занавес отдернули.
Закрою глаза и увижу.
Здесь не темно. Только не здесь. Солнце. Небо. Пронзи…
О, я ухожу. Куда быстрее, чем я думала. Это как облако, словно мчишься верхом на облаке.
Кто-то дотрагивается до меня.
Любимая…
Мы опять вместе? Так скоро?
Возьми меня за руку. Возьми. Притяни к себе.
Теперь я тебя вижу.
И озеро…
И маленькую девочку! Я знала, что так и будет.
Ох…
Имоджин? Это ты?
Съезжай на, обочину и тормози.
Окна запотели. Ничего не видно.
Лучше выйти из машины.
Да, вот он. Я его сразу узнала. Неужто я была здесь всего один раз? На Рождество? А такое чувство, будто вернулась домой.
А дом изменился. Какие-то новые пристройки. Но все равно, это он. Здесь они жили – бабушка с дедушкой, моя мать. Это «Мыза».
Подойди поближе.
Машина на подъездной дорожке. Хозяева, должно быть, дома. Как им объяснить, что я тут делаю? И кто они вообще такие? Родня, моя родня? Внучатые племянники, двоюродные братья-сестры? Айви, моя бабушка, давным-давно умерла. То есть я так думаю. И Оуэн тоже. Кому тут что объяснишь?
А теперь по дорожке немного вперед. Под дуб. Здесь я стояла тогда – лет этак сорок назад. А может, и больше. В рождественскую ночь. Стояла и курила.
Кто-то появился в окне. Меня заметили. Наблюдают. О черт.
Помаши. А теперь давай назад, к машине. Слишком многое пришлось бы объяснять.
Она идет за мной? Нет. Но пошевеливайся. Уезжай отсюда, да побыстрее.
Теперь куда? Отыскать деревню, церковь и кладбище. Отыскать мою бабушку.
* * *
Ох уж эти шропширские дороги! Грязь непролазная. Живые изгороди – бурые, неухоженные, побитые ветром. Вспаханные поля по обе стороны – куда ни посмотри. Серое небо – кажется, другим оно и не бывает. Будто въехала в прошлое. Шропшир на полвека позади от остального мира. Такое чувство, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как я сюда приезжала, ничего.
А вот и церковный шпиль. И тут же паб с автостоянкой – классное соседство. Хотя почему бы и нет?
* * *
Тысяча девятьсот семьдесят второй. Выходит, она умерла, когда я еще жила в Англии. Не помню, как это случилось, и не помню, чтобы мне об этом рассказывали. А дед умер тремя годами позже.
Ветрено здесь. Восточные ветры. Интересно, они когда-нибудь унимаются, бывает тут когда-нибудь тихо? Может, глубокой ночью? Впрочем, тишины уже нигде не сыщешь, а уж в этой стране и подавно. Гул машин доносится даже сюда, на кладбище. Наверное, где-то рядом шоссе. Ветер шумит в деревьях – так печально. Невольно задумаешься о вечности. Так же шумит неумолимо уходящее время, и его не остановить.
За могилами ухаживают, это видно. Трава подстрижена. Кто-то за ними присматривает. Правда, цветов не положили. Завтра куплю и привезу. А вот на этой свежие цветы. Нарциссы, ярко-желтые. Кто-то позаботился. Интересно, для кого они, эти нарциссы…
О нет. He-em…
Розамонд. Октябрь прошлого года. Полгода назад. Всего-то! Я опоздала всего на полгода! Но почему она лежит здесь? Значит, она вернулась? Вернулась в свои любимые места.
О боже. Ну почему я не приехала раньше! Одно только слово, одно-два слова. Как это было бы важно. И для нее, и для меня.
Шаги. Кто-то идет.
Мужчина. Улыбается приветливо. Воротничок-ошейник. Викарий. Явно настроен поговорить. Вот-вот о чем-нибудь спросит. Обернись. Нацепи улыбку. Соберись.
– Позвольте спросить, вы знали Розамонд?
Письмо от Tea пришло в конце марта с утренней почтой. Из отцовской пристройки звуковым фоном доносились хорошо поставленные радиоголоса, но больше тишину в доме ничто не нарушало, и лязг почтового ящика прозвучал с неожиданностью взрыва. Джилл подошла к двери, зажав половинку тоста между испачканными маслом пальцами; в привычном ворохе банковских уведомлений и счетов за мобильную связь она сразу углядела письмо. Голубоватый конверт, надписанный корявым, чуть ли не детским почерком. Толстый конверт: судя по всему, в него вложили листов пять, если не больше.
Джилл удивилась, что письмо пришло так скоро. Всего неделю назад ей позвонил преподобный Тоун о поразительным, но долгожданным известием: промозглым будним днем он шел домой через кладбище и столкнулся там с высокой, худой, изможденной с виду женщиной лет шестидесяти. Похоже, жизнь ее потрепала. Она стояла у могилы Розамонд и горестно смотрела на надгробие. Викарий разговорился с ней – беседа получилась отрывистой и неловкой, однако преподобный выяснил, что перед ним не кто иная, как Tea, дочь Беатрикс, недавно возвратившаяся в Англию после многолетнего пребывания за границей. Тоун зазвал ее к себе, напоил чаем и рассказал все, что знал о тяжелой болезни и смерти Розамонд. Tea слушала очень внимательно – завороженно даже, а услыхав, что Джилл назначена исполнителем последней воли Розамонд, поинтересовалась, как ее можно найти.
– Я не осмелился дать ей ваш телефон, – сказал викарий. – Но взял ее адрес. Хотите, я вам его продиктую? Ей не терпится с вами связаться.
Джилл написала Tea на следующий же день; рассказала о кассетах, которые она прослушала вместе с дочерьми (правда, умолчала о том, чем они заканчиваются), и посетовала, что до сих пор не сумела разыскать Имоджин. Но теперь, с появлением Tea, Джилл имеет все основания надеяться на успешное завершение поисков.
Свалив остальную почту на рабочий стол в кухне, Джилл уселась читать письмо. Солнце сверкало на домашней утвари, на неубранной после завтрака посуде, преломившиеся лучи проворно набрасывались на стеклянные панели теплицы, устроенной за кухонным окном. На траве перед домом толстым слоем лежала белая искристая роса, весеннее утро упорно отказывалось баловать теплом. Джилл собиралась принять душ и одеться потеплее, но решила, что с этим можно подождать. Ножом для масла она вскрыла конверт и принялась читать, жадно глотая строчку за строчкой.
Спасибо (так начала Tea) за Ваше очень подробное и милое письмо.
Я была рада узнать, что портрет Имоджин сохранился. Мне бы хотелось взглянуть на него, если позволите, в любое удобное для Вас время.
Известие о пленках, оставленных Розамонд, меня потрясло. Если Вы их прослушали, значит, теперь Вы все знаете. Разве что в письме Вы спрашиваете об Имоджин. Что ж, хотя бы с этим я могу Вам помочь.
Постараюсь быть краткой. Но сначала, пожалуй, расскажу о моей жизни – с того момента, когда мы с Розамонд поссорились и прекратили общаться.
Освободившись из тюрьмы, я совершила огромную ошибку, выйдя замуж за очень жестокого и властного человека. Звали его Дерек Рамси, и прожила я с ним около десяти лет. Он увидел в газете мою фотографию, сделанную во время следствия, и написал мне в тюрьму. Рамси принадлежал к небольшому и довольно эксцентричному ответвлению мормонской церкви, и моя история задела какие-то струны в его душе. Он напридумывал кучу теорий, почему я так поступила с Имоджин, но все они сводились к одному: в девочку вселился Сатана, поэтому то, что с ней произошло, – своего рода наказание, которое она заслужила. Я тогда пребывала в беспросветном отчаянии, меня угнетало чувство вины, оттого, наверное, мне удалось убедить себя в правоте Рамси. Его злобные чудовищные вымыслы позволили мне перевести дух, и, думаю, только благодаря этому я смогла жить дальше.
Шли годы, и наша совместная жизнь становилась все невыносимее. Искра независимости, человечности, должно быть, всегда тлела во мне, и пусть медленно, но она разгорелась и в конце концов обратилась в пламя. Я бросила мужа и больше никогда с ним не встречалась.
Все это время меня держало на плаву жгучее, всепоглощающее желание снова увидеть Имоджин. Когда я ушла от Рамси, ей исполнилось шестнадцать лет. Я не хотела врываться в ее новую жизнь. Я лишь хотела посмотреть на нее – как ей живется, счастлива ли она?
Когда-то Розамонд дала мне адрес ее новой семьи, туда я и отправилась. Выяснилось, что они давно переехали, но, к счастью, новые жильцы знали куда – в Торонто.
Я сочла это добрым знаком. Моя мать тоже перебралась в Канаду, и, хотя я много лет ничего о ней не слышала, я все же подумывала навестить ее. Казалось, сама судьба (не Бог – в него я больше не верила) настойчиво тычет пальцем в Канаду и велит мне ехать туда. Я взяла билет на самолет и улетела.
Прибыв в Торонто, я поселилась в мотеле на окраине города, а уже на следующий день взяла машину напрокат и поехала в пригород, где жила семья Имоджин. Я припарковалась прямо напротив их дома. Конечно, это было рискованно, ведь мне было запрещено не только видеться, но даже приближаться к дочери. Было воскресное утро. Я простояла перед их домом несколько часов, пока наконец они все не вышли и не сели в машину. Вы наверняка помните, что я не видела мою дочь с тех пор, как ей исполнилось три года, и я боялась, что не узнаю ее. Но белая трость послужила отличной наводкой! Впрочем, и без трости для слепых в ее руке я бы ни на секунду не усомнилась: это Имоджин. Она выросла высокой и красивой, светлые волосы были подстрижены в каре, и двигалась она очень непринужденно. Там было еще двое детей – два мальчика помладше – и большой коричневый ирландский терьер, вокруг которого они все страшно суетились. Нетрудно было догадаться, что эта семья живет дружно и счастливо.
На следующий день с раннего утра я уже была на своем наблюдательном посту и увидела, как Имоджин вместе с матерью садится в машину. Пристроившись им в хвост, я доехала до школы, где Имоджин высадили. Оказалось, она учится в обычной школе, расположенной почти в центре города, а не в специальном заведении для слепых. В тот день я поджидала ее у выхода из школы, но Имоджин забрала мать, и возможности поговорить мне не представилось. В любом случае, я понятия не имела, что я ей скажу! На следующий день повторилось то же самое. Но на четвертый день, в среду, мне повезло: Имоджин вышла из школьных ворот одна и направилась к автобусной остановке, находившейся в сотне метров от школы. Я двинула следом и села вместе с ней в автобус. Меня изумило, как легко она со всем справляется, как точно знает, где у автобуса двери и на какую высоту нужно поднять ногу, чтобы взобраться по ступенькам. Пассажиры брали ее за локоть, пытаясь помочь, но вряд ли она нуждалась в чьей-то помощи.
В автобусе было полно народу. И какой-то мужчина уступил Имоджин место. Когда она села, я обнаружила, что стою в проходе совсем близко от нее. Так продолжалось минут пятнадцать, пока мы обе не вышли. Это было невероятное ощущение – снова находиться рядом с моей ненаглядной дочерью. Когда мы выходили из автобуса, я взяла ее за руку и помогла спуститься. Я до нее дотронулась! А она сказала: «Спасибо, мадам». Уж не знаю, как она догадалась, что я женщина, а не мужчина.
От остановки Имоджин зашагала к зданию университета, выстроенному в том же стиле, что и древние колледжи Оксфорда или Кембриджа. На крыльце перед входом ее ждал парень – студент, наверное, лет девятнадцати-двадцати. Они поцеловались. Я заметила, как она пробежала пальцами по его лицу, вокруг подбородка и вниз по шее. Парень был очень хорош собой, и, похоже, Имоджин это «видела» на ощупь. Парень взял ее под руку, и они отправились в ближайший парк, Северный королевский парк, так, кажется, он называется. Сперва я шла следом на приличном расстоянии, но потом мне стало неловко – словно я шпионю за ними. К тому же я сильно разволновалась, когда дотронулась до нее в автобусе и услышала ее голос. Сердце билось как сумасшедшее. Поэтому я вернулась в мотель, мне надо было отлежаться.
В четверг мать опять забрала Имоджин из школы. Но в пятницу после занятий Имоджин снова села в автобус, а я, конечно, за ней.
На этот раз мне повезло. На свидание со своим парнем Имоджин явилась раньше времени и, очевидно, решила дожидаться его не на ступеньках университета, но на скамейке в парке. На ней было пальто из ткани в елочку и голубые джинсы; прислонив трость к скамейке, она откинула голову назад, наслаждаясь ощущением солнечного тепла на коже и легким ветерком. Стояла чудесная осень – бодрящая, сухая. По лицу Имоджин блуждала улыбка. Как я жалела, что она не может увидеть листья на деревьях и на траве, ведь они были такими красивыми – все оттенки зеленого, желтого, красного, коричневого, какие только можно вообразить. По опавшей листве носилось множество крупных серых белок, почему-то я их запомнила.
Я уже придумала, как подобраться к ней. Сняв с шеи кашемировый шарф, я села рядом с ней на скамью и спросила: «Простите, это не ваш?» Имоджин протянула руку, ощупала шарф и сказала: «Нет, это не мой шарф. Может, его кто-нибудь обронил?» Я соврала, что нашла его на тропинке, и продолжила: «Не возражаете, если я тут посижу?» Она ответила, что не возражает, а я, не желая обрывать разговор, начала лихорадочно соображать, что бы еще сказать, но Имоджин выручила меня: «Вы англичанка, правда?» Она заметила мой английский акцент, и вдруг мне пришло в голову, что она способна и голос мой узнать. Но не думаю, что она меня узнала. Ведь все это было так давно, в незапамятные времена.
Многое мне хотелось ей сказать и о столь же многом расспросить, но в нашем распоряжении было несколько минут, да и я не могла пускаться в откровения. Пришлось вести светскую беседу, словно с чужим человеком. В основном мы говорили о том, чем Канада отличается от Англии. Она сказала, что хорошо помнит Англию, хотя и не была там уже восемь лет: там сыро, и все вокруг преимущественно серенькое. Тогда я спросила – как можно мягче и доброжелательнее, чтобы не обидеть, – откуда ей известно про цвет, если она не видит. Имоджин ответила, что, хотя она потеряла зрение очень рано, она не забыла, как выглядит окружающий мир. Не забыла формы и цвета. Стараясь унять дрожь в голосе, я спросила, как она ослепла. Отвечая, она не упомянула меня ни словом. С ней случилось несчастье, но она почти ничего об этом не помнит. А потом она сказала нечто, что крепко врезалось мне в память: она знает, что люди думают – мол, оттого, что она слепая, ее жизнь должна быть ужасно трудной и унылой, а на самом деле ничего подобного. Она считает, что жизнь у нее счастливая и полноценная, как у любой другой девушки. И поверьте, слушая ее, я чуть не плакала от радости.
Очень скоро я заметила, что к нам приближается ее приятель, и в тот же миг Имоджин произнесла: «А, вот и он» – она услыхала шаги и безошибочно определила, что это идет ее парень. Она встала, поцеловала его, парень взял ее под руку, и они ушли. Но прежде она попрощалась со мной: «Приятно было побеседовать с вами, мадам». Когда они удалялись, парень тихонько спросил: «Кто это?» – но ответа Имоджин я не расслышала. Я сидела на скамейке и смотрела им вслед, пока они не исчезли из виду. Долго смотрела – день был ясный, и светлые волосы Имоджин хорошо были видны даже издалека.
Больше в Торонто меня ничто не держало. Я нашла свою дочь и убедилась, что она здорова и довольна жизнью и что о ней хорошо заботятся. Я твердо решила, что, как только ей исполнится восемнадцать, я напишу ее родителям с просьбой о встрече с ней. До этого дня оставался год с лишним, и ожидание казалось мне страшно долгим, но я чувствовала, что, повидав ее и поговорив с ней, я смогу выдержать и этот срок.
Я поехала навестить мать. Я знала, что у нее рак горла и поэтому она почти постоянно лежит в больнице. Болезнь прогрессировала. Мать скончалась через месяц и четыре недели после моей встречи с Имоджин. Но до ее смерти я виделась с ней несколько раз. Как было бы всем приятно, если бы я могла сказать, что мы с ней разобрались со всеми нашими проблемами и наладили отношения друг с другом. Это дало бы мне «чувство завершенности», как выражаются психологи. Увы, мать придиралась и ругала меня до последнего вздоха. Все очень просто: она никогда меня по-настоящему не любила и никогда не нуждалась во мне. Я была ошибкой и до некоторой степени остаюсь таковой в своих собственных глазах по сей день. То, что тебе внушили, остается с тобой навсегда. Единственное, что можно сделать, – научиться с этим как-то жить.
В Альберте я гостила у моей сводной сестры Элис. В детстве я мало обращала на нее внимания – разница в возрасте казалась слишком большой, – но теперь я обнаружила, каким добрым и хорошим человеком она стала. И разумеется, смерть нашей матери сблизила нас. Словом, Элис уговорила меня остаться в Канаде. Я нашла жилье, работу на неполный день и в итоге задержалась там на четырнадцать лет. После смерти мамы мой отчим Чарльз больше не женился, и к концу жизни потребовалось за ним присматривать, так что ему, по крайней мере, я смогла стать необходимой. Чарльз умер в прошлом году, и я вернулась в Англию. В Канаде мне уже было нечего делать. К тому же я немного тосковала по дому, хотя дома у меня здесь, собственно, и нет.
Вы, наверное, недоумеваете: а как же Имоджин? К несчастью, тут мне Вас нечем обрадовать. Когда я наконец собралась с духом и написала ее родителям, меня ждало трагическое известие: они ответили, что Имоджин погибла. И не как-нибудь, но в дорожном происшествии. Случилось это на школьных каникулах, когда она с младшими братьями гуляла в парке. Ирландского терьера они тоже взяли с собой. И вдруг пес залаял и выбежал на проезжую часть, чего раньше с ним никогда не бывало. Имоджин услыхала лай и бросилась за псом. Она страшно рисковала, но вряд ли в тот момент думала об опасности. Пес умудрился ловко проскочить между автомобилями, добравшись целым и невредимым до другой стороны дороги. А Имоджин сбила машина. Шансов спасти ее не было. Смерть наступила мгновенно. Говорят, она даже ничего не почувствовала. Произошло это за неделю до ее семнадцатого дня рождения и почти через полгода после нашей встречи в Торонто. 16 апреля 1992 года. В этот день умерла моя дочь.
Где искать утешение, когда такое происходит в твоей жизни? Очень долго я не верила, что ее больше нет, пыталась…
Не дочитав письма, Джилл откинулась на спинку стула. Последняя страница легла на стол, выскользнув из ее онемевших пальцев.
С минуту Джилл тупо смотрела прямо перед собой; думать она не могла, придавленная тяжестью внезапно обрушившейся на нее печали.
Затем в голове замелькали образы, с бешеной скоростью сменяя друг друга.
Пес, сбежавший ни с того ни с сего. Сначала Беатрикс бросается в погоню, потом Имоджин…
Овернь. Умирающая Розамонд верит, что она опять попала туда. Джилл приезжает в Овернь в отпуск с мужем, а потом едет од-на по пустынной дороге. Черный дрозд врезается в ветровое стекло, жуткое предчувствие смерти…
Когда это было? В 1992-м? В апреле? Джилл ехала по дороге во второй половине дня, ближе к вечеру. Имоджин погибла утром. Торонто-Франция… Какова разница во времени?
Выходит, это не было случайностью. Нет, все связано, переплетено, все складывается в некий узор…
Зазвонил телефон, Джилл вздрогнула и вскочила. На дисплее высветился номер – Элизабет. Джилл рывком сняла трубку с базы, укрепленной на стене.
– Привет, радость моя. У тебя все в порядке?
– Да, мама. Все нормально. Я только хотела узнать, звонила ли Кэтрин.
– Кэтрин? Нет. А что такое?
– О, да ты не в курсе. (Пауза.) Даниэль бросил ее.
– Да ну!
– Объявил вчера вечером, что между ними все кончено.
– Бедная Кэтрин.
– Она пришла ко мне вчера часов в десять и рыдала не переставая. Я оставила ее ночевать. Но сейчас она уже вернулась к себе и собиралась тебе позвонить… Мам, ты меня слушаешь?
– Да-да.
– А с тобой все в порядке?
– Да. Только… У меня тоже есть новости.
– Какие еще новости?
– Все хорошо, детка, честное слово. Я перезвоню тебе позже, ладно? Примерно через полчаса. А сейчас нам лучше прерваться. Возможно, твоя сестра как раз в этот момент набирает мой номер.
Джилл повесила трубку. Она стояла посреди кухни, испытывая легкое головокружение, и напряженно думала. Лоскутное одеяло, сшитое из… совпадений? Жаль, что она не может отступить на шаг, чтобы увидеть узор целиком. Но и то, что ей удалось различить, по-степенно меркло и таяло. А из далекого Лондона ей уже передавалось ощущение утраты и покинутости, переживаемое Кэтрин, оно проникало в материнское сердце, смешиваясь с гневом и состраданием. Этот гад Даниэль… Она знала, она всегда знала, что он за птица…
Нет, так не пойдет… Нельзя позволить настоящему выпихнуть прошлое. Только не сейчас. Узор существует, надо лишь его обнаружить. Она уверена, что стоит на пороге чего-то необычайно ценного, может быть, какого-то высшего откровения. Во всем, что произошло, был смысл…








