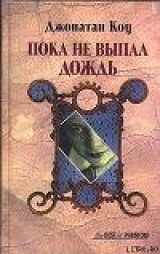
Текст книги "Пока не выпал дождь"
Автор книги: Джонатан Коу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
* * *
Tea спала. А мы с Ребеккой сидели в высокой траве, на краю луга, там, где он круто обрывался к пляжу. Сидели рядом, прижавшись друг к другу, и попивали вино. Моя голова лежала на плече Ребекки. Тишина вокруг была абсолютной и немного пугающей. Наверное, поэтому мы переговаривались шепотом.
Первой заговорила Ребекка.
– Я все думаю о том, что тебе сказала Tea, – медленно начала она. – Мол, почему бы не радоваться тому, чего нет?
Я рассмеялась:
– Да, ловко она меня отбрила.
– А может, она права? – с какой-то непонятной настойчивостью в голосе спросила Ребекка. – Ведь… – Ребекка замялась, будто боялась высказаться, будто облечь в слова свой страх означало придать ему форму и вещественность. – Ведь все это не настоящее, правда? Наша жизнь втроем. Она не настоящая.
Я ущипнула ее за бедро.
– Вы обе кажетесь мне вполне реальными, – улыбнулась я. – Или я пребываю в плену иллюзий?
Ребекка промолчала, сочтя мою реплику глупой.
– К чему ты клонишь? – спросила я уже серьезно.
Ребекка снова не ответила. Минуты через две она нежно обняла меня, а затем порывисто встала и спустилась на пляж. Она стояла у кромки воды, сложив руки на груди, и чувствовалось, как она напряжена, – черная статуя в лунном свете. Я подошла к ней, обняла за талию, но ее тело не отозвалось на ласку.
– У нас все по-настоящему, – попыталась я разубедить ее. – А как иначе? Нам замечательно живется втроем, разве нет?
Когда она ответила, я не узнала ее голоса. Запинаясь, хрипя, с какой-то животной тоской она произнесла:
– Недолго нам так жить. Ее скоро заберут. И все будет кончено.
Для меня до сих пор загадка, откуда Ребекка взяла, что мы скоро расстанемся с Tea. Но как бы то ни было, не прошло и двух недель, как ее предвидение сбылось. В первых числах сентября я получила письмо от Беатрикс. Она возвращалась в Англию, наконец-то, и не просто так, но с победой – с Чарльзом в качестве трофея. Чарльз сдался со всеми потрохами: он примирился с существованием Tea и даже поддался на уговоры Беатрикс поискать работу в Лондоне. А вдобавок у них полгода назад родился общий ребенок, сын по имени Джозеф. И какое облегчение испытаем мы с Ребеккой, какой груз свалится с наших плеч, когда нас освободят от опеки над Tea! Беатрикс была только счастлива уведомить нас о предстоящих переменах.
Ровно через пять дней она явилась к нам собственной персоной. А уже спустя два часа покинула нашу квартиру. Вместе с Tea – ошеломленной и донельзя расстроенной. Ребенка схватили и запихнули в новую семью. К чужим, по сути, людям.
Ребекка ушла несколько дней спустя. Ушла классически: в мое отсутствие собрала свои пожитки и написала записку, которую положила на видное место – на обеденный стол. В записке было одно предложение: «Я не могу здесь жить без нее». И коротенькая фраза, многое подразумевающая, но мало что объясняющая: «И с тобой не могу».
Так я осталась совершенно одна.
Зимой я получила от Ребекки покаянное письмо. Мы встретились в кафе, но ничего хорошего из этого не вышло: нам было уже очень тяжело видеть друг друга. Последний раз я встретила ее… когда же это было? Лет сорок назад или больше?.. В ресторане, в Лондоне, но она меня не заметила, так что… не о чем и говорить…
Что ж, бывает.
Знаешь, Имоджин, я вдруг почувствовала страшную усталость. Прости, но мне сейчас не до песни, что я обещала тебе поставить. Уже поздно, и мне правда пора в постель. Но я не забуду о своем обещании. Ты еще услышишь, как внезапно врывается голос певицы, как он обрушивается на тебя… В этот миг мне всегда почему-то видится занавес, который резко отдергивают, а за ним обнаруживается картина: пронзительная голубизна озера, Ребекка, Tea и я – я бегу по лугу, догоняя тех двоих.
Ну вот, наступило утро, и мне гораздо лучше. И я готова рассказать тебе о снимке под номером тринадцать. Летний день, мы с Беатрикс сидим на скамейке в парке при лечебнице. Как называлось это заведение, не могу припомнить. Однако у меня есть все основания полагать, что я ездила туда раза два-три.
Дело происходит, полагаю, в 1959 году. В аварию Беатрикс попала годом раньше, то ли в январе, то ли в феврале 1958-го. Около года она пролежала в больнице с множественным переломом шеи, и поначалу опасались даже, что она не сможет ходить. Однако в этом заведении ее лечили не от физических недугов, но от расстройств психики, проявившихся сразу после аварии.
Громоздкое серое угрюмое здание – вот что мы видим на заднем плане. Наверху светло-голубое небо, исчерканное перистыми облаками. Здание симметричное, с двумя одинаковыми щипцами по бокам, над каждым щипцом пара печных труб. Фотограф (вероятно, кто-то из медсестер) стоял ближе к краю широкого центрального газона, поэтому на здание мы смотрим под углом, отчего оно кажется менее враждебным. На втором этаже восемь окон, одно из них, если не ошибаюсь, в палате Беатрикс, откуда открывался неплохой вид на парк. На первом этаже углы здания облепили два больших эркера; за одним из эркеров – комната отдыха, или общая комната, с солидным роялем и тощенькой библиотекой. В лечебнице было просторно, тихо, спокойно – то есть куда более комфортно, чем в моей комнатенке в Вондсворте, – но Беатрикс лечебницу ненавидела, для нее она была тюрьмой. Понять мою кузину нетрудно: там ее подвергали не слишком приятным процедурам – электрошоковой терапии и прочим штукам в том же роде.
На переднем плане мы с Беатрикс на скамейке, спиной к газону, перед нами буйные заросли красной и желтой вербены. Обе мы одеты довольно строго – интересно, почему? Я в синем жакете и длинной серой юбке. Волосы у меня короче, чем обычно, стрижка почти мужская: «на висках и затылке снять побольше». Разница между мной на этом снимке и тем, как я выгляжу, к примеру, на выпускной фотографии Ребекки, – огромна. На моем лице застарелая унылая гримаса, в объектив я гляжу пристально, но без энтузиазма, только из вежливости… Но возможно, я сейчас выдумываю задним числом или преувеличиваю: ведь я навещаю тяжело больного человека, а это не повод для веселья. Беатрикс в длинном платье, несколько бесформенном и мешковатом; платье, как и мой жакет, синее, но с мелкими голубыми и зелеными цветочками. Выражение лица у Беатрикс не столь мрачное, как у меня, скорее безразличное и усталое. На шее у нее жесткий ортопедический воротник, поэтому Беатрикс сидит, неестественно выпрямившись, и кажется неповоротливой. Воротник она носила года два, и это ей давалось нелегко. Конечно, ей нельзя было не посочувствовать.
В аварию она попала так. Я уже говорила, что Беатрикс и Чарльз, поженившись, переехали в Англию. Кроме Tea и сына Джозефа у них теперь была и новорожденная дочка Элис. Чарльз работал в Сити, что позволило им, к их вящей радости, переехать в пригород (они купили большой дом в Пиннере). Однажды в пятницу Беатрикс ощутила – прямо скажем, нехарактерный для нее – прилив материнской щедрости и решила побаловать Tea, забрав дочь из школы на машине (обычно Tea проделывала этот путь пешком). Без пяти три, метров за двести до школьных ворот, Беатрикс сбавила скорость на перекрестке, а затем и вовсе встала, чтобы пропустить машину справа. За ней ехал грузовик. Водитель, принявший за обедом четыре пинты пива, не заметил, как она тормозит, скорости не сбавил и врезался в багажник ее машины. К счастью, младшие дети Беатрикс остались дома, под присмотром няни, иначе они бы погибли. В автомобиле находилась только Беатрикс. Ее швырнуло вперед, ремень безопасности в какой-то степени минимизировал ущерб (по крайней мере, Беатрикс не вылетела через лобовое стекло, а значит, лицо у нее не пострадало), но травмы от удара она получила серьезные. Ей повезло дважды – если вообще можно говорить о везении в таких случаях, – она ехала на «фольксвагене»-жуке. В тогдашней Британии эта марка машин была редкостью: сказывалось глубоко въевшееся отторжение немецких изделий. Я иногда думаю, уж не купила ли Беатрикс «фольксваген» именно по этой причине, чтобы позлить своих чванливых «старорежимных» соседей в пригороде. Словом, в некотором смысле автомобиль ее спас: если бы Беатрикс управляла машиной с прямоугольным багажником, грузовик бы просто въехал в него, раздавив водителя в лепешку, но поскольку у «фольксвагена» зад скошенный, кабина грузовика лишь накрыла багажник, и это смягчило удар.
* * *
Об автокатастрофе я узнала приблизительно месяц спустя из маминого письма. Жила я тогда, как уже говорилось, в комнате в Вондсворте, и телефона у меня по-прежнему не было. С Беатрикс я в то время общалась эпизодически. Встречи в кругу ее семьи расстраивали меня и смущали Tea, которая очень долго относилась ко мне теплее и нежнее, чем к родной матери. И мне казалось, что у меня нет иного выбора, кроме как уйти в тень и не навязываться. Так я и сделала. Однако, услыхав об аварии, я немедленно связалась с Беатрикс и спустя пару дней навестила ее в больнице. Она тогда выздоравливала после первой – в череде многих – операции на поломанной шее. Операция прошла неудачно, поэтому Беатрикс еще не раз ложилась в больницу, надолго расставаясь с семьей.
Бедная Беатрикс. Когда я к ней пришла, боли уже ее не мучили, но передвигалась она с трудом. Прежняя подвижность к ней долго не возвращалась и полностью так и не вернулась, с той поры она больше не могла вертеть головой, но поворачивалась к собеседнику всем телом. Ей сказали, что исправить это уже нельзя. Бесконечные госпитализации тоже создавали немало проблем. У Беатрикс на руках было трое детей, причем двое из них совсем маленькие. Требовать помощи от Чарльза было бесполезно, он с утра до ночи пропадал на работе. Чарльз был человеком замкнутым, неэмоциональным, но безусловно порядочным, что во многом и определило события последующих лет. Сама посуди: Беатрикс часто отсутствовала, и Чарльз мог бы запросто воспользоваться предоставленной ему свободой – например, дать деру в Канаду или завести роман с няней, – но он всегда поступал правильно. Прямодушный, надежный Чарльз. Меня так и подмывает добавить: истинный канадец, хотя ты, возможно, сочтешь такое обобщение нелепым. Словом, его преданность сыграла большую роль, в этом нет сомнений. Если бы не он, не знаю, что стало бы с детьми, ведь в самые важные годы, когда у малышей формируется характер, их мать постоянно укладывали в больницу на длительные сроки.
Да, заслуги Чарльза велики, но голову даю на отсечение: львиная доля его внимания приходилась на родных детей, сына и дочь. Кто его осудит за это? Никто. И уж подавно не я. Однако с чем оставалась Tea? Каково приходилось ей?
На снимке мы с Беатрикс сидим не очень близко друг к другу. Между нами промежуток сантиметров в двадцать, хотя скамейка довольно короткая. Наверное, не стоит придавать этому обстоятельству слишком большого значения. И между прочим, если кто и пытается отодвинуться от соседки, так это Беатрикс. Она положила руку на спинку скамьи и немного наклонилась в сторону. Я же подалась вперед, к фотографу, с несколько раздраженным видом, словно мне не терпится встать и прогуляться по парку. Пожалуй, ничего иного из положения фигур на снимке не вытянешь, и все же в наших отношениях за последние годы произошли значительные перемены. Прежде, как ты знаешь, мне казалось, что я связана с Беатрикс неразрывными узами, а наша дружба, зародившаяся во время войны, когда меня эвакуировали в дом ее родителей, вечна. Увы, больше я так не думала, и сама идея вечной дружбы представлялась мне теперь ребяческой. Однако на смену ей пришло другое чувство, более реалистическое и, на мой взгляд, более прочное. То, что притягивало меня к Беатрикс, то, на чем ныне держалась моя преданность ей, было любовью к ее дочери. Пусть это прозвучит странно, но я опасалась за Tea. Я не могла точно определить, что именно ей угрожает, хотя сейчас я отлично понимаю причину моего беспокойства: Tea грозила участь нелюбимой дочери либо недостаточно любимой. Спасти ее стало моей тайной целью. И даже – полагаю, это не тот случай, когда следует бояться громких слов, – чем-то вроде священного долга.
Но видишь ли, Имоджин, когда столько лет прошло, я уже ни в чем не уверена, ясность и определенность куда-то улетучились. Так кто же на самом деле страдал от недостатка любви – твоя мать или я сама? Я всей душой рвалась к ней, мечтала вновь оказаться рядом с Tea – но почему? Чтобы бескорыстно помочь ей? Или потому что моя собственная жизнь была пуста и лишена любви? Я тогда работала старшим продавцом в универмаге «Ардинг и Хоббс» в Клэпхеме. После рабочего дня я возвращалась в свою комнатенку, готовила ужин из дешевых продуктов, читала бульварные романы или слушала радио, а потом ложилась спать. Что тут лукавить, существование мое было абсолютно безрадостным. Сколько-нибудь настойчивых попыток познакомиться с кем-нибудь я не предпринимала. С коллегами по работе общалась исключительно по делу и не прилагала никаких усилий, чтобы подружиться с ними. Четыре года минуло, как Ребекка бросила меня, но я по-прежнему тосковала по ней. (И до сих пор тоскую, если хочешь знать правду. Разумеется, былой остроты в этом чувстве уже нет, оно стало привычным, ко всему привыкаешь.) В общем, моя жизнь утратила вкус. Жить без Ребекки было все равно что сидеть на хлебе и воде, «на нескончаемой скудной диете» – так, кажется, пелось в какой-то песенке. Иногда мне трудно разобраться, где мои собственные мысли, а где чужие, позаимствованные из самых разных источников… Стоп. Хватит посторонних рассуждений и хватит поминать Ребекку на каждом шагу. История, которую я рассказываю, обо мне и Беатрикс, о нас двоих, то есть в итоге – о тебе.
В моей тогдашней тусклой жизни все же имелось светлое пятно: моя старшая сестра Сильвия вышла замуж за парня по имени Томас, у них родилось двое детей, сын Дэвид и дочка Джилл. Именно моя племянница Джилл, если все получится так, как я задумала, передаст тебе эти кассеты. В ту пору, когда мы с Беатрикс фотографировались в больничном парке, племянники были маленькими, но я помню, как ездила с семейством сестры за город на несколько дней и мне понравилось в обществе этих детей. В силу обстоятельств виделись мы не часто, а когда племянники выросли, эти встречи почти прекратились, но я не упускала их из виду, хотя сами они, возможно, и не подозревали о моем интересе к ним. Мне было легче жить, зная, что они существуют на свете. Особенно последние двадцать лет после того, как я лишилась и тебя, и твоей матери…
Постой-ка, Имоджин, я кое-что вспомнила. Обрывок разговора… Не знаю, когда он состоялся (и теперь уже не узнаю) – в тот ли день, когда мы фотографировались, или в какой другой. Весьма возможно, что в тот самый, но утверждать наверняка не берусь, ведь мои посещения Беатрикс в лечебнице всегда протекали по одному и тому же сценарию. Беатрикс ждала меня внизу, в библиотеке или общей комнате, и мы сразу отправлялись гулять в парк или сидели на скамейке – перед вербеной либо напротив небольшого огорода, где выращивались травы в миниатюрных квадратных ящичках. Беатрикс быстро уставала, и я вела ее в палату, где мы недолго беседовали, прежде чем она ложилась в постель. От таблеток, которые она принимала, ее часто клонило в сон средь бела дня. На окне ее палаты были не шторы, а ставни. Я закрывала их, но ставни не были глухими, и я очень хорошо помню, как тонкие полоски света и тени падали на ее лицо и голубоватые простыни, на которых она лежала, медленно смыкая веки. И вот однажды – это как раз то, о чем я вспомнила, – когда она заснула (или мне так показалось) и ее дыхание стало ровным и спокойным, я надела пальто, взяла свои вещи и направилась к выходу. Но стоило мне взяться за дверную ручку, как я услыхала ее вялый сонный голос: – Роз?
Я обернулась. Беатрикс лежала на боку, лицом ко мне, глаза ее были по-прежнему закрыты.
– Да, дорогая, – откликнулась я, – тебе что-нибудь нужно?
И тогда она забормотала – невнятно, будто в забытьи. Нелегко было понять, что она лепечет, но когда мой слух уловил слова «Ну почему он это сделал? Почему убежал вот так?» – я оторвалась от дверной ручки и подошла поближе. Сперва я подумала о водителе грузовика, но, быстро сообразила: шофер никуда не убегал, было заведено уголовное дело, и в итоге его наказали пустяковым штрафом за неосторожное вождение. Тогда не о Джеке ли она говорит и бесславном окончании их путешествия в цыганской кибитке? Но Джек не ударялся в бега, Беатрикс сама его бросила. Значит, речь не о нем. И уж никак не о Роджере, ее первом муже, с которым она развелась.
– Почему? – повторяла Беатрикс. – Почему он сбежал?
И тут я поняла, о ком она вспомнила в полусне, – о Бонапарте, глупом пуделе, любимце ее матери, и о морозном зимнем дне на катке, когда пес, устремившись за горизонт, пропал навсегда.
– Я все время думаю об этом, – причитала Беатрикс. – Не могу не думать. И ничего не понимаю. Ну чем я его обидела?
Тогда я сказала ей, что псу не за что было на нее обижаться и что порою события происходят без всяких причин. Я присела на край кровати, сжала в ладонях ее ледяную руку, но, что бы я ни говорила, Беатрикс оставалась безутешной. Она заплакала, по-прежнему не открывая глаз, слезы выныривали из-под век и текли по щекам; вскоре она уже всхлипывала, судорожно, истерично. Я крепко обняла ее, продолжая увещевать. Не помню, что я говорила, да это и неважно, потому что Беатрикс не слышала меня, она была где-то далеко, там, где нет места утешениям.
Следом за тем, как был сделан снимок номер четырнадцать, наши отношения с Беатрикс испортились окончательно.
Вряд ли такое можно предвидеть, глядя на пять улыбающихся физиономий, запечатленных на фотографии. Год 1962, и бог ты мой, как же молодо мы выглядим – Беа и я! Но что же я говорю, ведь мы и были молоды, а это еще удивительнее. Мне двадцать девять, ей тридцать два – возраст, когда разница в три года, казавшаяся такой непреодолимой в детстве, теперь ничего не значила. Двадцать девять! Всего-то? Девчонка, малявка, и тем не менее… Тем не менее я отчетливо помню, что в тот день я чувствовала себя старухой. С какой стати, спрашивается? Единственная причина, похоже, – завершение жизненного цикла. Круг замкнулся, история моей дружбы с Беатрикс подошла к концу. И моя, столь долгая, привязанность к ней отмирала.
* * *
Ох, я опять забываю о самом главном: я должна описать фотографию, чтобы помочь тебе ее увидеть. Но сначала дай-ка я сама ее разгляжу.
Так, я готова.
Пляжный домик, выкрашенный в густой синий цвет, за ним песчаные дюны, поросшие травой. Узкая полоска неба в глубине фотографии намного бледнее, чем синева домика. Домишко самый примитивный, – по сути, деревянный сарайчик с острой двускатной крышей. Под коньком крыши кто-то намалевал краской номер, 304, и имя дома – «Саспарелла», это одно из названий западного ветра, если мне не изменяет память.
Двойные двери дома распахнуты настежь, изнутри они белого цвета. На широком дверном проеме висит белая кружевная занавеска, она отдернута и подвязана лентой. В домике темновато, но кое-какие детали можно различить. Небольшой кухонный стол, тоже выкрашенный в белый цвет, а на нем газовая плитка и чайник. Стол придвинут к дальней стене, укрепленной по диагонали здоровенной балкой. Внутреннее помещение невелико – примерно шесть квадратных метров. На дальней стене справа три крючка, на одном из них висит пляжное полотенце в желто-синюю полоску. В углу прислонены к стене две детские удочки и прочие снасти для рыбалки. На полу валяются ведра, лопаты – всполохи синего, желтого и красного, но всего не разглядеть: слишком темно.
Домик стоит в ряду себе подобных. Расстояние между соседними домами не более полуметра. Перед домиком вместо крыльца деревянный настил такого же размера, что и внутреннее помещение. Слева желто-оранжевая стенка, защищающая от ветра. На настиле, слегка приподнятом над уровнем пляжа, сидят пятеро: мы с Беатрикс позади, в шезлонгах, а спереди, свесив ноги, устроились ее младшие дети, Джозеф и Элис. Твоей матери на этой фотографии почти четырна-дцать, и она стоит справа, между взрослыми и малышами, но не присоединяясь ни к тем ни к другим. Чарльза, мужа Беатрикс, на снимке нет, отсюда следует вывод, что он нас и фотографировал.
Но вполне вероятно, что Чарльза с нами тогда вовсе не было и мы попросили какого-нибудь полузнакомого отдыхающего щелкнуть нас. В то долгое лето, которое Беатрикс провела с детьми на южном побережье, Чарльз навещал семью только по выходным. Сам он оставался в Пиннере, откуда каждый день ездил на работу в Сити.
* * *
Беатрикс пригласила меня погостить у них две недели. Те самые две недели, которые няня провела в отпуске в Шотландии, где жили ее родители. Словом, меня призвали, чтобы ее заменить.
Конечно, я не сразу это поняла. Поначалу я думала, что Беатрикс соскучилась по мне, но, когда увидела отведенную мне комнату, все встало на свои места. На лето Беатрикс с Чарльзом сняли великолепный дом на окраине Милфорда. Должно быть, это удовольствие стоило им кучу денег, но, с другой стороны, Чарльз тогда и зарабатывал кучу денег. Дом был огромный, с девятью спальнями, библиотекой, игровыми комнатами и угодьями, раскинувшимися на несколько акров. Ухоженный розовый сад, теннисный корт, а вокруг лес, скрывавший обитателей этой роскоши от чужого любопытства. Более идиллическую обстановку для семейного отдыха трудно вообразить; ключи от пляжного домика, о котором я уже рассказала, входили в комплект удобств.
Моя же комната располагалась на самом верху, в чердачном помещении. Такие комнаты обычно приберегают для кухонной прислуги. Очевидно, Беатрикс полагала, что я, обыкновенная продавщица, буду счастлива провести пару недель в столь чудесном месте на любых условиях. Я не жалуюсь, ни в коем случае, – дискомфорта я не испытывала. Я лишь говорю о том, что с самого начала мне ясно дали понять, каков мой статус в этом доме.
Не могу сказать, что я полюбила младших детей Беатрикс. Ничего отталкивающего в них не было, но – пожалуйста, пойми меня правильно – и ничего особенного тоже. А я, вероятно в силу некоей самонедостаточности, всегда предпочитала общество детей особенных. Я имею в виду вовсе не коэффициент интеллекта или ранние проявления музыкального гения, но внешнюю привлекательность ребенка, его манеру говорить, чувство юмора, умение развлекаться и ту непоседливость и живость, которая так очаровывает в детях. Твоя мать обладала перечисленными качествами в полной мере; за те годы, незабываемые годы, что мы с Ребеккой опекали ее, я это хорошо усвоила. А вот Джозефу и Элис, боюсь, нечем было похвастать. Во-первых, у обоих была самая заурядная внешность, что странно при таких-то родителях, писаных красавцах. Бледное личико Джозефа – а если без экивоков, бледное с красными пятнами – придавало ему нездоровый вид, словно он постоянно пребывал на грани какой-нибудь страшной болезни.
На снимке он выглядит насупившимся, таким я его и запомнила. Похоже, он жил в состоянии непрерывной и часто плаксивой тревоги, и вряд ли эта тревога была вызвана какой-нибудь неразрешимой экзистенциальной проблемой (ты знаешь, что есть дети, которых терзают такого рода раздумья); скорее уж он беспокоился по куда более обыденным поводам – например, кто и чем его опять побалует. Держу пари, что, судя по горестному унынию на его физиономии, он уже минут пять как не ел мороженого и поэтому чувствует себя совершенно несчастным. Джозеф, голый до пояса, в синих плавках, сидит сгорбившись, будто прячась от холодного ветра, а может, и от всего мира. Сколько ему лет на фотографии? Около семи, полагаю. Элис на два года младше, значит, ей почти пять. Она посимпатичнее своего брата, но ненамного. На ней красный купальник с треугольным вырезом, декольте украшено белым цветком, похожим на маргаритку. Элис крепко держится за край настила, словно боится свалиться с него, и, похоже, она сердится либо просто щурится на солнце. Но весьма вероятно, что она только что поссорилась с Джозефом. Грызлись они постоянно по самым ничтожным и банальным поводам – чаще всего из-за того, кому где сидеть. Они бились за стул за обеденным столом, за кресло в кинотеатре или цирке, за место на коврике во время пикника и даже на заднем сиденье машины. Бесконечные нудные территориальные споры. Достаточно было понаблюдать за ними с полчаса, чтобы досконально изучить прискорбную механику военных конфликтов. Я от них очень уставала.
Мы с Беатрикс купальников не надели, хотя, помнится, лето было жарким и мы часто купались. Но на сегодня купание, видимо, отменили. На снимке я в белой блузке с короткими рукавами и бежевых шортах, доходящих почти до колен. На ногах прочные кожаные сандалии с открытыми пальцами – и сразу видно, что я не имела привычки красить ногти на ногах, в отличие от Беатрикс. У нее ногти ярко-зеленые, и это мгновенно привлекает внимание и озадачивает. Беатрикс на снимке босая, на ней летнее платье, желто-зеленое, светлых пастельных оттенков, без рукавов и с глубоким вырезом. Надо признать, смотрится шикарно. Пройдись она в таком наряде по главной улице Милфорда, на нее бы все оборачивались. Рядом с ней я выгляжу убого. Наверное, остриги я волосы еще короче, меня бы приняли за скинхеда.
Поглядеть на нас – счастливое семейство на отдыхе, за вычетом главы семьи, но со своевременным добавлением в образе верной подруги. Я чуть было не сказала «одинокой тетушки», потому что именно так я себя ощущала в то время. Пройдет еще несколько лет, прежде чем я встречу Рут, но здесь я – одинокая женщина, и уже очень давно. Когда Ребекка ушла и я перестала ежедневно видеться с Tea, на меня накатила жуткая тоска, – накатила, да так со мной и осталась. Я привыкла жить с тупой непреходящей болью внутри, а когда меня допускали к Tea, эта боль взыгрывала, усиливаясь и обостряясь. Я начинала разрываться между радостью и мукой. Радость – понятно откуда, а мука – потому что я ни на минуту не забывала: срок моему счастью уже отмерен. В то лето на общение с Tea мне отмерили лишь две недели. Затем я должна была вернуться в Лондон – к работе и одиночеству.
Гостью, у которой не получается беспечно наслаждаться отдыхом, наверное, нельзя назвать приятной. Но даже если я и пребывала в мрачности с утра до вечера, мое состояние, по крайней мере, отличалось ровностью, и дети это ценили. В моем вечном унынии они черпали стабильность. И напротив, Беатрикс вела себя вздорно и непредсказуемо. В определенной степени она и раньше была такой, однако с возрастом смена ее настроений приобрела совсем уж катастрофический характер. Она либо безудержно веселилась и дурачилась, либо внезапно, ни с того ни с сего впадала в дикую ярость. Момент перехода был почти незаметен, но, понаблюдав за ней, я поняла, что вызывает бурю. Ее нельзя было оставлять одну даже на пять минут. Стоило ей остаться наедине с собой хотя бы на самое короткое время, как она вспоминала о своих бедах, и ее тут же охватывали горечь и обида. Обозлившись на судьбу и рассвирепев, Беатрикс не щадила никого. Доставалось даже Джозефу и Элис, она могла наорать на них, наорать за какой-нибудь пустяк – уронили одежду на пол или капнули апельсиновым соком на майку. Чарльз тоже не входил в число неприкасаемых, его ежедневные звонки (звонил он обычно по вечерам, сразу после ужина) нередко оборачивались громкой разнузданной перепалкой. Беатрикс, не стесняясь ни меня, ни детей, грязно оскорбляла мужа и сыпала непристойностями, смысл которых я по большей части не понимала, потому что никогда прежде ничего подобного не слыхивала, а тем более из женских уст. Бедняга Чарльз, понятное дело, ничем не заслужил такого обращения, но Беатрикс была твердо убеждена: оставаясь в Лондоне без жены и детей, он всякий раз заводит интрижку на стороне. А может, и не одну, то бишь спит со всеми подряд. Мысль абсолютно неправдоподобная. Если бы ты, Имоджин, увидела его хоть раз, то согласилась бы со мной. Чарльз не только был предан семье, не только работал как проклятый, но вдобавок он абсолютно не годился для адюльтера. С моей точки зрения, во всяком случае. Беатрикс, однако, вбила себе в голову, что он регулярно наведывается к некой даме, их соседке и по совместительству другу семьи. Доказательств этой связи у Беатрикс не имелось никаких, и, когда Чарльз приезжал, этот морок (иного слова не подберу) скоро рассеивался. Но я научилась распознавать тот миг, когда он начинал ею овладевать. Вот она сидит одна в кресле у застекленных дверей, распахнутых в сад; смотрит прямо перед собой, чуть исподлобья, невидящим взглядом, но пристально и хмуро, а ее мысли витают в каком-то опасном далеке. За этим, как правило, следовал взрыв.
А теперь, Имоджин, угадай, на кого обычно обрушивался девятый вал ее гнева? Правильно, на Tea. На твою маму Tea. Думаю, долго гадать тебе не пришлось.
Как я уже говорила, Беатрикс кричала и на своих младших детей из-за всякой ерунды. Но с Tea она обращалась намного хуже. Позволь, я расскажу тебе об одном эпизоде. Кстати, этот эпизод завершился тем, что я была вынуждена уехать из Милфорда раньше обговоренного срока.
Шла вторая неделя моего пребывания у Беатрикс. Утром того безумного дня мы с Tea ходили гулять. В траве, между домом и морем, вились бесчисленные тропинки, мы там собирали чернику. Набрав полную миску, Tea вернулась домой и с гордостью поставила добычу перед матерью; та что-то отрывисто пробормотала, но на ягоды едва взглянула, хотя любила чернику, да и собирали мы ее в основном для того, чтобы ублажить Беатрикс. После обеда я вышла в сад, где уселась в шезлонге с книжкой, a Tea отправилась на кухню варить черничное варенье.
Забыла упомянуть: дня за три до того Беатрикс ездила в Лимингтон за покупками и вернулась с новой кофточкой для старшей дочери. Очень миленькой кофточкой и очень дорогой, из белого муслина. Типичный подарок от Беатрикс: она редко покупала детям одежду, но если уж покупала, то что-нибудь необыкновенное, не считаясь с расходами, и такое красивое, что и надеть-то обновку было некуда. Кофточка для Tea стоила, наверное, больше десяти фунтов – приличные деньги по тем временам, – но Tea, разумеется, не могла оценить по достоинству материнский жест, и никакой ребенок не смог бы. Конечно, она обрадовалась кофточке и была благодарна матери, но в ее глазах это была всего лишь еще одна одежка, пусть и ужасно красивая.
Наверное, ты уже и без меня знаешь, что произошло.
Да-да, когда Tea принялась варить варенье, на ней была та самая кофточка с иголочки. Высыпав ягоды в большую кастрюлю, Tea на полную мощность включила газ. Ягоды закипели и начали лопаться, брызгая черничным соком; несколько капель упало на белую кофточку. По-моему, Tea этого даже не заметила, но первое, что увидела ее мать, войдя на кухню, – эти черничные пятна.








