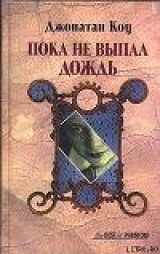
Текст книги "Пока не выпал дождь"
Автор книги: Джонатан Коу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Ладно, идем дальше. Номер восемнадцатый. Я долго тянула – очень долго, – прежде чем приступить к этой фотографии. Но больше откладывать нельзя. Время поджимает.
Да ведь и осталось-то всего два изображения. Конец близок, Имоджин. И мой тоже – близок как никогда. Думаю, в моем распоряжении не больше часа. А потом все закончится. Только один час! Не много, скажем прямо, если вспомнить, сколько тысяч, сотен тысяч часов я прожила. Но что делать. Я абсолютно спокойна и собранна. Самое важное сейчас – исполнить свой долг: вернуть то, что я тебе задолжала. А именно описать эту фотографию и рассказать ужасную историю, которая за ней таится.
На снимке опять твоя мама Tea. Скажу сразу, что это последний снимок твоей матери, который я когда-либо видела. Не знаю, кто его сделал. Снимок черно-белый, что удивительно: разве мы не живем в эпоху цветной фотографии? Я вырезала его из газеты, так что он довольно нечеткий. Вдобавок типографская краска успела выцвести, а газетная бумага пожелтеть, поэтому рассмотреть хорошенько лицо твоей матери труднее, чем обычно. Но с этим придется смириться. Другого изображения Tea у нас нет.
Невозможно определить, сколько ей здесь лет, но по моим прикидкам – двадцать семь или двадцать восемь. Лица Tea целиком не видно, и виной тому не только плохое качество снимка: Tea отвернулась от объектива и смотрит куда-то вправо и вниз. Веки у нее полуприкрыты. Одета она (насколько я могу разобрать) в огромную дубленку, хотя она явно находится в помещении – на заднем плане обои с выпуклым рисунком. Распущенные волосы до плеч, слева они слегка взъерошены, открывая высокий лоб. Длинная прядь падает на правый глаз. Нос выглядит длинным и худым, однако я его помню совсем не таким. И опять повторю, в который уже раз: фотография умеет лгать. Какое у Tea выражение лица? И с этим возникают трудности. Не сочтешь ли ты мой ответ чрезмерно уклончивым, если я скажу «непроницаемое»? На ее губах играет улыбка, словно она смеется чему-то про себя, но причину своего веселья хочет сохранить в тайне и от нас, и от фотографа. Вот, пожалуй, и все. Как я уже упоминала, снимок не очень хороший, да и поместили его в газете вовсе не для того, чтобы предложить читателям психологический тест: мол, угадайте по чертам лица характер этой девушки. Отнюдь. В газете его напечатали лишь для того, чтобы Tea смогли опознать. И этой цели фотография послужила прекрасно.
О боже. Как это все тяжело. Впервые (наверное, ты сейчас расхохочешься), впервые с тех пор, как я взялась описывать для тебя эти снимки, я чувствую свое косноязычие. В буквальном смысле не нахожу слов. Как бы трудно ни было подбирать слова, выискивать самое точное определение для цвета, формы, здания, пейзажа, фигуры или лица, – как бы трудно это ни было, нужные слова, по-моему, до сих пор находились. Но вот теперь, в финале, когда я должна поговорить с тобой о самом сложном и важном, я теряюсь, не зная, с чего начать.
Позволь, я выключу на минуту магнитофон. Мне необходимо поразмыслить.
* * *
Хорошо. Вперед. Не думаю, что можно как-то облегчить и смягчить то, что я намерена сейчас рассказать, поэтому даже не стану пытаться. Это сделала твоя мать, Имоджин.
Впрочем, за столько лет ты уже и сама догадалась, правда? Скорее всего, догадалась. Ты ослепла по вине своей матери.
Как бы мне ни хотелось верить, что произошел несчастный случай, врачи придерживались иного мнения, и суд в итоге с ними согласился. Tea страшно рассердилась на тебя – не знаю, что ее так взбесило, наверное, обычная детская проказа, – и она ударила тебя, а потом, схватив за плечи, начала трясти и трясла с такой силой, что с того дня ты перестала видеть. Тебе тогда едва исполнилось три года.
Помнишь ли ты, как это случилось? Мне сказали, что нет: ты стерла это из памяти. Ты помнила многое другое из своей жизни до трех лет, но тот день, то утро, ту… катастрофу – нет. Ты наотрез отказалась от таких воспоминаний. Где-то я прочитала: «У нас в головах стоят предохранители».
Возможно, настал твой черед выключить ненадолго магнитофон. Возможно, теперь тебе понадобилось перевести дух и немного подумать.
А я пока продолжу. Мне не терпится разделаться со всем этим.
* * *
О случившемся мне сообщила Беатрикс – по телефону. Она срочно прилетела из Канады и в первый же день навестила дочь; визит, полагаю, был кратким. Когда Беатрикс позвонила мне, она уже недели две обреталась в Лондоне, но о том, чтобы встретиться, речь не заходила.
– Роз, – услышала я в трубке, – это Анни.
Только Анни. И никогда больше Беатрикс. У нее даже появился канадский акцент, либо она его старательно копировала. В подробности она вдаваться не стала, сказала лишь (я в точности передаю ее слова), что глупая корова Tea опять влипла в неприятную историю. И сказано это было тоном если не светским, то, во всяком случае, невозмутимым. О полной потере зрения, угрожавшей тебе, она даже не заикнулась (я узнала об этом позже, от других людей). Так что поначалу я не испугалась и не всполошилась, и наша беседа текла довольно ровно, пока Беатрикс не упомянула, где находится твоя мать. В тюрьме. В женской тюрьме графства Дарем. Под залог Tea не выпустили, оставив под стражей до суда. Я объявила Беатрикс, что немедленно еду в Дарем.
Тяжелое было время. Невыносимое. Тюрьма – отвратительное место, много хуже, чем мы способны вообразить. Твоя мать выглядела… и опять слова подводят меня… отупевшей.
Разумеется, она была в состоянии шока и пока не могла осознать весь ужас того, что совершила. Отчужденность, замкнутость, которые я подметила в ней еще на рождественских праздниках в «Мызе» (двенадцать лет назад! как же давно это было!), теперь поглотили ее целиком. Погасшие безжизненные глаза, глаза человека, больше не рискующего смотреть миру в лицо. Нельзя было понять, рада она видеть меня или нет. Она цедила слова по каплям. Больше молчала. Я пыталась выудить из нее детали происшедшего, но тщетно.
Мартин ее бросил – об этом она мне доложила. Сгинул без следа, оставив вас с мамой одних. Правда, не в прицепе на холодном побережье, но в маленьком муниципальном доме неподалеку от Лидса. Не знаю, куда он отправился и что с ним стало. И, откровенно говоря, не хочу знать. Хотя в наше первое свидание в тюрьме слабое оживление, слабая тень жизни мелькнула на лице Tea лишь однажды, когда речь зашла о Мартине: она принялась умолять меня разыскать его и уговорить вернуться. Бедняга. Она совсем запуталась. Мне представлялось куда более важным обсудить твое будущее, Имоджин, и сделать все, что в наших силах, чтобы избавить тебя от дальнейших страданий, но эта тема (печально, что мне приходится говорить тебе такое) отклика в Tea почти не возбуждала. Надеюсь все же, что равнодушие Tea к собственному ребенку поможет тебе понять, где оказалась твоя мать в этом промежуточном итоге своей короткой жизни. А оказалась она там, где материнские чувства не выживают, где им уготована лишь одна судьба – зачахнуть и погибнуть, и не только им, но всякому чувству, если не считать бессмысленной, маниакальной привязанности к Мартину. К Мартину, которому было глубоко плевать на Tea.
Впрочем, я тоже стала жертвой иллюзии, и еще какой, вообразив, будто мы с Tea имеем право голоса в решении вопроса о твоем будущем. Как только тебя выписали из больницы, ты попала в патронатную семью. Это пристанище было временным – до окончания судебного разбирательства. Суд состоялся через полгода после ареста твоей матери. Ее признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений – непреднамеренном, слава богу (иначе срок был бы много длиннее) – и отправили обратно в тюрьму еще на полгода. А социальная служба тем временем озаботилась поиском семьи, которая согласилась бы тебя удочерить.
Мне казалось, что наилучшее и самое простое решение этой проблемы лежит на поверхности: ты переезжаешь в Лондон и поселяешься у нас с Рут. Мы жили в большом уютном доме, не связанные никакими обязательствами по отношению к другим родственникам. И – с моей абсолютно эгоистичной точки зрения (хорошенький эгоизм, возможно, заметишь ты, памятуя о том, что тебе довелось пережить) – присутствие маленького ребенка согрело бы наш дом. Я уже не раз говорила: к Рут я испытывала огромную нежность. Но было бы неправдой утверждать, что ей удалось целиком заполнить эмоциональную пропасть в моей жизни, образовавшуюся после потери Ребекки. Ощущала ли это сама Рут, я не знаю; о Ребекке я никогда ей не рассказывала. Мы с Рут были счастливы, нам было легко вдвоем, я этого нисколько не отрицаю. Но когда я думала, Имоджин, о том, как ты поселишься у нас, как будешь любить нас, а мы тебя опекать (и не просто опекать, но караулить каждый твой шаг теперь, когда тебя столь жестоко превратили в калеку), – от этих мыслей у меня захватывало дух. Ничто не могло компенсировать тебе потерю зрения, ничто не могло повернуть время вспять и предотвратить трагедию, обрушившуюся на тебя и твою мать. Но это не означало, что ничего хорошего отныне тебя не ждет, – я бы такого не допустила. Мы с Рут взяли бы тебя под свое крыло и создали тебе, вопреки всему, чудесное детство, самое лучшее, какое только можно пожелать, – исполненное любви и внимания. Мы бы дали тебе то, чего у твоей матери никогда не было. И тогда, может быть, в следующем поколении чаши на весах справедливости уравнялись бы. Словом, вот какие возможности, на мой взгляд, таила сложившаяся ситуация.
Ха-ха! Я заблуждалась. И сильно заблуждалась. Не Рут отвергла мои планы, как ты, возможно, подумала. Верно, поначалу она не горела энтузиазмом. Пришлось ее убеждать, и тут я не могла не вспомнить очень похожую беседу с Ребеккой, состоявшуюся четверть века назад, накануне ее выпускного вечера. То, что тогда казалось суровым испытанием, теперь виделось сущей ерундой. Какими же мы с Ребеккой были детьми! И как плохо я умела предвидеть будущее! Оно оказалось куда изощреннее, чем мое воображение. Если бы я тогда знала, что станет с Tea, во что она превратится… Но что толку – ни малейшего – вдаваться в подобные размышления. Очнись, Розамонд. Немедленно очнись.
Нет, не Рут встала на моем пути. Бюрократы, аппаратчики из социальной службы и слушать меня не хотели. Мы оказались неподходящими кандидатурами на роль приемных родителей. Во-первых, мы были слишком старыми. Это еще можно было бы как-нибудь обойти, но камнем преткновения стал пункт, который они предпочли обозначить (в сухом и кратком извещении об отказе) нашими обстоятельствами. Естественно, они имели в виду тот факт, что две женщины живут вместе, не делая тайны из природы своих отношений и создавая тем самым, витийствовали чиновники, пагубную домашнюю обстановку, которая, несомненно, подействует на маленькую девочку, отданную нам на попечение, и посеет смуту в душе ребенка. Конечно, это наивно с моей стороны, но их грязные намеки меня потрясли. За последние годы я привыкла к либерализму и толерантности окружающих. Скажешь, я существовала в собственном уединенном мирке? Но когда, привыкнув к такой жизни, вдруг узнаешь, что остальное общество думает о тебе, – это тяжелый удар, хотя и отрезвляющий. Я и не представляла, до какой степени в глазах многих людей мы с Рут остаемся отщепенцами и париями.
Тем не менее я была не готова принять поражение. Когда твою мать осудили и она начала отбывать срок, я поехала ее навестить. Это был последний раз, когда я ездила к Tea в тюрьму, а затем я встретилась с моей корреспонденткой из социальной службы. Я специально напросилась на эту встречу в надежде, что беседа с глазу на глаз поможет пробить стену черствой официальности. И в некотором смысле – весьма ограниченном – мои надежды сбылись. Разумеется, беседовали мы вежливо и порою даже сердечно. Но моя визави никак не могла понять, что мною движет.
– Я в недоумении, – твердила она. – Вы сами сказали, что видели Имоджин лишь раз в жизни, и, однако, пытаетесь убедить меня, что между вами и ребенком существует некая особенная связь, которую нельзя рвать.
Ну и что я могла на это ответить? Мне потребовалось много часов и десятки тысяч слов, рассыпанных по этим пленкам, чтобы рассказать тебе, Имоджин, как образовалась и крепла эта связь. Но возможно ли объяснить то же самое всего лишь за двадцать минут и в придачу не злой, но очень недалекой чиновнице из службы раздачи подаяний? Затея, обреченная на провал. А кроме того, я опоздала.
– Мы уже нашли семью для Имоджин, – объявила она с улыбкой, которую иначе как торжествующей не назовешь. – Прекрасную семью.
Я сидела и открывала рот, как рыба, выброшенная на берег, вид у меня был наверняка крайне глупый. Новость меня ошарашила. Единственное, на что меня хватило, когда я наконец с грехом пополам осознала реальность нашего положения, это спросить:
– И что же, мне теперь запрещено видеться с Имоджин? А ее матери?
Чиновница ответила, что этот вопрос находится полностью в компетенции приемной семьи. Я поинтересовалась фамилией удочерителей. Она отказалась ее назвать. Это было уже слишком – о чем я и уведомила чиновницу в самых недвусмысленных выражениях. Она не дрогнула. Разве что снизошла, предложив следующее:
– Вы можете написать им, если хотите, через наш офис. Попросить о встречах с Имоджин. Но, если они обратятся за советом к нам, мы им скажем, что подобные контакты редко бывают продуктивными. Отношения Имоджин с матерью разрушены до основания и восстановлению не подлежат. А в таких случаях полный и окончательный разрыв с родными является тактикой наиболее разумной и наи-более благотворной для ребенка. Не забывайте, – тут чиновница пристально воззрилась на меня, – интересы ребенка превыше всего. Интересы Имоджин, а не окружающих ее взрослых.
Я вышла из офиса, скрежеща зубами, села в машину и заплакала от бессилия. Спустя несколько минут я включила зажигание и двинула домой, в Лондон.
Опять придется останавливать кассету. Извини. Я думала, что лучше умею владеть собой.
* * *
Ну вот, теперь дела у нас пойдут посноровистее. У меня в руке бокал виски. А рядышком почти полная бутылка. Старый добрый «Боумор» цвета торфа. Виски сейчас как нельзя более кстати.
Пока я ходила на кухню за бутылкой, я прокручивала, в голове то, что сказала тебе, прежде чем устроить передышку, и вдруг мне стало ясно – впервые за долгие годы, – какой же дурой я была, хотя уже и не молодой. Все: твоя новая семья, работники социальной службы, даже Рут, – короче, все, кроме меня, – понимали, что для тебя лучше всего. Серьезные трудности, с которыми ты столкнулась, необходимость столь многому научиться – совершенно новому способу восприятия и общения с миром, – и чтобы справиться со всем этим, тебе требовалась любовь, забота и в первую очередь покой. А значит, предпочтительнее было держать тебя подальше от матери. Логично, не правда ли? Но я не могла с этим согласиться. Даже в возрасте хорошо за сорок я продолжала относиться к жизни как девчонка – с неиссякаемым благодушием. Я по-прежнему верила в возможность примирения, да и моему самолюбию невероятно льстила идея, что это примирение будет достигнуто моими усилиями! Я воображала себя тайным и абсолютно незаинтересованным агентом, который незаметно для окружающих трудится в поте лица, подготавливая воссоединение сердец, но ошибке разлученных, и чудесное заживление ран. Я пока не знала, как я это сделаю. Но понимала, что такая работа непременно потребует терпения и хитроумия.
Я поддерживала отношения с твоей матерью. Не хочется и думать о том, что ей пришлось пережить в тюрьме. У зэков свои законы, и к тем, кто обидел ребенка, они беспощадны. Не сомневаюсь, Tea хлебнула лиха. Когда она вышла на свободу, мы время от времени переписывались, но я не могла не заметить, что от встреч со мной она уклоняется. Вдобавок события приняли новый и неожиданный оборот. В жизни Tea возник мужчина, некий мистер Рамси. Переписка между ними завязалась еще в тюрьме – он писал ей морализаторские, проникнутые религиозностью и, с моей точки зрения, злобные письма. Tea была тогда уязвима, невероятно уязвима, и, полагаю, этот гнусный хищник (Рамси прочел о деле Tea в газете) вознамерился прибрать ее к рукам с помощью изуродованной версии христианских проповедей об искуплении и прощении, – проповедей, которым человеку в ситуации Tea противиться почти невозможно. Незадолго до окончания срока ее заключения Рамси начал навещать Tea, а теперь они собирались зажить вдвоем. Мне это не нравилось, но что я могла поделать.
Тем временем я разработала план. Интуиция подсказывала: просто и откровенно по-просить твоих новых родителей о встрече с тобой означает нарваться на неудачу. Тут надо было действовать менее прямолинейно. Я написала им письмо, в котором нажимала на мои родственные отношения с тобой, вкратце обрисовав мое многолетнее участие в жизни Tea и ее семьи. Я заверила их, что отлично сознаю необходимость обрезать все ниточки, связывающие тебя с прискорбным прошлым, дабы ты обрела возможность начать жизнь с чистого листа, однако не утаила, что многие родственники скучают по тебе. В связи с чем я и обратилась к твоим новым родителям со скромной, но убедительной просьбой: нельзя ли сделать так, чтобы нам осталась какая-нибудь память о тебе? Нельзя ли, к примеру, написать твой портрет? Картину, в которой художник ухватил бы самую суть твоего существа, твоего нового «я», в тот момент, когда ты вторично – в более сложных условиях, но и с более светлыми перспективами – вступаешь в жизнь. Такая картина послужила бы нам подлинным утешением. Не говоря уж о том, что портрет – нечто более значительное, чем фотографии или памятные вещички, собирающие пыль на стене либо на каминной полке. Хороший портрет, в конце концов, обладает собственной витальностью: он живет, он меняется, потому что с годами меняемся мы сами и уже иначе смотрим на человека, изображенного на полотне. А кроме того, я знала, кому этот портрет заказать.
А вот и он. Изображение под номером девятнадцать – не фотография, нет, но твой портрет, написанный Рут и названный ею очень просто: «Имоджин, 1980 г.». Я держу его на коленях. Рама отсутствует, холст, масло; размер холста примерно двадцать пять на тридцать пять сантиметров. Рамы, насколько я помню, никогда и не было. Сама художница от портрета была не в восторге, и много лет он хранился на верхнем этаже нашего дома, в комнате, куда Рут складывала незаконченные работы. Это была холодная, заброшенная комната. Моя подруга называла ее «провальной». Но я считаю, что портрет хорош. Одна из лучших работ Рут. А не нравился он ей по причинам, не имеющим ничего общего с качеством живописи.
На улице уже темно – темно и тихо, – свет же в моей гостиной очень слабый. При таком свете на картине многое пропадет, и как же я буду ее описывать? А кроме того, я даже не знаю, сумею ли объяснить тебе приемы, к которым прибегает художник, ведь ты, возможно, в первые три года своей жизни ни разу не видела живописи, а если и видела, то забыла. Остается лишь надеяться, что, если ты сейчас слушаешь меня, значит, Джилл тебя разыскала, а следовательно, и портрет скоро окажется у тебя как часть твоего наследства. И ты сможешь хотя бы пробежаться по нему пальцами, как я сейчас это делаю. И ощутить, насколько жирно Рут клала краску. На ощупь поверхность картины грубая и чешуйчатая, чувствуешь? Такая у Рут была манера. Самый толстый слой в верхней части картины – это твои волосы. Шпателем Рут накладывала один на другой различные оттенки оранжевого, золотистого и желтого. Знаю, такие вещи о произведении искусства нельзя говорить, не рискуя быть обвиненной в невежестве, но не могу не заметить: мне лично помнится, что твои волосы не были такими густыми и спутанными, какими их изобразила Рут. Но для того, чтобы выяснить, кто прав, надо бы сравнить портрет с фотографией, по которой она работала, однако этот снимок наверняка уничтожили.
Твои родители, к сожалению, не разрешили тебе позировать для портрета. Рут пришлось писать по фотографии, чего она обычно не делала. Да и моя главная цель не была достигнута, но я не расстроилась и не опустила руки перед, как я полагала, временными трудностями. Я упорно продолжала общаться с твоей семьей. Прошло не так уж много времени, и мы начали с тобой встречаться – правда, очень редко. Меня подпустили к тебе всего раза три-четыре. Немного, что и говорить, но я дорожу воспоминаниями о каждой из этих встреч. Я еще к этому вернусь.
Но сперва поговорим о портрете. Ты сидишь верхом на деревянной ограде, которая пересекает по диагонали левый нижний угол холста. На тебе светло-зеленые брючки и синяя майка. Припоминаю, что на фотографии майка была нежно-кремовая, но Рут этот оттенок не нравился. Контраст между насыщенным ультрамарином майки и цветом твоих волос и впрямь сразу бросается в глаза. Думаю, такого эффекта Рут и добивалась. Фоном картины служит пестрая мешанина из различных оттенков зеленого, смутно напоминающая листву, сквозь которую кое-где проглядывает белесое небо. Поскольку ты оседлала забор, твоя фигурка изображена не фронтально, но и не в профиль, а «в три четверти» – так это, кажется, называется у художников. Однако лицо повернуто к зрителю, и ты улыбаешься – весело, беззаботно; нижняя челюсть у тебя слегка выпячена. Подозреваю, что так же, как густоту волос, Рут преувеличила и размеры твоей челюсти. Она терпеть не могла сугубый реализм ни в литературе, ни в искусстве.
У Рут это полотно – одно из самых доступных для понимания. Даже когда она писала портреты, – а к этой работе она относилась пренебрежительно, хотя в основном портретирование и оплачивало наши счета, – ее видение модели часто грешило некоторыми искажениями. Случалось, что заказчики, увидев конечный результат, требовали деньги назад. Рут только посмеивалась, ведь по современным меркам ее стиль был, в общем-то, довольно консервативным. Она никогда не метила в модные художники. Никогда не получала премий, крупные галереи почти не покупали ее картин – уточню, британские галереи. Иногда ее это огорчало – особенно к концу жизни. Она понимала, что кому-то ее работы кажутся слишком смелыми и сложными, а кому-то – чересчур традиционными. Иными словами, ни то ни се. Помню, незадолго до смерти она сказала, что зла на себя: мол, надо было выйти за рамки, спустить воображение с привязи. По-моему, она чувствовала, что была слишком осторожна и в жизни, и в живописи, будто скованной чем-то, – возможно, страхом причинить боль кому-нибудь из близких. Наверное, это как-то связано с ее семьей, с условиями, в которых она росла. А может быть, это я не давала ей развернуться. Ведь по натуре я не бунтарь и не искательница приключений, и, хотя мы с Рут не скрывали наших отношений, во всем прочем я зорко следила, чтобы наша жизнь протекала вполне респектабельно.
Но вернемся к твоему портрету (к делу, к делу, Розамонд!). Не сомневаюсь, Рут написала тебя в стрль простой и реалистичной манере под моим давлением. Мне больше всего хотелось, чтобы ты вышла похоже, в чем Рут, разумеется, блестяще преуспела. Мне нравится, что она изобразила тебя слегка ссутулившейся, словно ты оберегаешь какой-то забавный секрет, известный лишь тебе одной. Это очень для тебя характерно. Но первое, на что зритель обращает внимание, – твои глаза. Тут художница превзошла себя. Все сконцентрировано вокруг твоих глаз – твоих пронзительно-голубых, незрячих глаз, которые тем не менее сияют необычайно ярко, обнаруживая такую… энергию, такие бездонные залежи мудрости и печали. Уму непостижимо, как Рут сумела все это схватить – с помощью лишь набора красителей, смешанных с растительным маслом, – как сумела проникнуть в твою душу, а потом отобразить ее на холсте, и вот она передо мною, твоя душа, вечная, неизменная. Удивительно, на что способен художник.
– Она тебе удалась, – сказала я тогда Рут. – Она здесь как живая.
Рут картиной была не очень довольна, как я уже говорила.
– Ты о чем? – спросила она. – О сходстве? – Слово «сходство» в ее устах всегда звучало презрительно.
– Нет, – возразила я. – Не только и не столько. У тебя получилось рассказать об Имоджин. Ты ее высветила.
Рут, решив поймать меня на слове, спросила, что же именно высветилось на портрете. И я ответила:
– Ее предопределенность.
Сейчас постараюсь объяснить, что я имела в виду.
Думаю, ты не забыла, что создание портрета позволило мне завязать контакты с твоей новой семьей. Удочерив тебя, они вскоре переехали на юг, в Ворчестер, где находится очень хорошая школа для слепых. Там я тебя и навещала – изредка, но все же. Неподалеку жила моя сестра с мужем и детьми, моими племянниками Дэвидом и Джилл, так что у меня был отличный предлог, чтобы наведываться в те края. Примерно раз в полгода – не желая показаться назойливой или обнаружить свои тайные замыслы – я испрашивала разрешения у твоего нового отца увидеться с тобой – привезти тебе маленький подарок, угостить чаем в кафе. Любопытно, Имоджин, ты помнишь о том, как я к тебе приезжала? Помнишь свою чудаковатую тетку Розамонд (хотя, строго говоря, я не приходилась тебе теткой)? И как я забирала тебя из дома и, держа за руку, вела по набережной Северна, описывая по пути пейзаж? Обычно мы садились на скамейку у воды, и я рассказывала тебе, какого все вокруг цвета и в каком месте изгибается река; рассказывала о воронах и грачах, возвращающихся в свои гнезда на верхушках деревьев, что росли вдоль берега; о том, во что одеты прохожие, нагруженные покупками и спешащие по домам, и о том, во что играют школьники на игровых площадках на другом берегу. Я очень боялась, Имоджин, страшно боялась, что ты забудешь, как выглядит мир. Моей целью было не дать твоим визуальным ощущениям заглохнуть. Пусть теперь все окружающее оказалось скрытым от твоих глаз, но образы – яркие, живые, – сохранившиеся в твоей памяти с той поры, когда ты могла видеть, не должны были исчезнуть. И я уверена: мои старания не пропадали зря. Ты слушала, ты кивала, и ты понимала меня, я в этом убеждена. Знаешь, мне необходимо в это верить, у меня нет доказательств, но я верю. Не хочется думать, что я тратила время и силы впустую, – и вот сейчас, наговаривая кассеты, я тоже верю, что делаю это не зря. Скажешь, я наивная дура и опять напридумывала себе невесть что? Не знаю и не смогу узнать. Теперь уже слишком поздно, все уже слишком поздно…
Опять меня куда-то не туда занесло. Наверное, виски лучше отставить в сторонку, по крайней мере до тех пор, пока я не закончу. Напиток этот довольно горький, но от него становится так хорошо. Виски утешает, умиротворяет. Погоди, сделаю еще глоточек… и расскажу о твоей матери, о моих последних контактах с ней. Когда портрет был уже готов, я по глупости решила, что Tea захочет на него взглянуть. Кроме того, я недавно встречалась с тобой в Ворчестере. Каждый раз, возвращаясь со свидания, я неизменно отправляла Tea письмо с подробностями о твоей новой жизни, но она почти никогда не отвечала. В tqt раз я вложила в конверт снимок портрета, созданного Рут. И присовокупила еще кое-что: твой новый адрес. Согласна, я нарушила правила, но куда неправильнее (во всяком случае, тогда я так думала) законодательно запрещать матери видеться с собственной дочерью. Впрочем, мне точно известно, что этим адресом Tea так никогда и не воспользовалась. Спустя несколько дней от нее пришел ответ. Омерзительный ответ… В жизни ничего подобного не читывала, ничего более издевательского и наглого. Не сомневаюсь, Tea писала под диктовку злобного мистера Рамси, за которого она вышла замуж, господи прости, переняв его извращенные представления о христианстве. Каким-то немыслимым образом (и зачем я тебе это рассказываю? то, что способно лишь ранить?) он убедил твою мать в том, что ты, Имоджин, – ты, невинная, беспомощная трехлетняя девочка, сама виновата в своих бедах. И теперь ты наказана, так Tea выразилась, – мол, нечего было писаться в постель и совершать прочие «гадости». Наказание, однако, исходит не от твоей матери, но от руки Господней, a Tea лишь исполняет Его волю. Вот к каким выводам она пришла! Знаю, знаю – то есть сейчас мне совершенно ясно, – что это была не более чем… психологическая защита, Tea просто пыталась очиститься, чтобы как-то дальше жить в мире, пусть и шатком, с самой собой, а для этого все средства хороши. Но представь ужас и гнев, которые я испытала… У меня нет возможности снова заглянуть в то письмо: вскрыв конверт, я прочла его только раз, после чего скомкала в гневе и бросила в огонь.
А над огнем, на каминной полке, стоял твой портрет с еще не высохшими до конца красками. Прочитав письмо от Tea, я долго, очень долго на него смотрела. Вот как сейчас смотрю. И я поняла (с тех пор не изменила своего мнения), что Рут – очень тонкий художник. Она уловила самое главное – твою предопределенность. Когда я гляжу на эту картину, я вспоминаю обо всем, что было: об Айви, Оуэне и Беатрикс, начиная с нашего знакомства в «Мызе» в 1941-м и кончая ее нелепыми замужествами, автокатастрофой, ее безобразным отношением к Tea, и как Tea в результате росла с ощущением своей ненужности и никчемности, и как в ней заглохли все чувства, – и все это, все без исключения было так плохо, глупые связи, дурные поступки… Да, лучше бы ничего подобного никогда не было, ни этого ужаса, ни кошмарных ошибок, – но, однако, погляди, что получилось в итоге. В итоге получилась ты, Имоджин! Когда я гляжу на твой портрет, я ни на йоту не сомневаюсь: ты должна была появиться на свет. И это самое лучшее, что могло произойти. Мысль о том, что тебя нет, что ты никогда не рождалась, кажется мне невыносимой, чудовищной и противоестественной… Конечно, твое существование не исправляет прошлых ошибок и не устраняет их. Оно ничего не оправдывает. Но оно означает (по-моему, я уже об этом говорила; что ж, повторюсь) – точнее, помогает мне понять вот что: жизнь начинает обретать смысл, только когда ты сумеешь осознать, что порою – часто – постоянно – две абсолютно противоположные точки зрения могут быть одинаково истинными.
Все, что вело к тебе, было плохо. Следовательно, ты не должна была родиться.
Все в тебе хорошо: значит, ты не могла не появиться на свет.
Без тебя нельзя. В этом и состоит твоя предопределенность.








