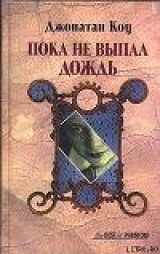
Текст книги "Пока не выпал дождь"
Автор книги: Джонатан Коу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Напомню, я сидела в саду с книгой. Возможно, я-не расслышала всего, что было сказано на кухне, но суть происходящего сумела ухватить.
– Какого черта! – завопила Беатрикс. – Что ты сделала с проклятой кофтой? (Беатрикс выразилась покрепче, но, прости, не могу заставить себя повторять ругательства.)
Tea, должно быть, посмотрела на кофточку, испугалась – и Беатрикс понесло. Гнусные слова ведут к гнусным делам. Беатрикс обозвала дочь идиоткой, сказала, что такой дуры она в жизни не видывала. Tea расплакалась и стала просить прощения, обещая постирать кофточку. Беатрикс язвительно расхохоталась – мол, поздно каяться, кофта навеки загублена, а потом она уцепилась за это слово, повторяя его на все лады:
– Ты ее загубила! Ты все губишь! Все!
И не успела я глазом моргнуть, как она обвинила Tea – я слышала это собственными ушами – в том, что она сгубила здоровье матери и жизнь.
– Все из-за тебя! – визжала Беатрикс. – Из-за тебя я стала такой. Из-за тебя попала в автокатастрофу. Если бы не ты, я бы не поехала тогда в школу…
Тут Tea крикнула что-то – слов я не разобрала, они потонули в слезах, – выскочила из кухни и бросилась наверх, в свою комнату.
Голос ее матери (как и голос Айви много лет назад, когда я маялась под дверью ее спальни, пока она отчитывала дочь), этот голос звучал убийственно. Иначе не скажешь. Я почувствовала, что назревает что-то страшное. Беа была вне себя, она совершенно ничего не соображала.
Трудно передать словами, как я была потрясена этой сценой, но я продолжала сидеть в шезлонге, парализованная нерешительностью. Мне хотелось урезонить Беатрикс, сказать ей, что нельзя так жестоко и несправедливо обращаться с дочерью, однако момент был явно неподходящий – с пребывающей в исступлении Беатрикс спорить не имело смысла. А узнай она, что я слышала их, то разъярилась бы еще сильнее. Пока я лихорадочно прикидывала, что бы такое предпринять, Беатрикс дернула за ручку кухонного ящика, который с грохотом открылся, после чего устремилась следом за дочерью – ее шаги гулко раздавались на лестнице. При этом она по-прежнему во весь голос поносила Tea: от той лишь горе и страдания и лучше бы ее старшей дочери вовсе не рождаться на свет. Я вбежала в дом. Когда я была на середине лестницы, дверь в комнату Tea с треском захлопнулась, и я услыхала, как щелкнул замок. К счастью, дверь запиралась изнутри, иначе что угодно могло бы случиться. Я увидела, что Беатрикс бежит по коридору к комнате Tea и в руке у нее кухонный нож. Я окликнула ее: «Беа, успокойся!» – но она меня не слышала. Взбешенная тем, что дверь заперта, она с размаху вонзила нож в дверь, затем опять и опять, оставляя глубокие зарубки на дереве.
– Выходи! – надрывалась Беатрикс, обзывала дочь сучкой и другими, еще более непристойными словами, какие ни одна мать не имеет права говорить своей дочери. (Которой к тому же четырнадцать лет!)
Не раздумывая о последствиях, я подбежала к Беатрикс и схватила ее за плечи. Я умоляла ее прекратить все это, и вскоре нож упал на пол, а Беатрикс прижалась спиной к двери. Тяжело дыша, она смотрела на меня – или, точнее, сквозь меня. Но длилось это недолго. Вырвавшись из моих рук, она ринулась вниз и прочь из дома. Так и ничего не сказав.
Уф, пожалуй, мне нужно немного передохнуть. Ты не обидишься, Имоджин, если я отключу на минутку магнитофон? Пойду принесу себе стакан воды.
Ну вот, так-то лучше. Теперь я могу продолжать.
Где я остановилась? У двери в комнату твоей мамы, где же еще.
Я постучалась и попросила разрешения войти. Tea подавленно молчала, только прижималась ко мне и плакала. Потихоньку, мелкими шажками, я подвела ее к кровати и уговорила лечь. Затем прилегла рядом, обняла ее. Постепенно Tea затихла и, обессиленная, забылась беспокойным сном. Позже, когда небо заволокли тучи и в комнате похолодало, я встала, вынула запасное одеяло из шкафа и укрыла им нас обеих. Нам стало даже уютно.
Как наступил вечер, я не помню. Наверное, я задремала. Помню лишь одно знаменательное явление. Я открываю глаза и вижу, что дверь в комнату распахнута. Я не слышала, как ее открыли. И следом обнаруживаю, что Беатрикс вернулась домой, – вот она стоит и смотрит на нас. Ее фигура словно расплывается в тумане, отчетливо видны только глаза – по крайней мере, сейчас я мысленно вижу только их, – вытаращенные, с красными прожилками, эти глаза впились в нас, в спящую Tea и меня, словно Беатрикс задалась целью нас загипнотизировать. Таким я представляю себе Горлума из «Властелина колец», когда его взгляд и помыслы целиком поглощены тем, что он называл своей «прелестью». Уж не знаю, почему мне пришло в голову это сравнение. Надеюсь, оно не показалось тебе слишком вычурным либо чрезмерным.
На краткий миг наши глаза встретились – мои и Беатрикс. Затем она бесшумно удалилась. Я уронила голову на подушку и с удивлением отметила, как часто и взволнованно бьется мое сердце.
Постепенно в доме восстановилась почти нормальная обстановка. Я спустилась на кухню и приготовила ужин на всех, оставив Tea поспать еще часок-другой. А когда девочка вошла в столовую, первое, что она сделала, – обняла мать; та отреагировала с холодным безразличием. Я метнула на Беатрикс укоризненный взгляд, но она меня проигнорировала. Беатрикс была в отличном настроении; злоба, сотрясавшая ее несколько часов назад, похоже, растаяла без следа. Улыбка на ее лице не казалась ни притворной, ни натужной – Беатрикс искренне благодушествовала и окончательно развеселилась, когда позвонил Чарльз и рассказал, как утром, уходя на работу, он забыл ключи, поэтому вечером ему пришлось лезть в дом через окно, и в результате он вывихнул ногу. Моя кузина сочла эту историю невероятно смешной, в самых ярких красках она расписывала своим младшим детям приключения их незадачливого отца и неприятности, постигшие его. Признаться, я слушала ее в некотором недоумении. Tea в общую беседу не вступала.
Наконец детей уложили спать (то есть я их уложила), и мы с Беатрикс уселись в гостиной. Того, что последовало, мне не забыть никогда.
Прежде я не осмеливалась вступать в пререкания с Беатрикс. Наверное, я ее боялась. А уж в тот вечер у меня были все основания бояться. Но после жуткой сцены, которой я стала свидетелем, держать язык за зубами я не могла. Некоторое время мы сидели в тишине, тени на лужайке перед домом становились все длиннее. Первой заговорила я: как можно мягче произнесла ее имя. Беатрикс, словно нехотя, повернула голову.
– Тебе не кажется, – сказала я, – что твое сегодняшнее поведение по отношению к Tea требует объяснений.
Она улыбнулась – насмешливо, вызывающе – и обронила:
– Неужели? А я собиралась потребовать объяснений от тебя.
Я не поняла, что она имеет в виду, и сказала ей об этом, добавив:
– В конце концов, не я же напала на девочку с ножом.
– С ножом я напала на дверь, – поправила меня Беатрикс. – В этом вся разница. Tea я никогда пальцем не тронула – и не трону, как бы она ни старалась вывести меня из равновесия.
– Ты намеревалась причинить ей вред, – возразила я.
– Мои намерения к делу не пришьешь, – отмахнулась Беатрикс. – Повторяю: Tea я ни разу пальцем не тронула.
Она с таким нажимом произнесла это «я», что до меня мигом дошло, куда она клонит, и, в который раз за день, я испытала оторопь и ужас.
– Беатрикс! – воскликнула я. – На что, собственно, ты намекаешь?
– Ты отлично понимаешь, на что, – ответила она. – И тебе отлично известно, что я видела тебя с, моей дочерью под одним одеялом.
Выдержав паузу, она продолжила спокойно, но веско:
– Ты трогала ее.
Я замерла с открытым ртом, голова у меня шла кругом.
– Беатрикс, – выдавила я наконец. – Ты о чем!
Она презрительно посмотрела на меня:
– Я все про тебя знаю, Розамонд. Знаю, кто ты есть. Думаешь, Tea мне ничего не рассказывала? Ошибаешься. Мне известно, чем вы там занимались, ты и твоя подружка. Вместо того чтобы присматривать за ребенком.
Высказавшись, она взяла журнал со столика и, довольная собой, погрузилась в чтение.
Я вышла из комнаты, поднялась к себе – меня трясло от ярости. Утром я собралась и уехала в Лондон.
* * *
Ярость во мне так и не улеглась. Я чувствую ее до сих пор. В тот день – точнее, в тот вечер – я поняла, в какого жестокого и подлого человека превратилась Беатрикс и как она ловко использует меня. Возможно, она всегда была такой, а я этого не понимала. И вот теперь ей опять удалось разлучить меня с ее дочерью – именно тогда, когда Tea действительно нуждалась во мне. Это было трагедией для нас обеих, но иначе я поступить не могла: мне просто не оставили выбора. Однако я не собиралась навсегда отказываться от встреч с Tea. Я найду способ видеться с ней, убеждала я себя. И ничто меня не остановит, даже происки Беатрикс.
С каким наслаждением я бы сейчас скомкала этот снимок и выбросила в мусорное ведро. Меня тошнит от наших улыбающихся физиономий. Впрочем, улыбаюсь только я – и она. Дети, скорее, хмурятся, и у Tea есть на то причины. Что за обманчивая штука, фотография! Считается, что память изменяет нам. По-моему, фотография куда более коварна. Отложу-ка я это лживое изображение в сторонку, закрою глаза и вспомню тот день.
Что же я вижу?
Облака. Белые облака плывут по серенькому небу. Небо заключено в раму, в оконную раму с решетчатым переплетом, окно в комнате Tea, оно выходит на задворки этого несчастливого и прекрасного дома. Я вижу, как на стекле меняются узоры, как они беспрестанно складываются и распадаются, складываются и распадаются, и длинный-длинный день тонет в глубокой тишине. Иногда раздаются голоса, звуки детских забав, – младшие дети как ни в чем не бывало играют в саду. Tea спит рядом со мной – такая юная, такая ранимая, такая напуганная. Она придавила мне руку, а узоры из облаков складываются и распадаются, складываются и распадаются. Белое на сером, и тяжесть ее тела на моей руке…
Номер пятнадцать. Мы опять в «Мызе». Давненько мы там не были! Рождество. 1966 год. Вообрази, каково это – вернуться туда, где последний раз тебя видели в ранней юности. Однако в те времена мы умели справлять Рождество! Ты только посмотри на нас – большая семья вокруг кухонного стола. Одиннадцать человек, я сосчитала. А вот любопытно, сумею ли я вспомнить всех собравшихся по именам через столько-то лет.
Что ж, начну с самого легкого – за столом мои отец и мать. Ну и Айви с Оуэном, разумеется. Все, со старшим поколением мы покончили.
Из сыновей Айви в наличии только один – Дигби. Лет ему уже хорошо за тридцать, и он недавно женился на даме, которая сидит рядом с ним, – высокая, со слегка выпирающими зубами и оттого похожая на жирафу. Зовут ее, кажется, Марджори, но особой уверенности у меня нет. Старший сын, Реймонд, обзавелся женой и детьми много раньше и, наверное, уехал куда-нибудь с семьей на рождественские каникулы. Беатрикс с домочадцами – замечу, не со всеми, – отправилась в Канаду. Рядом с Марджори моя сестра Сильвия, за ней пустой стул, вероятно, предназначенный для Томаса, моего зятя. И где же он, скажите на милость? А-а… он нас снимает. Ну конечно, как же я сразу не сообразила. Значит, мое место рядом с Томасом. А по другую руку от меня – в желтой праздничной шляпе (мы все в таких шляпах) невероятно мрачная Tea. На этой фотографии ей восемнадцать лет. Позже я объясню, почему Tea здесь одна, без родителей и младших брата и сестры. Сперва расскажу, как я здесь оказалась, но прежде закончу с рождественскими гостями. На дальнем конце стола, друг против друга, сидят двое детей. Это мои племянники Дэвид и Джилл. Мальчику седьмой год, девочке девятый. (Джилл, понятно, давно уже взрослая, и, по-моему, я тебе уже говорила, что именно она распорядится моим имуществом, когда я уйду.)
В «Мызе» почти всегда ели на кухне, а не в столовой. В этом смысле (как и во многих других) здесь мало что изменилось с военных лет. Столовая была темным, угрюмым и каким-то официозным помещением; казалось, там всегда царит холод. Кухня же во времена моей эвакуации была моим любимым убежищем. Отчасти, думаю, благодаря приветливой, разговорчивой поварихе. К Рождеству 1966-го она уже давно покинула «Мызу»: дни процветания Айви и Оуэна остались в прошлом, и они больше не держали домашнюю прислугу. Но тепло и уют на кухне сохранились, к счастью. Особенно мне запомнились каменные плиты на полу, хотя на снимке их не видно; плиты были гладкие и рыжеватые, того же красно-коричневого цвета, что и грязь, которую дядя Оуэн приносил в дом на резиновых сапогах, возвращаясь после кормежки свиней. И все на кухне отсвечивало этим красноватым блеском, огненные блики плясали на медных половниках и кастрюлях, что висят на стене, на заднем плане фотографии. Кухня обогревалась пылающим очагом, теплом, исходившим от потрескивающих сухих бревен. Для празднования сочельника трудно найти более подходящее место. И я была рада, что приняла приглашение приехать в «Мызу», а еще сильнее радовалась тому, что уговорила Tea поехать вместе со мной, несмотря на ее явное недовольство.
В те годы Рождество всегда оборачивалось для меня головной болью. Для одинокой женщины праздники – трудное время. Да, Имоджин, я все еще была одна и по-прежнему жила в комнатушке в Вондсворте, хотя в иных отношениях моя жизнь налаживалась. Закончив курсы машинописи и стенографии, я уволилась из универмага и устроилась секретаршей директора в издательство, располагавшееся на Бедфорд-сквер. Тогда я и думать не думала, что секретарская должность положит начало моей карьере в книгоиздании и знакомству с людьми, среди которых спустя несколько лет я встречу мою Рут. Но я заглядываю в будущее, вернемся-ка лучше к нашей фотографии.
Итак, перспектива очередного Рождества, проведенного в стародевической изоляции, удручала меня. Когда мой отец вышел на пенсию, родители переехали в Шропшир, в большой симпатичный коттедж, находившийся всего в паре миль от «Мызы», – строго говоря, во владениях дяди Оуэна. Назывался коттедж «Восходом», и к нему прилагался обширный сад и три поля, которые родители по устной договоренности сдавали соседям, державшим скаковых лошадей. Моя сестра с мужем регулярно навещали родителей, поэтому очень скоро установилась традиция праздновать Рождество всей семьей. Дэвил и Джилл, разумеется, обожали ездить к бабушке и дедушке, им там все нравилось. Однако спальных мест в «Восходе» насчитывалось только шесть, поэтому я была предоставлена самой себе. Похоже, мои родные думали, что поскольку я живу в Лондоне одна, то у меня наверняка полно друзей – родственных душ из какой-нибудь утонченной богемной среды, и мысль о традиционном семейном Рождестве, по их мнению, должна меня ужасать. На самом деле именно такого Рождества мне и хотелось.
Но в 1966 году мою маму посетила блестящая идея: спросить Айви, не сможет ли она приютить меня в «Мызе» на праздниках. Айви согласилась – уж не знаю, с готовностью ли, – и было решено, что я приеду поездом в канун сочельника.
После того эпизода в Милфорде мои отношения с Беатрикс зашли в тупик. Правда, очень скоро обнаружилось, что в тупике оказалась я одна. Беатрикс предпочитала делать вид, будто ничего не произошло. Спустя недели две она позвонила и пригласила меня на ужин. Я ждала, что она хотя бы извинится за свои безобразия – если не словами, то поведением, но Беатрикс весь вечер болтала на самые расхожие темы, словно начисто позабыв о глубокой обиде, которую она нанесла своей дочери и мне. Это уже ни в какие ворота не лезло, и, каюсь, с тех пор я не только перестала ждать от нее добра (я уже давно ничего не ждала), но и обнаружила, что с трудом ее выношу. Но я приходила к ней в дом снова и снова, потому что там была Tea. Я хотела – вернее, испытывала настоятельную потребность – приглядывать за ней, опекать, заботиться, чтобы ей перепадала хотя бы толика любви и внимания. Беатрикс в свою очередь настойчиво препятствовала моему общению с Tea. Приглашения в Пиннер были редки. А когда я звала семейство на воскресную прогулку – в Ричмонд-парк или на Бокс-Хилл, – каждый раз каким-то загадочным образом получалось, что Tea не сможет составить нам компанию, потому что еще раньше договорилась о встрече с друзьями. Беатрикс старалась как могла отвадить меня от своей дочери, и желательно навсегда.
И вот однажды поздно вечером, за сутки до сочельника, в моей квартире зазвонил телефон и в трубке раздался голос Tea. Она позвонила, чтобы сообщить: в результате последней ссоры с матерью она остается на Рождество одна-одинешенька. Мать с отчимом и младшими детьми отбывают к родителям Чарльза в Канаду на три недели, a Tea то ли отказалась ехать с ними, то ли ее не взяли – толком я этого так и не выяснила. Ясно было одно: мысль проторчать все праздники в пустом особняке с шестью спальнями Tea не вдохновляла. Она спросила, нельзя ей прийти ко мне. Когда я сказала, что меня не будет дома, потому что я собираюсь провести Рождество с ее бабушкой и дедушкой – которых Tea видела за всю жизнь не более трех раз, – девочка вконец приуныла. Недолго думая, я предложила ей поехать со мной. Признаться, я ожидала, что эта идея ей понравится и даже вызовет восторг. В моем восприятии «Мыза» была столь необычным и таинственным местом, что возможность провести там несколько дней казалась мне безусловно заманчивой. Tea, однако, не выказала никаких эмоций, соглашаясь отправиться в «Мызу». Голос ее звучал ровно и скучно, и, откровенно говоря, я была разочарована. Куда более бурного отклика я добилась от Айви, позвонив ей наутро и предупредив, что везу с собой ее старшую внучку. Нельзя сказать, что Айви расчувствовалась, но известие определенно произвело на нее впечатление. Пожалуй, ее реакцию точнее всего характеризует фраза «она обалдела».
Днем, накануне сочельника, мы сели в поезд. На станции в Шропшире нас встретили не Оуэн с Айви, но мой отец, он и повез нас в «Мызу». Небо было металлически-серым. Бледное, клонившееся к закату солнце омывало луга и живые изгороди меланхоличным зимним сиянием. Лондон был едва припорошен снегом, здесь же снег лежал толстым плотным слоем, новеньким покрывалом из белого бархата. Десять лет я не видела этих мест; они казались до боли знакомыми и в то же время совершенно чужими, какими-то не от мира сего. Эти два ощущения я не могла примирить между собой. И тут мне пришло в голову (я очень хорошо помню этот момент), что иногда мы можем себе позволить – и не только можем, но и должны – полагаться сразу на два соображения, признавая истинность обоих, несмотря на то что они категорически противоречат друг другу. Тогда я лишь начинала подбираться к этому, лишь начинала понимать, что такая двойственность – одно из главных условий нашего существования. Сколько мне тогда было лет? Тридцать три. Да, можно сказать, что я только начинала взрослеть.
На подступах к «Мызе» я попросила отца свернуть на объездную дорогу, которая шла через деревню, – мне хотелось подъехать к дому с юга. С этой стороны, примерно в полумиле от цели нашего путешествия, открывался чудесный вид на «Мызу». Остановившись, мы любовались домом сквозь ветви самбука. Дом был таким, каким я его помнила: старым, величественным, увитым плющом и будто вросшим в землю. Дом так естественно сливался с окружающим пейзажем, что, казалось, его не построили, но он сам пророс из оброненного здесь два столетия назад семечка. На крыше лежала снежная шапка, как и на верхушках деревьев вокруг. Распаханные поля под снегом вздымались и опадали бороздами чистейшей белизны, словно это не поле, а волнующееся море в Арктике.
Мы двинулись дальше и въехали за ограду через калитку с противоположной стороны от парадных ворот. Айви, заслышав, как хрустит под колесами ледяной наст, выбежала на крыльцо черного хода встречать нас. И я вспомнила, отчетливо вспомнила, как впервые приехала сюда более четверти века назад. И опять я потонула в запахах сигаретного дыма и псины. И опять услыхала, как она немыслимо растягивает: «При-ивет, дорога-ая!» Заметив Tea, Айви ахнула, положила руку ей на плечо и вот так, на расстоянии вытянутой руки, оглядела восемнадцатилетнюю девушку с ног до головы, изумленно и одобрительно.
– Неужто это моя внучка? – воскликнула Айви, словно не веря глазам своим, потом порывисто и крепко схватила Tea и со всей силы сжала ее в объятиях. (Та даже вздрогнула, и, скажу по секрету, от этого бабушкиного приветствия у нее на коже остались небольшие синяки.)
Пока бабушка обнимала внучку, я разглядывала лицо Tea, пытаясь обнаружить признаки каких-нибудь чувств – радости, нежности, неловкости, – признаки любой, пусть отрицательной, эмоции, и опять мои поиски оказались тщетны. Я ничего не увидела. Ни вспышки света в ее глазах, ни узнавания, ни малейшего оживления.
Пустота. Мертвая пустота.
На снимке лицо Tea хоть что-то выражает – пусть это даже злость, оттого что ее заставили напялить праздничную шляпу. Шляпы соорудили из оберток от рождественских хлопушек – весь кухонный стол усеян конфетти. Кроме разноцветных кружочков на столе видно угощенье – вернее, то, что от него осталось: ломтики ветчины и холодной индейки, сельдерей, кожура от запеченной картошки. Тетя Айви совсем не изменилась, если сравнивать с фотографией 1949 года (свадьба твоей бабушки, не забыла?). А вот дядя Оуэн стал в два раза шире. В правой руке он держит не до конца обглоданную ножку индейки, а губы у него фиолетовые. Вряд ли его вот-вот хватит удар, скорее, это означает, что за праздничным ужином дядя налегал на свеклу. Дэвид и Джилл что-то увлеченно обсуждают меж собой – разумеется, друг с другом им интереснее, чем со взрослыми, – шляпа Дэвида (красного цвета) сползла ему на глаза, она ему слишком велика. Моя мама выглядит немного рассеянной, занятой своими мыслями. Уж не в то ли Рождество ее вызвали для участия в жюри присяжных? Дело, которое рассматривалось, было довольно кровавым, и мама очень переживала. Но честно сказать, я точно не помню, заседала ли мама в суде в том году или в каком другом.
Не сомневаюсь, мы играли в шарады – следуя давней семейной традиции, хотя и очень утомительной, на мой взгляд, – но шарад я не помню, зато я отлично помню то, что случилось позже. Где-то в половине или без четверти двенадцать все отправились в приходскую церковь на полночную службу – даже Дэвид и Джилл, я еще подивилась стойкости этих детей. Айви собиралась читать рождественскую притчу, это была одна из ее общественных обязанностей. Айви в таких случаях считалась незаменимой, потому что, даже когда она просто с кем-нибудь разговаривала, ее голос был слышен во всей округе. Единственными, кто не пошел в церковь, были мы с Tea.
Я не сразу поняла, что мы остались вдвоем. Всю жизнь я была атеисткой – с десяти или одиннадцати лет уж точно, поэтому о моем посещении службы и речи не заходило, но что касается Tea, я понятия не имела, захочет ли она пойти в церковь. Когда настало время собираться, началась обычная неразбериха с сапогами и пальто, двери без конца хлопали, автомобили урчали, удаляясь в ночь. Во дворе я попрощалась с родителями, с Сильвией, Томасом и племянниками, зная, что после службы они прямиком отправятся к себе, в «Восход», и я не увижу их до завтра. Когда все разошлись и дом стих, я побрела на кухню, предвкушая упоительное времяпрепровождение: на час или около того «Мыза» отдана в мое единоличное пользование. В жарко натопленном доме было душно, и мне захотелось выйти ненадолго на лужайку, подышать свежим воздухом под яркими звездами в высоком ночном небе.
Но стоило мне переступить порог, как я догадалась, что Tea тоже решила пропустить службу. Я увидела ее под большим старым дубом: она курила, прислонясь к стволу. Tea стояла спиной ко мне и к дому, глядя прямо перед собой, туда, где простирались поля. Только что закончился снегопад, снежинки еще кружились в воздухе, срываясь с веток и на миг оседая на темно-зеленом пальто Tea, прежде чем растаять без следа. Я подошла к ней и тихонько тронула за плечо, она резко обернулась. Похоже, она испугалась: ведь я застала ее за курением, но я сказала, что не стану ее ругать. Тогда она предложила мне сигарету, но к тому времени я уже много лет как бросила курить и не рвалась начинать заново.
За день нам не удалось толком поговорить. В поезде было полно народу, и мне не улыбалось развлекать совершенно незнакомых людей, набившихся в наше купе, душераздирающими откровениями, которых я ожидала от Tea. И потом нас не оставляли наедине: рождественские торжества начались сразу после нашего прибытия. В «Мызе» мне отвели мою прежнюю комнату, я должна была спать в моей альковной кровати, a Tea – рядом, в кровати, в которой когда-то спала ее мать. Каким странным все это казалось! Какие причудливые параллели возникали в моей голове, и как занятно закольцовывался мой жизненный опыт. Конечно, легче было бы разговаривать, лежа в постели, но у меня больше не было сил ждать. Весь день обстоятельства отделяли меня от Tea, я жаждала наконец приблизиться к ней.
Для начала я спросила, не скучает ли она по родителям, по брату с сестрой. Ответила Tea незамедлительно, коротко и то ли с возмущением, то ли с издевкой, после чего лицо обрело прежнюю непроницаемость.
– Да нет, – вот что она сказала и добавила: – Все лучше, чем прошлое Рождество.
А затем поведала, как в рождественское утро прошлого года ее мать в пух и прах разругалась с Чарльзом, затем выбежала из дома в чем была – а именно в халате и пижаме, – села в машину и уехала. Вернулась она только через три дня.
– Самое поганое, – заключила Tea, – что Чарльз не разрешал нам развернуть подарки до ее возвращения. Боялся, что она разозлится. Так они и лежали под елкой. Для Элис и Джозефа это было настоящей пыткой.
– А для тебя разве нет? – спросила я, беря Tea за руку.
Мы побрели по лужайке, оставляя следы на свежем снегу. Из дома лился свет, из окон бильярдной и обеих гостиных, – золотистый рождественский свет. Двигались мы прочь от дома, к изгороди со рвом, отделявшим верхнюю лужайку от нижней. Свет из окон не простирался так далеко, путь нам указывало лишь серебристое сияние луны – точнее, месяца в первой четверти, – усиленное отражением в белом снежном зеркале. Кругом было так тихо – ни звука, ни шороха. И опять я подумала о магии и величии, присущих этому месту.
– Бедная Беатрикс, – начала я, но Tea не дала мне договорить, презрительно фыркнув:
– Это она-то бедная? А мы тогда кто, если мы с ней живем?
Я заметила примирительно, что последствия аварии, вероятно, до сих пор дают о себе знать приступами боли и недомоганиями. На что Tea ответила:
– По-твоему, это оправдывает те гадости, что она мне говорит? Я только и слышу, какая я никчемная, тупая и уродливая и как она жалеет, что вообще меня родила. И как она только меня не обзывает! Даже лесбиянкой.
Я было подумала, что Беатрикс не может забыть тот эпизод на морском побережье, но выяснилось, что мать Tea не раз находила предлог для столь диких обвинений.
– Однажды после уроков мы с моей школьной подругой Моникой шли вместе домой, нам было по пути, – рассказывала Tea, понизив голос и явно сдерживая слезы. – Просто шли, держась за руки. Она увидела нас и обозвала извращенками. А потом запретила Монике приходить к нам. Моей лучшей подруге. Мне тогда было пятнадцать лет. Всего пятнадцать!
Я шла рядом, не зная, что сказать. Да и что я могла сказать? Наверное, я бормотала слова утешения, затертые и бессмысленные. Слова эти даже вмятины не оставили на жестком панцире, за которым укрылась обиженная Tea.
– Самое жуткое, – продолжала она, – слушать, как все вокруг – все ее знакомые – твердят наперебой, какой она замечательный человек и как нам повезло с матерью.
Я спросила, кто эти «все».
– Коллеги по работе, – ответила Tea.
Я и не знала, что Беатрикс работает. Tea объяснила: мать пошла работать в местную больницу, сперва на добровольных началах, а потом ей предложили какую-то менеджерскую должность. В больнице в Беатрикс души не чают.
Я легонько пожала руку Tea – еще один банальный жест, не вызвавший ни малейшего отклика. Я смотрела на залитый лунным светом снежный сад, на таинственный дом, что без устали сторожил свои угодья, – темная твердыня, переполненная воспоминаниями, – и в сотый раз подумала, до чего же странный, противоречивый человек эта Беатрикс и не смогу ли я помочь Tea – нет, не простить свою мать, но хотя бы понять ее, если расскажу девочке, как мы познакомились, Беатрикс и я, с чего началась наша дружба. Пусть Tea узнает, какой была ее мать в детстве и где она росла. (Полагаю, тот же порыв и сейчас владеет мной, заставляя говорить и говорить в этот микрофон.) Если слов, фраз, жестов недостаточно, может быть, Tea нужно связное повествование? Может, повествование о той ночи, о ночи двадцатипятилетней давности, когда Беатрикс лихо, словно в танце, провела меня по кругу, поможет Tea разгадать материнский характер? А вдруг это и мне поможет? Ведь сколько лет прошло, но я понимала Беатрикс не лучше, чем Tea. Решив, что попытаться стоит, я осторожно спросила:
– Мама когда-нибудь рассказывала тебе об этом доме? Говорила, как мы познакомились? И как стали неразлучны?
В голове у меня уже созрел план: я отведу Tea в глубину сада и отыщу там, если удастся в кромешной тьме, тайную тропу, что вела к полянке, где стоял прицеп. Но Tea смела мои построения одним махом, заявив:
– Мама никогда не говорит о тебе. Я онемела.
Мое изумленное молчание (уж не знаю, сколько оно длилось), должно быть, произвело на нее впечатление. Возможно, Tea вообразила, что я ей не верю, и добавила: «Никогда» – и посмотрела на меня… с чувством превосходства, что ли? Затем она отшвырнула сигарету и затушила ее, шипевшую и дымящуюся в снегу, растоптав каблуком.
Tea зашагала назад к дому. Помедлив немного, я поплелась за ней, съежившись, чуть ли не согнувшись под тяжестью услышанного.
На следующий день, когда почти вся родня спала, вымотанная индейкой и вином, я в одиночку отыскала тайную тропу. За долгие годы она густо заросла: мне пришлось продираться сквозь колючие ветки, торчавшие во все стороны, снег валился с них хлопьями, и все же я добралась до нашей полянки. Прицеп как стоял там, так и стоял; я даже немного удивилась. Дверь была заперта. Я смахнула перчаткой снег с оконных стекол, но окна были настолько грязные, что я ничего не сумела разглядеть. Однако самого прицепа, его необычных очертаний в форме слезы оказалось достаточно, чтобы вызвать целый рой не слишком приятных воспоминаний. Очень скоро я уже шла обратно, ломая ветки и слегка дрожа. Когда я рассказала дяде Оуэну, где я побывала, старик разволновался: дядя, полагая, что прицеп давно истлел, искренне позабыл о его существовании. Мы с ним потратили немало времени на поиски ключа, но так и не нашли. Оуэн вызвался мне в угоду взломать дверцу или разбить окно, но я отклонила это предложение, хотя и оценила дядино великодушие. Я подумала, пусть все так и останется, пусть в прицеп никто не сможет войти, не нужно туда никому входить.








