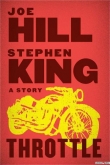Текст книги "Кости Луны"
Автор книги: Джонатан Кэрролл
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
3
Остров Рондуа возвратился. Удобно устроившись на шее у зверей, мы с Пепси ехали по нескончаемой равнине. Вдали виднелись оранжево-розовые пирамиды, резко контрастирующие с черным вулканическим пейзажем вокруг.
Волчица Фелина рассказывала нам историю своих предков – как они вышли из моря красными рыбами и расстались с чешуей, достигнув суши. Выяснилось, что все животные, попав на Рондуа, претерпевают видовую метаморфозу. Умница Пепси поинтересовался, не придется ли пройти через это и нам, раз мы здесь. Мистер Трейси, чья бархатистая шляпа сидела на покачивающейся при ходьбе голове как влитая, ответил, что мы через это уже прошли.
Верблюд Марцио часто брал на себя роль гида, обращая наше внимание то на голубых птеродактилей, пролетевших вдалеке однажды утром, то на солнце, начавшее расходиться пополам, что означало конец очередного рондуанского месяца.
Многие из этих первых снов сводились к долгим пейзажным панорамам. Говорились разговоры, но зачастую я теряла нить беседы, потому что меня гораздо больше интересовало то, что открывалось глазам. К тому же впоследствии я осознала, что слушаю так невнимательно, поскольку многое слышала раньше. Анекдоты, которые мгновенно забываются, пока кто-нибудь не начнет рассказывать по новой; я сто раз могла перебить животных и сама рассказать сыну, что было дальше: как горы научились бегать; почему рисовать карандашами позволено только кроликам; когда все птицы решили стать одного цвета… Несмотря на такой багаж знаний, я по-прежнему не имела ни малейшего понятия, что мы делаем на Рондуа.
Наше первое после возвращения американское лето выдалось приветливым, и, несмотря на мучительную нью-йоркскую жару и влажность, мы приспособились к темпу и некогда привычному образу жизни. Приятно было, что можно спокойно пойти посмотреть новейшие фильмы, причем опять на языке, понимание которого не требует чудовищных усилий. Я ходила по книжным магазинам и выставочным залам, а раз в неделю мы с мамой тайком выбирались пообедать в какой-нибудь дорогой ресторан, где все официанты писаные красавцы, но еда совершенно одинаковая на вкус, какой бы ни объявлялась в меню – турецкой или китайской.
Я очень стеснялась этого, но толстела и толстела. Как-то я поинтересовалась у Дэнни, возможно ли родить дирижабль. Скорее, сказал он, это будет четырнадцатифунтовый «Сникерс».
Иногда, но только иногда, я думала о мальчике из моих снов и гадала, кто у нас родится. Что, если сын? Назвать его тогда Пепси Джеймс? Нет. Вопрос имени мы уже обсудили и решили, что, если будет мальчик, назовем его Уокер, а если девочка – то Мей. Мы с Дэнни любили старомодные имена.
Я приобрела пять книжек о детском воспитании и накупила столько детской одежды, что Дэнни счел, будто в глубине души я уверена, что рожу тройню, только ему пока не говорю.
Накануне родов мы с Дэнни часов до одиннадцати смотрели телевизор, а потом пошли спать. Через несколько часов я проснулась; мне было неудобно и мокро. Воды уже отошли, но мы с Дэнни не позволили застать себя врасплох: сохраняя спокойствие, собрали мои сумки и отправились в больницу.
Доктор был само участие, роды – кошмарными… и ребенок явился на свет, оглушительно голося, красный и сморщенный, как перезрелый живой фрукт. Мей Джеймс. Ее наскоро привели в божеский вид и дали мне подержать. Я пребывала в эйфории, как это всегда бывает сразу после родов, прежде чем снова накатят приливными волнами боль и утомление. На первый взгляд Мей была если и не весела, то вполне бодра. Непонятно откуда возник Дэнни и замер у противоположной стенки, смущаясь и лучась счастьем, как электрическая лампочка.
Папаша, подойдите взглянуть на дочку.
Дэнни двинулся к нам, заранее вытягивая руки принять Мей. Внезапно я ощутила, что меня захлестывает черный вал усталости, и отключилась.
Потом Дэнни рассказывал, что не сводил с меня глаз и потому, к счастью, догадался, что я вот-вот выроню нашу новорожденную на пол. В последний момент, в подкате, он успел ее поймать.
Я проснулась на Рондуа; под головой у меня были колени Пепси.
– Мам, ты так долго спала!
Во сне я понимала, что только-только родила, но на мне была все та же одежда, и я прекрасно себя чувствовала. Я опять была готова двигаться дальше. Приподнявшись, я посмотрела в сторону гор, Монетной и Кирпичной: если все сложится удачно, через несколько дней мы за них уже перевалим. Куда нам дальше, я не знала. Никто из животных не хотел об этом говорить.
Марцио и Фелина стояли поодаль, спокойно ожидая, когда мы скомандуем выступать. Они были такие огромные, что закрывали мне, сидящей на земле, полнеба.
– Ну вот, Каллен проснулась. Теперь можно двигаться к горам, – проговорил сидящий рядом мистер Трейси, не сводя своих добрых глаз с далеких утесов.
– Мистер Трейси, это из-за Мей? Нам нужно туда из-за нее?
– Каллен, в твоем распоряжении три вопроса. Два ты уже задала, и ответы на них значения не имеют. Это было совершенно не обязательно. Но третий вопрос может потом очень сильно помочь Пепси, так что будь осторожна.
Он ожидал моей реакции, понимая, что я не стану тратить третий вопрос, мой третий вопрос, на какую-нибудь ерунду. Наверно, это вопрос, ответ на который будет получен в свое время; что ж, поживем – увидим. Прежде чем задать его, придется хорошенько подумать.
– Самый короткий путь – через равнину, но он же и самый опасный. Как поступим?
Все повернулись ко мне – три зверя и маленький мальчик ждали моего ответа.
Я обвела взглядом равнину и увидела вдалеке едва различимые, но зловещие силуэты Забытых Машин. Изобретенные в эпоху, когда все механическое считалось безусловно положительным и в то же время волшебным, они с легкостью обращали камень в железо, а зеленые растения – в лекарства, ткань, коричневое топливо. Впоследствии заброшенные из-за несбывшихся надежд или ради новых, более удачных сочетаний, они были предоставлены сами себе в расчете на то, что остановятся и умрут. Но они не умерли. Машины не умирают – лишь замирают в ожидании. Как и многое другое на Рондуа, однажды они просто возникли посреди равнины.
– Идем мимо Машин, – решительно произнесла я, расправив плечи, чтобы выглядеть отважнее. – Так надо. Пошли.
Я сама не знала, что такое говорю, но чувствовала, что от меня ждут именно этого. Подойдя к Фелине, я вскарабкалась по ее лапе и устроилась на шее позади угловатой головы, покрытой лоснящейся шерстью. Я души не чаяла в этой голове и в глазах волчицы, колючих, но в то же время добрых.
Давным-давно перед нашей городской библиотекой стояли три огромных бетонных льва. Все дети обожали лазать по ним вдоль и поперек и не слезали, пока не устанут или пока им не передастся холод камня. Помнится, мне эти львы нравились своей основательностью, да и габаритами тоже. На них можно было положиться, они будут всегда – подобно родителям. Когда я стала старше, мне их очень не хватало – и своих чувств к ним.
Рондуанские животные были размером с тех львов. Только они разговаривали и могли двигаться, и от них несло жаром, как из печки. Но я их не боялась. С самого начала они были такими же надежными и знакомыми, как те львы перед библиотекой.
Чтобы ободрить наш маленький отряд, я затянула песню про деревянных мышей, которые отправились на войну. Не знаю, почему я ее запела, не знаю даже, откуда она взялась, но я помнила ее от первого до последнего слова. Остальные подхватили (Пепси, немного послушав, стал мурлыкать мотив, не открывая рта), и напряжение отчасти спало.
– Смотрите! Она приходит в себя!
Впервые с того момента, как мне стали сниться сны о Рондуа, я не хотела просыпаться. Я боялась того, что ждет нас впереди, но любопытство возобладало. Просыпаться в белой больничной палате после красочности и сумятицы новой фазы ясмудского сна – даже с учетом моего новорожденного чуда – было сродни разочарованию.
И мне было так больно! Мей вознамерилась прийти в этот мир ногами вперед. Соответственно, после всех манипуляций, которые пришлось произвести, чтобы она таки появилась на свет, значительная часть моей утробы превратилась в настоящую зону бедствия.
Позже доктор сказал, что наложил пятьдесят швов, только чтобы ликвидировать ущерб. Я потом еще долго ковыляла вперевалку, медленно и очень осторожно – ни дать ни взять астронавт в лунной невесомости. Им, правда, доводилось перескакивать с места на место большими, как в мультфильмах, прыжками. Мне же стоило только ступить чуть не так, и вся болевая сигнализация в организме поднимала оглушительный трезвон.
Само собой, все эти дни я была, мягко говоря, не сахар, но Дэнни проявил чудеса предупредительности. Принес цветы и шоколад – и пару зеленых бархатных шлепанцев, настолько чудовищных, что от любви к нему мне захотелось расплакаться.
В перерывах между всем этим я медленно ковыляла по коридору взглянуть на свою дочку. А через несколько минут отправлялась обратно в палату, изумленная до глубины души, что Мей никуда не делась. Она в самом деле существует и она – наша!
Единственным облачком, омрачившим небосклон однажды перед сном, явилось воспоминание, что прошлый раз я была в больнице, когда делала аборт. Уставившись в черный потолок палаты, я помолилась обо всех: о Мей, о Дэнни, о мертвом ребенке, о себе, о моих родителях. Облегчения молитва не принесла, но сами слова звучали достаточно утешительно, и я сумела заснуть. Той ночью мне снились волшебники, в огромных руках которых появлялись и исчезали младенцы, как у Дэнни – монеты.
Снов о Рондуа больше не было, пока мы с Мей не вернулись домой. Тут-то все и началось, через несколько дней.
Началось. Да, все началось одним утром – из тех, когда кажется, что все встречные на улице пахнут хорошим одеколоном.
В Нью-Йорке октябрь – это месяц с норовом. Он может быть обходительным, как Фред Астер [23]23
С. 77. Фред Астер (наст, имя Фредерик Аустерлиц; 1899–1987) – знаменитый американский танцор и актер, прославившийся как на сцене, так и в кинематографе; его частой партнершей была Джинджер Роджерс. Обычно снимался в комедийных мюзиклах, наиболее известный из которых – «Цилиндр» (1936) на музыку Ирвинга Берлина. Прим. перев.
[Закрыть], или сердитым и неприветливым, как судебный исполнитель с повесткой. Первую неделю после больницы он был паинькой, но потом все изменилось. Час за часом я просиживала у окна в кресле-качалке, кормила Мей и наблюдала первые осенние ливни.
Дождь – не менее захватывающее зрелище, чем огонь. Оба они нарочиты и в то же время прихотливы – и в мгновение ока всецело поглощают ваше внимание.
Когда Дэнни уходил на работу, я подкатывала Мей к окну гостиной, усаживалась в кресле-качалке, укрывала нас белым одеялом и готовилась к созерцательному приему дневной дозы дождя. Мей заглатывала свой завтрак, а я смотрела, как светлеют по мере наступления дня серебристо-синие мокрые стекла. Ливень хлестал нещадно, однако мне это нравилось, я чувствовала себя под его защитой.
Однажды утром облака разошлись и проглянуло солнце, как большой яичный желток. Оно решило ненадолго остаться с нами. К тому времени я настолько привыкла сидеть и смотреть в окно, что от неожиданного ярко-желтого блеска так и подскочила – словно кто-то хлопнул в ладоши у меня над ухом.
Я сразу засуетилась, готовя нас к выходу, и в мгновение ока мы оказались на мокро блестевшей улице. Мей была наряжена в костюмчик персикового цвета, и перемена обстановки, судя по всему, ей очень даже нравилась.
– Здрасьте, миссис Джеймс. Правда, странная погода?
Алвин Вильямc вышел из дома сразу за мной и начал говорить, прежде чем я успела обернуться. Голос его звучал достаточно дружелюбно, но, когда я повернулась, лицо его ничего не выражало. Можно было подумать, он смотрит не на меня, а на дверь.
– Привет, Алвин. А где Лупи?
– Иногда он такой зануда. Мне просто захотелось выйти, на облака глянуть. Ничего себе цвета! Можно подумать, у них там кулачный бой или типа того, правда?
Образ мне понравился, и я улыбнулась Ал вину, даже не посмотрев на небо. Я понимала, о чем он говорит, но этот образ как-то плохо увязывался с Алвином Вильямсом, с его вечно грязными очками и прической, как у Бадди Холли [24]24
С. 79. Бадди Холли (Чарльз Хардин Холли, 1936–1959) – выдающийся американский музыкант, один из столпов классического рок-н-ролла и ритм-энд-блюза. Прим. перев.
[Закрыть].
– А у нас сегодня исторический день. Для Мей Джеймс это первая в жизни прогулка.
– Правда? – улыбнулся он, заглядывая в коляску. – Ну, поздравляю. Надо бы вам и мистеру Джеймсу это отметить, с шампанским.
Мы поболтали еще несколько минут, но потом он вроде занервничал и сказал, что ему пора. Меня это устраивало, потому что я хотела уже двигаться.
– Итак, Мей, добро пожаловать на Девяностую стрит! Вот универсам, где я покупаю для нас продукты. А вон там книжный магазин, который нравится твоему папе…
Я устроила для нее краткую экскурсию по микрорайону, и, кроме Алвина, абсолютно все пахли хорошим одеколоном.
Долгие хождения еще причиняли мне боль, поэтому через пятнадцать минут я остановилась перед кафе-мороженым «У Маринуччи» – излюбленным водопоем семейства Джеймс. Зайдя внутрь, я заказала кофе, а заодно проверила, укутана ли Мей как надо.
Незнакомая официантка принесла мне кофе и даже не покосилась на ребенка. – Вот идиотка.
Взяв чашку, я скорчила рожу удаляющейся спине официантки. Чашка оказалась не горячей, а кофе, когда я отхлебнула, – едва теплым.
Громко звякнув, я отставила чашку на блюдце и повернулась к окну. Терпеть не могу теплый кофе. Кофе должен быть горячим, почти кипяток, едва ли не обжигать язык. Официантка читала у прилавка журнал, и я уже хотела подозвать ее, чтобы пожаловаться, но тут обратила внимание на чашку. Над той вился парок, и я почуяла аромат свежемолотого кофе.
Как это? На всякий случай я потрогала чашку. Действительно горячая. Гормоны? Наверняка гормоны, должно же быть какое-то физиологическое объяснение, организм никак не может перестроиться после родов, после всего стресса. Или же у меня настолько поехала крыша от сидения дома и от серо-синего дождя, что некоторые вещи перестали восприниматься вообще или воспринимаются как-то не так – например, тепло, время и память.
Пожав плечами, я взяла чашку и подула на кофе, остужая. Он был таким горячим, что я едва могла удержать палец, просунутый в керамическую ручку. Дэнни, послушай, со мной сегодня такое приключилось… Я мотнула головой, понимая, что ничего ему не скажу, слишком глупо буду выглядеть.
Так что я допила кофе, расплатилась и вышла. Проходя мимо того же окна с другой стороны, я бросила взгляд на свой столик, но чашки уже не было. Однако.
По мере нашего приближения шум Забытых Машин становился отлаженным, размеренным, оглушительным. Я начала различать отдельные детали: поршни и клапаны, вихрящиеся в ослепительной буре меди, хрома и плотного сжатия. Машины ничего больше не производили, но продолжали функционировать. Занятая ими земля являлась их собственностью, и посторонним проход был воспрещен.
До первой Машины оставалось несколько сотен футов, когда она неожиданно замедлила ход, словно старый паровоз, приближающийся к станции. На ее боку блестела красная с золотом табличка, гласившая: «Лизль-зайлер. Прага». Поршни и клапаны снизили темп едва ли не вдвое, хотя лязг и шипение стали громче. Я была уверена, что Машина как-то оигущает наше присутствие. Остальные Машины пугающе быстро подхватили ее темп, ее интонацию. Словно по команде, они замедлились до того же ритма, хотя были совершенно разными.
Я почувствовала, как дрожит подо мной волчица, и поняла, что говорить надо мне.
– Пропустите нас. Вы знаете, кто мы. Мы вам не враги. Нам нужно пересечь равнину, а потом горы.
Поршни Машин с издевательской точностью воспроизвели ритм моих заключительных слов. Я умолкла, и работа продолжилась в прежнем темпе.
– Не трогайте нас. Так-так-так.
Вместе взятые, они звучали как самая большая в мире пишущая машинка. Я перевела взгляд на Мар-Цио, но не смогла прочесть никакой подсказки на его округлой верблюжьей морде.
– Пожалуйста, просто остановитесь. Ненадолго.
Так-так-так.
Шло время. Если молчать, темп Машин оставался прежним, и лишь в сухом воздухе свирепо свистел выпускаемый клапанами пар.
– Каллен, им нужно слово.
Я в ужасе обернулась к мистеру Трейси – ведь он осмелился сказать об этом прямо здесь, перед Машинами! Но когда он умолк, те не стали клацать.
Пепси крепко обхватил переднюю лапу волчицы, на лице его отражался испуг. Он посмотрел на меня снизу вверх, как будто я знала, что делать дальше.
– Но зачем, мистер Трейси?
– Затем, что это единственное доказательство, кто вы. Слово доказывает, зачем вы здесь.
– Но разве оно не понадобится нам позже? Машины ускорили темп, оскорбленные моей нерешительностью.
– Нет, сейчас. Ну же!
Голос мистера Трейси звучал негромко, но твердо. У меня не оставалось выбора.
– Кукунарис! Машины остановились.
Через час со мной поравнялась волчица, и Пепси наконец нарушил молчание, установившееся после того, как мы торопливо и тревожно миновали Равнину Машин.
– Мам, а что это значит? Что такое «кукарри»? Я перевела взгляд на мистера Трейси – он был в нескольких футах впереди, но, услышав вопрос, обернулся и кивнул. И тогда я преподала своему сыну первый урок волшебства:
– Кукунарис, Пепси. Это «сосновые шишки» по-гречески.
Доктора звали Роттенштайнер, а на стенах кабинета бы ппразвешаны веселые фотографии его семьи и золотистых ретриверов.
Я уселась на стул напротив его стола и рассказала о своих снах от начала до конца. Я нервничала, ведь исповедовалась уже второй раз за год – сперва по одну сторону океана, потом по другую, – но последний сон меня испугал. Я хотела избавиться от Рондуа или по крайней мере найти какой-нибудь приемлемый угол зрения.
Когда я закончила, доктор сложил пальцы домиком и пожал плечами:
– Честно говоря, миссис Джеймс, никакой патологии я не вижу. Мне с таким сталкиваться не приходилось, но это известный феномен. Насколько я могу судить, ваш итальянский доктор был совершенно прав. Сны не подчиняются нашему диктату. Они гуляют сами по себе… Повторяющиеся сны или сны с продолжением обычно случаются после какого-нибудь травматического опыта – серьезной аварии или смерти кого-нибудь из близких, – когда нервная система не может оправиться от шока. Однако ваша жизнь складывается вполне счастливо, бесконфликтно, значит, Рондуа снится вам потому, что вам это пусть бессознательно, но нравится. Не более. Скажу вам как на духу: ума не приложу, почему сон продолжается так долго и откуда такое четкое деление на эпизоды. Но как доктора меня это не тревожит. Самый очевидный момент – это включение в ваши сны фрагментов яви, лучший пример которому – те же греческие сосновые шишки. Почему именно они? Понятия не имею. Ваше подсознание решило задействовать именно этот фрагмент; ну, приглянулся он чем-то. Слово действительно странное, но в этом плане наш мозг работает совершенно непредсказуемо. Нечего и пытаться понять его или как-то обуздать, все равно он поступит по-своему.
– Значит, мне не о чем беспокоиться?
– Разумеется, вы можете приходить ко мне раз в неделю и рассказывать о своей жизни, о событиях, происходящих в ней. Но с моей стороны это был бы обман. Насколько я могу судить по вашему рассказу, с вами все в порядке. Вы с мужем живете душа в душу, любите своего ребенка… словом, все протекает очень и очень гладко. Однако если вы вдруг увидите во сне что-нибудь плохое, тогда милости прошу снова ко мне, обсудим. Только я в этом сомневаюсь. На вашем месте я бы предоставил Рондуа свободу действий. Если вам этот сон действительно не нравится, то чем меньше вы сопротивляетесь, тем больше вероятность, что все пройдет.
В психиатрии и психологии я была еще необстрелянным воробьем, а поэтому, услышав одно и то же суждение от двух докторов подряд, постаралась задвинуть тревоги типа «не схожу ли я с ума» куда подальше – забот у меня и без того хватало.
Дэнни ничего не знал о моем визите к Роттенштай-неру, как и о том, что сны продолжаются. Но через несколько недель после того, как я вернулась из больницы, он спросил, как поживают ясмуда и компания.
Я вручила ему мокрую Мей и уставилась в окно. Дэнни принял дочку, но глаз от меня не отвел, ожидая моего ответа. Он беспокоился за меня, и, как всегда в таких случаях, мне захотелось крепко его обнять. Я сказала ему, что мне до сих пор снится Рондуа, но ничего похожего на то, что было раньше. Он спросил, не тревожит ли меня это.
Меня? По-моему, когда все началось, волновался больше кое-кто другой.
– Да, волновался. Просто… ты прямо светилась, когда рассказывала. Мне даже нравилось слушать, как там и что дальше: волчица Фелина, мистер Трейси – этот пес в шляпе…
– Ты их помнишь?
– Как я мог забыть?
Пришла настоящая зима; дни стали холодными, льдистыми, оцепеневшими.
Быть матерью оказалось гораздо труднее и монотоннее, чем я это себе представляла. Я, конечно, понимала, что придется вкалывать без сна и продыху, но рассчитывала на чувство глубокого морального удовлетворения и счастливую улыбку моего ребенка. Однако дел находилось столько, и все время одно и то же, все время одно и то же… В общем, удовлетворение было не более чем мимолетным. Стоило только отвернуться или на секундочку закрыть глаза, как снова приходилось мыть рожки, менять пеленки, не говоря уж о груде белья, загруженной в машину час назад. Мей была золото, а не ребенок и требовала внимания только по делу, но дел этих было столько, что временами у меня просто опускались руки, я вот-вот готова была сорваться.
Вдобавок к вечеру, когда Дэнни возвращался с работы, я всегда старалась навести дома шик-блеск. Мне было очень важно, чтобы он не застал такого же бардака, как у некоторых наших друзей, тоже с маленькими детьми. При одной мысли о разбросанных повсюду игрушках, измазанных шоколадом физиономиях, тошнотворном запахе давно не купанного ребенка мне становилось дурно.
Наверно, в глубине души я хотела, чтобы Дэнни думал обо мне как о «Чудо-женщине» [25]25
С. 85. «Чудо-женщина» – американский телесериал (1974–1979) по мотивам одноименного комикса, выходившего с 1942 г. Прим. перев.
[Закрыть]во всех возможных смыслах. Привлекательная, умная, очень сексуальная – но, главное, способная выдержать нагрузку. Все мы хотим, чтобы нас любили не только за то, какие мы есть, но и за то, какими хотели бы представляться со стороны.
По выходным было легче, так как Дэнни был дома и мог помочь со стиркой и покупками. Иногда мы оставляли Мей на приходящую няню, а сами выбирались в кино или пообедать в ресторан. Это очень помогало, но что самое приятное, после такого перерыва мы возвращались домой с новыми силами и успев соскучиться по ребенку.
Постоянно шел снег. Почти каждый день на улице было слишком холодно, чтобы гулять с Мей, а дома – чересчур жарко. Однажды в середине особо мрачного дня, сидя с Мей на коленях, я вдруг ощутила, что если срочно не найду чем заняться, то стены слопают меня без остатка. Я довольно давно не видела во сне Рондуа, о чем жалела – так бы хоть было чем занять мысли по ходу бесконечных кормлений. В качестве упражнения я попыталась припомнить подробности того, что видела и испытала: таинственные сочетания красок, янтарные отсветы на склонах рондуанских гор на рассвете и закате.
Повседневные детали – и те обычно вспоминаются с превеликим трудом. Что уж говорить о снах, которые видела несколько дней, а то и месяцев назад.
Когда Мей наелась и задремала, я положила ее в кроватку. Порывшись в ящике стола, откопала дневник, который завела, когда сны только начинались. Я не прикасалась к нему с Европы и теперь спешила поскорее запечатлеть на бумаге новейшее развитие событий, пока те совсем не изгладились из памяти. Чем больше я писала, тем больше вспоминала: цвет верблюжьих глаз шорох песка под кожистыми подушечками лап фелины.
Мой мозг, впавший с рождения Мей в состояние, близкое к оцепенению, наконец встряхнулся, и возбуждение раскатывалось волнами до самых дальних закоулков. Это можно было сравнить с побудкой в казарме: сперва вскакивает кто-нибудь один, потом другой, и вскоре шум и гомон доносятся со всех сторон, шуршат одеяла, ударяют об пол пятки.
Я с ходу заполнила несколько страниц, не заботясь ни о хронологии, ни о логике событий. Это был дневник, а дневник – это разговор с самим собой. Я-то понимала, что хотела сказать, – какая лично мне разница, что в записях сам черт ногу сломит?
Часы не так чтобы «летели незаметно», но я провела за этим занятием всю вторую половину дня и устала, как не уставала давно, – той усталостью, что наступает по окончании трудной работы, которая много для тебя значит.
Когда Дэнни пришел домой, я была очень оживлена и рада его видеть. Однако ничего не сказала ему о дневнике, потому что сперва хотела сама как следует разобраться, зачем его веду. Чтобы достичь катарсиса – или просто убить время? Не исключено, что я просто делаю заготовки для детской книжки, которую раньше думала написать. Глубинных – мотивов сегодняшнего поступка я не понимала, так что решила преждевременно не распространяться.
Через несколько дней я купила в канцелярском магазине шикарную тетрадь в кожаной обложке и стала переносить туда все свои записи. Выкладывая двадцать семь долларов за тетрадь, я понимала, что это уже не игрушки, – последний раз я покупала тетради еще в колледже. Такое количество неприветливо чистых страниц действовало на меня возбуждающе, но в то же время немного пугало. Почерк у меня не ахти, поэтому я писала медленно и очень тщательно, получая удовольствие от самого процесса письма и впервые понимая, почему монахи прежде тратили столько времени на украшение рукописей.
Для начала я попыталась свести все мои ясмудские сны воедино и нащупать некий стержень. Начала с самого первого сна и первых моих слов, которые адресовались Пепси в самолете, снижающемся к Рондуа:
«Помню, когда-то в море было полным-полно рыб с загадочными названиями – мудрагора, кукуроза, ясмуда – и можно было почти целый день ничего не делать».
Мей спала или разглядывала повешенный над кроваткой розовый мобиль в виде совы, а я прилежно скрипела пером.