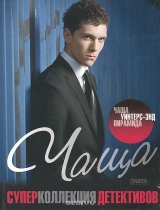
Текст книги "Уинтер-Энд"
Автор книги: Джон Рикардс
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Все это хорошо, но мы так и не знаем, почему он туда полез. Николас, пока сидел в тюрьме, получал или отправлял какие-нибудь письма?
– Нет. Он даже по телефону никому не звонил. Ты думаешь, у него есть кто-то за пределами тюрьмы?
– Возможно. – Я протягиваю руку к столу, беру список сотрудников Гарнера и говорю: – Я побеседую с Валленсом и этим Эрлом Бейкером, может быть, они что-то знают. Тебе удалось найти кого-нибудь из работников детского дома?
– Пока нет. Чарли все еще занимается этим.
Я кладу в карман список и фотографию Николаса, встаю.
– Как закончу, позвоню тебе.
– Конечно. И еще, Алекс, – говорит Дейл, когда я уже стою у двери, – не позволяй Нику доставать тебя. Не стоит он того, чтобы тратить на него нервы.
Я киваю и захлопываю за собой дверь его кабинета.
Бурная погода обернулась дождем, порывы его налетают с запада, пока я еду на север, к городку Касл-Хилл, в котором живет Эрл Бейкер. Струи воды бьют в ветровое стекло, заставляя «дворники» усердно трудиться.
Я бегу к дому номер 12 по Палвер-стрит со всех ног, даже не удосужившись разглядеть как следует это безликое здание, очертания которого вырисовываются в мокрой мути. Когда Бейкер открывает дверь, меня, стоящего под козырьком крыльца, уже бьет крупная дрожь.
– Чем могу быть полезен? – спрашивает он громко, стараясь перекричать шум бьющих по навесу струй. Бейкер – плотной комплекции мужчина лет пятидесяти с чем-то.
Я показываю полицейский значок.
– Управление шерифа. Я хотел бы переговорить с вами. – Я оглядываюсь назад. – И лучше бы в доме.
– Так в чем дело? – спрашивает Бейкер, как только я попадаю в относительный уют его дома.
– Дело касается Генри Гарнера, – отвечаю я. – Не знаю, слышали ли вы об этом, но сегодня утром были обнаружены его останки.
– Я слышал по радио, что нашли чье-то тело.
– Ну вот, и у меня есть к вам пара вопросов, если вы не возражаете.
– Не возражаю, конечно.
Прежде чем я успеваю сказать что-то еще, в двери гостиной, справа от меня, появляется женщина.
– Кто это, Эрл?
– Помощник шерифа Алекс Рурк, мэм, – отвечаю я.
Эрл поворачивается к женщине – она примерно одного с ним возраста, но сложена поизящнее, и с короткими, окрашенными в медный цвет волосами.
– Он по поводу смерти Генри, – говорит Эрл.
Женщина подходит к нам, Эрл снова поворачивается ко мне.
– Дебора Пирс, – представляется она, протягивая мне холодную вялую ладонь. Имя мне знакомо – эта женщина работала медсестрой в «Святом Валентине», когда он только-только открылся. – Он умер так давно. Что-то случилось?
– Нашли его тело, Деб. Выходит, он все-таки не погиб во время пожара.
– Вы оба хорошо знали Гарнера?
Эрл кивает:
– Да, и не один год.
– Он был таким милым человеком, – умильно воркует Дебора. – Когда мне сказали, что он погиб в огне, я не поверила.
– Вы ведь работали в детском доме. Были вы там во время пожара?
– Нет, я ушла оттуда лет за десять-двенадцать до этого.
Я поворачиваюсь к Эрлу:
– А вы, мистер Бейкер? Вы были там?
– Нет, я же не работал у Генри. Я занимался строительством. Построил кое-что и для «Святого Валентина».
– Вам известен человек, который мог питать к нему недобрые чувства?
Оба отрицательно качают головами, и я достаю из кармана медальон и фотографию Николаса.
– Вы можете сказать что-нибудь об этих людях? – спрашиваю я. – Знаете их?
Они рассматривают украшение, которое лежит в пластиковом пакетике на моей ладони. А я вглядываюсь в их лица, пытаюсь увидеть какую-либо реакцию. Нет, ничего.
– Мне очень жаль, помощник Рурк, – говорит Эрл.
– Нет, я их не знаю, – добавляет Дебора. Она бросает еще один взгляд на медальон. – Хотя лицо мне вроде бы знакомо. Возможно, я пару раз видела ее в городе. Что-то в этом роде.
Я ухватываюсь за ее слова:
– В Уинтерс-Энде? Когда работали в детском доме?
– Может быть. Хотя я могу и ошибаться. Это было так давно.
– А что насчет этого мужчины?
Она поджимает губы, недолго молчит.
– Нет, – говорит она наконец, покачав головой. – Нет. Глаза кажутся знакомыми, однако вспомнить его я не могу.
Уже что-то, хоть и немного.
– Еще один вопрос, – говорю я. – «Святой Валентин» имел репутацию заведения со строгими порядками. Известно ли вам что-нибудь о том, что провинившихся детей сажали под замок? До нас дошли слухи об этом, а я, побывав там недавно, заметил пару помещений, которые могли использоваться именно для этой цели.
Эрл и Дебора обмениваются взглядами и – да, вот оно. Очень похоже на безмолвный обмен мыслями. И я понимаю, что Николас сказал правду. Детей, которые плохо вели себя, запирали в камеры, вероятно, Эрлом же и сооруженные.
Дебора, отвечая, в лицо мне не смотрит:
– Нет, я о таком ничего не знаю.
– Ладно, это всего лишь разговоры, которые я слышал. Спасибо за помощь.
– Что вы думаете о смерти Генри? У полиции есть какие-нибудь улики? – спрашивает Эрл, провожая меня до двери.
– Об этом говорить еще рано, – отвечаю я. – Хотя обстоятельства представляются нам подозрительными.
Я и сам не понимаю, что заставляет меня произнести следующую фразу, да еще и направив на Эрла прямой, почти знающий взгляд. Наверное, просто нелюбовь к тем, кто плохо обходится с детьми.
– В данный момент нам многое представляется подозрительным.
Я перевожу глаза на подъездную дорожку и говорю тоном более дружелюбным:
– Надо же, дождь закончился. Ладно, еще увидимся.
Я оставляю полнотелого Эрла стоять в дверном проеме – Дебора маячит за его спиной, и глаза у нее виноватые, влажные. Оказавшись в уединении в салоне своей машины, я пальцами нашариваю в пачке сигарету – главным образом для того, чтобы занять чем-то руки, пока я думаю. Если женщина, изображенная на медальоне, жила в Уинтерс-Энде, пусть даже очень давно, кто-то наверняка ее помнит. И я говорю себе: надо еще раз спросить о ней у Валленса, когда мы снова увидимся, ну и у других немолодых горожан.
В Уинтерс-Энд я приезжаю уже довольно поздно, однако, повинуясь внезапному порыву, сворачиваю к церкви Святого Франциска. Окидываю взглядом это простое, в стиле девятнадцатого столетия, здание. Как я заметил еще вчера, кладбище при церкви маленькое – участок муравчатой земли, пара одиноких деревьев, гравийная дорожка. Двери церкви чуть-чуть приоткрыты – настолько, чтобы дать возможным посетителям понять, не выстуживая церкви, что в нее можно зайти.
Медальон, который я придерживаю ладонью в правом кармане, становится, пока я иду к церкви, все более горячим. Я подумал было, что он просто заимствует мое телесное тепло, но вдруг перед глазами у меня все расплывается и я снова вижу на церковном дворе женщину. Черные волосы, бледное лицо, теперь уже не размытое темнотой.
Я вижу, что это она, женщина с фотографии, по-прежнему облаченная в полуистлевший саван. На этот раз она указывает рукой куда-то на юг, и глаза у нее умоляющие. Взглянув в ту сторону, я вижу только дома и верхушки ближних к городу деревьев.
А когда я оборачиваюсь, ее уже нет. Нервы мои только что не искрят, как провода под током, меня бьет дрожь, никакого отношения к сырости не имеющая. Я торопливо иду по дорожке, встревоженный тем, что мне снова начали являться видения. Именно галлюцинации одолевали меня перед нервным срывом – это вырывались на поверхность страхи, подтачивавшие корни моего сознания.
Дойдя до дверей церкви, я останавливаюсь, мне ужасно не хочется переступать ее порог. «Ты же неверующий, – говорю я себе. – Что ты здесь делаешь?» И, не найдя достойного ответа, я просто поворачиваю ручку двери и вхожу.
Войдя, я различаю внутри лишь одну фигуру, преклонившую колени перед простым алтарем. Я медленно иду по проходу – мы ведь всегда бессознательно стараемся производить в храме как можно меньше шума, как будто Бог спит где-то за стенкой и очень рассердится, если его разбудят.
Подойдя поближе, я узнаю всклокоченные волосы и выцветшую одежду коленопреклоненной женщины. Я уже видел ее сегодня утром в лесу.
Услышав мои шаги, она оборачивается и говорит:
– Вы все же пришли. Я предупреждаю всех, но никто меня не слушает.
– О чем вы?
– Вы пришли, чтобы помолиться о прощении, в котором нуждается ваша душа.
Я не возражаю; у меня такое чувство, что, если я начну спорить с ней, она только разозлится.
– Почему вы сказали утром, что случившееся с Гарнером – дело рук дьявола?
Глаза женщины словно бы обращаются на что-то, находящееся за моей спиной, и она совершенно спокойно отвечает:
– Дьявол пришел за нами. Наш город тонет в пролитой крови, а единственное, чем дьявол вознаграждает наши грехи, – это вечное проклятие.
Ее слова поразительно похожи на то, что говорил Николас.
– А что здесь, собственно, произошло?
– Они построили город на костях погибших. Убивали друг друга из жадности. Замышляли зло и творили его.
Похоже, она говорит о первых днях основания города, и потому я спрашиваю:
– Разве все это не давняя история?
– Нисколько, – отвечает она. – Он проклял этот город. Он забрал женщину, которая умерла на шоссе. Как заберет и всех остальных.
Я достаю медальон, все еще странно теплый, показываю ей.
– Вам известно, кто изображен на этой фотографии?
Женщина проводит пальцем по защищающему снимок пластику.
– Бедняжка! – вот и все, что она говорит.
– Что это значит?
– Сами знаете, иначе не стали бы спрашивать. А теперь молитесь.
– Я неверующий.
Я поворачиваюсь, чтобы уйти, и слышу, как она встает с колен, однако следом за мной не идет.
– Уповайте на милость Господню, – говорит она. – Иначе дьявол заберет и вас.
Я смотрю на медальон.
– Это навряд ли, – говорю я. – Я ему здесь нужен.
Я приезжаю в «Садик Марты», чтобы встретиться с таинственным автором записки, на четверть часа раньше назначенного срока. Сажусь у стойки, заказываю кофе, радуясь возможности окунуться после разговора в церкви в обычную человеческую суету. Ровно в пять появляется Софи Донеган. На ней темно-зеленая рубашка и темные брюки – чуть светлее ее коротко подстриженных черных волос. Темные круги под глазами придают ей вид человека, который чувствует себя примерно так же, как я. Она тоже заказывает кофе и, поглядывая на меня, садится за столик у окна. Я беру свою чашку и направляюсь к ее столику.
– Это вы оставили мне записку? – спрашиваю я, усевшись напротив нее.
Она кивает, неотрывно глядя мне в лицо глазами цвета темного шоколада.
– Вам известно, что Анджела, ну, вы знаете, убитая, работала в детском доме в лесу? – спрашивает она и дует на кофе, остужая его. Глаз она с меня так и не сводит.
– Да. Известно. А что?
– Вы знаете, какие там были порядки?
Софи выпаливает этот вопрос тоном священника, говорящего о людях, которые практикуют черную магию.
– Простите, но об этом никто со мной говорить не хочет.
– И все знают, – шипит она. – Хоть и притворяются, что это не так.
– Знают что?
Температура подросткового гнева спадает на пару градусов, лицо девушки становится чуть более спокойным. Однако глаза, жесткие и пронзительные, продолжают впиваться в меня.
– Если я расскажу вам, вы мне поможете?
Я, стараясь несколько сбавить темп разговора, отпиваю кофе.
– Помогу в чем? – спрашиваю я, ставя чашку на стол.
– Выбраться отсюда. Возьмите меня с собой в Бостон. Деньги у меня есть. Я смогу найти там жилье и работу.
– Если я сделаю это, ваши родители обвинят меня в похищении ребенка. Почему бы вам не поговорить об этом с ними?
– Мама умерла, остался один папаша. Да они и не были моими настоящими родителями.
– Тогда, может быть, вам стоит поискать настоящих?
– Настоящие мне не нужны. Надеюсь, они уже горят в аду! – Эти слова слетают с ее губ с каким-то шипением, и, насколько я могу судить, ее гнев неподделен. – А город этот и всех, кто в нем живет, я ненавижу.
– Почему? – осторожно спрашиваю я, надеясь своим тоном успокоить Софи.
– Моему приемному отцу на меня наплевать, и мне на него тоже. Чуть не каждый вечер он напивается, сидя перед телевизором. А если обращается ко мне, то обычно орет, требуя приготовить обед или сделать еще что-нибудь. Надоело мне все это.
– Ну хорошо, я подумаю об этом, – соглашаюсь я, вздыхая и не питая никакой уверенности в том, что говорю правду. – Но только если вы честно расскажете мне все, что знаете.
Некоторое время она колеблется, словно пытаясь решить, можно ли мне доверять, потом спрашивает:
– У вас дети есть?
– Нет, – отвечаю я. – Пока что.
– Понятно. Но вы же знаете, что родителям полагается любить своих детей, так? Я думаю, мои настоящие родители умерли или с ними еще что-то случилось, потому что, если бы они меня любили, то не отдали бы в такое место. – Она произносит это без особой эмоциональности, но, похоже, испытывает облегчение от того, что нашелся наконец человек, готовый ее выслушать.
– Вы жили в «Святом Валентине»? Чем же он был так плох?
– Меня забрали оттуда, когда мне было лет пять или шесть. – Звучит это так, точно она говорит об освобождении из тюрьмы. – Но мне потребовалось лет сто, чтобы привыкнуть к жизни в каком-то другом месте. Там были особые порядки. Нам не разрешали покидать территорию дома, нас и во двор-то выпускали только в середине лета. Представляете? И думаю, будь я постарше, мне пришлось бы еще хуже.
– Вы это о чем?
– Детей постарше, если они совершали проступки, били или запирали в подвале на несколько часов, а то и дней. Все были обязаны работать по дому. Помню, кто-то из поваров избил одного мальчика половником только за то, что он расплескал приготовленную этим поваром подливку.
– Вы помните имена кого-нибудь из детей? Особенно старших? – спрашиваю я в слабой надежде, что она вспомнит мальчика по имени Николас. Однако меня ожидает разочарование.
– Нет, не помню. Двух-трех детей моего возраста я помню, и только.
– А как насчет персонала? Помните ли вы какие-либо конкретные поступки кого-то из этих людей? Какие-нибудь имена?
Она понимающе улыбается:
– Вы хотите узнать что-то об убитой женщине, верно? Простите, но я ее почти не знала, думаю, и другие дети имели с ней дело, только когда получали увечья.
– И никто никогда не сказал ни слова о том, что происходило в «Святом Валентине»? Ведь можно же было добиться его закрытия.
– Нет, никто. Я думаю, персоналу нравилось все, что там творилось. Если бы дом работал и сейчас, какие-то разговоры, наверное, пошли бы. Однако он не работает. Тот, кто поджег его, избавил от неприятностей очень многих.
Мне понятно, что вопрос, который я собираюсь задать, деликатен, но решаюсь все-таки рискнуть:
– Софи, шериф Тауншенд сказал мне, что ваша приемная мать умерла примерно в то же время, когда сгорел «Святой Валентин». Что произошло? Если вам не хочется говорить об этом, я вас пойму.
– Да нет, ничего, – отвечает она, пожимая плечами. – Я была к ней равнодушна, а почему она покончила с собой, просто не знаю. Она всегда была взвинченная, ну и муж ее вел себя как последняя сволочь. Однажды я вернулась домой из школы и нашла ее мертвой – она лежала на диване, а на столике рядом стоял пустой пузырек из-под снотворного. С тех пор мой приемный отец и не просыхает.
Я прошу официантку принести нам еще по чашке кофе, закуриваю, предлагаю Софи сигарету. Софи не отказывается.
– Знаете что? – говорю я после того, как нам приносят кофе. – Если к тому времени, когда я здесь закончу дела, вы не раздумаете уезжать из Уинтерс-Энда, я возьму вас с собой. Но вы все-таки серьезно подумайте, покинуть дом – поступок очень серьезный, да и дальнейший ваш путь будет устлан не только розами. Договорились?
– Договорились.
– Вот моя визитка. Если захотите связаться со мной, звоните по этому номеру.
Софи бросает взгляд на темно-синие буквы и цифры.
– Спасибо, Алекс, – говорит она, слегка запнувшись, перед тем, как произнести мое имя. По-моему, ей хочется что-то добавить, однако она ограничивается простым «до свидания» и уходит.
Когда двигатель моего «корвета» умолкает, я бросаю взгляд на часы. Без пяти восемь. Черт. Слишком рано. Приходить в такое время на свидание просто-напросто неприлично. Чего доброго, дама подумает, будто я кидаюсь со всех ног по первому же зову. В иных обстоятельствах я бы просто просидел пять минут в машине. Увы, я нахожусь на тихой жилой улочке, а «корвет» мой неприметным никак не назовешь. Я подхватываю купленные по дороге цветы и выбираюсь из машины, стараясь дышать легко и свободно. Чувствую я себя так, точно направляюсь на первую в своей жизни танцульку старшеклассников. И надеюсь, что в выбранный Джеммой ресторан мужчин пускают без галстуков, поскольку из Бостона я ни одного не привез.
Джемма открывает дверь через пару секунд после моего звонка. На ней свободная красная блузка, тесная юбочка до колен, в общем, выглядит она восхитительно. Светлые волосы рассыпались по плечам, точно золотистая сахарная вата. Улыбка ее прекрасна, но за ней скрывается волнение под стать моему. И первые же слова, которыми мы обмениваемся, делают наше обоюдное смущение столь очевидным, что мы даже успокаиваемся немного, поскольку у нас появляется маленький кусочек общей почвы.
– Какие они красивые, – говорит Джемма, когда я без особой ловкости вручаю ей букет.
Она ставит цветы в вазу, стоящую на столике в прихожей, снимает с вешалки куртку из коричневой замши, подхватывает сумочку.
– Надеюсь, в ресторан меня пустят, – говорю я, тыча пальцем в мою вполне приемлемую, но лишенную необходимого украшения грудь. – Ближайший из моих галстуков находится в нескольких сотнях миль отсюда.
Я улыбаюсь, она смеется искренне, мягко и звонко. И я понимаю, что меня ожидает прекрасный вечер.
Мы неторопливо идем под руку по центру города, разговаривая о том о сем и ни о чем в частности. Выбранный Джеммой ресторанчик совсем невелик – темное дерево, матовое стекло, приглушенный свет. Дружелюбная обстановка и вкусная, без дорогих кулинарных изысков, еда.
Мы сидим в тихом углу, я слушаю рассказ Джеммы о детстве, которое прошло в Бангоре, самом большом городе на севере штата Мэн. Ее старшая сестра Алиса переехала в Балтимор, когда Джемма заканчивала учебу на медицинском факультете, а младший брат Райан работает сейчас в одном из банков Огасты. В студенческую пору она подрабатывала в патологоанатомической лаборатории и в результате стала внештатным медэкспертом здешней полиции. Я узнаю, что у нее немало друзей в городе, однако вечера она проводит по преимуществу дома. Узнаю, что она любит читать, но предпочитает книги, по возможности не связанные с ее работой; что смотрит фильмы ужасов, но, когда доходит до самих ужасов, закрывает глаза; что слушает музыку, однако любимых исполнителей у нее нет – что передают по радио, то и слушает.
Я в свой черед стараюсь не перегружать ее подробностями моей прискорбной жизни. Рассказываю почти обо всем, хорошем и плохом, но ни на чем подолгу не задерживаюсь. Сыплю студенческими историями, потом теми, что связаны с моей работой в Бюро и после него. Говорю, что мой выбор машины определяется не столько потребностью поддержать образ мачо, сколько желанием продемонстрировать любовь ко всему смехотворному. Она смеется, когда я шучу, увлеченно слушает, когда я говорю что-то всерьез. Мне кажется, что я ей нравлюсь, и это хорошо, потому что она нравится мне безусловно.
Так незаметно пролетает несколько часов, и вскоре наступает время заплатить по счету и уйти. Мы идем к ее дому под руку, продолжая разговаривать и смеяться. Она спрашивает, не хочу ли я зайти к ней.
– Хочу, – отвечаю я, – но я никогда не делаю этого при первом свидании. Может быть, это старомодно, однако я стараюсь дать женщине время на размышления о том, полный ли я козел или все-таки не очень.
Я улыбаюсь, понимая, впрочем, что прохожу последнюю проверку. Если это ей не понравится, значит, ничего у нас не выйдет.
Джемма просто улыбается в ответ и придвигается ко мне.
– В таком случае, что вы делаете завтра вечером? – спрашивает она, и ее зеленые глаза сияют.
Я кладу ладони на ее бедра, она повторяет мое движение в зеркальном отражении, мы целуемся. Поцелуй получается долгим, но спокойным и ласковым. У нее шелковые губы и чуть отдающее корицей дыхание. Я ощущаю щекой ее волосы, а телом – теплоту ее тела.
Когда мы разрываем объятие, она шепотом желает мне спокойной ночи, гладит меня по руке и поднимается на крыльцо своего дома. С мгновение я стою перед ним, точно оглушенный любовью подросток, потом разворачиваюсь и иду к «корвету». Пока я забираюсь в него, на моем лице сияет улыбка шириной в добрый арбуз и чувствую я себя таким счастливым, каким не был уже сто лет. Я бы даже кулак вверх выбросил, да салон у меня низенький. Поэтому я просто включаю двигатель и медленно, неохотно отъезжаю от тротуара.
На всем долгом темном пути домой единственный свет, какой я вижу, создается двумя лучами, вырывающимися из фар «корвета». Сырое щебеночно-асфальтовое покрытие дороги обладает почти гипнотизирующим сходством с экраном телевизора, по которому бегут статические помехи, фары высвечивают трещинки, неровности, камушки, и в конце концов меня охватывает ощущение странной легкости, бездумности, такое, точно голову мою наполнили гелием и кое-как приладили к плечам. Душевный подъем, соединенный с дремотностью – или с чем-то совсем другим.
Я вырываюсь на лежащие между «Святым Валентином» и Уинтерс-Эндом просторы полей на скорости больше шестидесяти миль в час, мне не терпится вернуться домой. Даже мысль о неприветливом «Краухерст-Лодже» кажется мне приятной. А затем я вижу впереди что-то, отражающее свет моих фар, и ударяю по тормозам.
Когда визг покрышек стихает, я отрываю голову от руля, в который она уткнулась, и получаю возможность как следует разглядеть открывшуюся передо мной сцену. Обнаженного по пояс мужчину с ножами в обеих руках. Стоящую перед ним голую женщину, Анджелу Ламонд, рыдающую, прикрыв ладонью рот. Призрачный, светящийся дождь, капли которого танцуют на их коже.
Привидения стоят перед «корветом», не ведая о моем присутствии, – остаточные образы событий, уже отошедших в историю. Глядя на эту живую картину, я чувствую, как где-то за моими глазами разгорается острая точка света, предвестница подступающей мигрени. И все же отхожу от машины, чтобы разглядеть все получше. Николас произносит негромко и мягко:
– Ты понимаешь, почему это должно произойти. Обычно сам я такими делами не занимаюсь, но мне нужно, чтобы ты сыграла роль вестницы.
– Прошу вас, – шепчет Анджела. – Пожалуйста.
– Я мог бы сказать, что благодаря цели, которой ты послужишь, ты испытаешь меньшие мучения, – продолжает Николас. Молния, которая существует только для двух актеров-призраков, разыгрывающих передо мной эту сцену, вспыхивает, озаряя их кожу и приплясывая в глазах Анджелы. – Но это было бы ложью. Ты же знала, что за твоими поступками последует воздаяние.
Николас ласково поворачивает ее к себе спиной, обвивает, точно любовник, руками. А затем молния сверкает снова – на ножах, которые взлетают в воздух и вонзаются в спину Анджелы, так что струи дождя смешиваются с кровью. Он осторожно опускает тело женщины на дорогу, ждет, когда остановится ее сердце, и начинает яростно кромсать грудь Анджелы. А затем выпрямляется, свесив руки вдоль тела, и говорит:
– Теперь будем ждать.
С меня довольно. Я выхожу из ступора, поворачиваюсь и бегу к машине. Пальцы мои, когда я включаю двигатель, подергиваются. Я ударяю ногой по педали газа и продолжаю вдавливать ее в пол, пока не добираюсь до города.
Думать я могу только об одном: у меня начались видения. Опять. Отчаянно хочется списать их на переутомление, на неподходящую пищу. Однако каждое движение головы порождает покалывание в затылке, и я с ужасом думаю, что просто разваливаюсь на части.
Гостиничная парковка темна и пуста. Я, пошатываясь и нащупывая в кармане ключи, плетусь к парадной двери. Древний железный дверной молоток издевательски улыбается мне с другого конца веранды. Я влетаю в вестибюль, проскакиваю мимо стойки портье с тусклой, красновато светящейся лампочкой. Поднявшись наверх, в свой номер, я включаю весь свет, какой там есть, а заодно и телевизор, надеясь, что он заглушит наружный шум листвы.
Проглотив таблетку от мигрени, я плещу себе в лицо и на шею холодной водой. Голова гудит, перед глазами все подрагивает, кривится и приплясывает. Прими вторую таблетку. Сядь, посмотри телевизор, постарайся успокоиться. Прими третью. Четвертую. Я глотаю две предназначенные для этой ночи таблетки снотворного, а затем добавляю к ним пятую – обезболивающего. Снимаю куртку и все прочее и кладу кольт так, чтобы до него легко было дотянуться с постели.
И отключаюсь под невнятный шум телевизора.
Из сна без сновидений меня вырывает повторяющееся дребезжание будильника. Я замерз, поскольку заснул, не укрывшись одеялом. Голова болит, но это похоже скорее на похмелье, чем на что-то более серьезное. Тем не менее я, протирая глаза, глотаю еще одну таблетку. А затем с опаской подбираюсь к окну и выглядываю в щель между шторами. Какой мир ожидает меня за ними? Бодрствующий или спящий, фантастический ландшафт или кошмарный? Изменилось ли там что-нибудь?
Нет. Снаружи обычный день. Тучи вернулись, устлав небо подобием заплесневелого шерстяного одеяла, но по крайней мере ни призраков, ни причудливых видений, готовых преследовать меня, там нет.
Я принимаю душ, одеваюсь, закуриваю первую за этот день сигарету. Прежде чем выйти из номера, смотрю на себя в зеркало. Выгляжу я плохо. Слишком бледная кожа, налитые кровью глаза с покрасневшими веками, серый от щетины подбородок.
С завтраком сегодня лучше не связываться, говорю я себе. Сидеть в пустой столовой, чувствуя себя монархом в изгнании, мне не по силам.
Я трусцой добегаю до «корвета», завожу его.
В 8.15, в шести милях к югу от городка, звонит мой сотовый.
– Алекс, это Дейл. Уже сто лет до тебя дозвониться пытаюсь.
– Прости, – говорю я. – У меня телефон был выключен. Что-то случилось?
– Николас сбежал.








