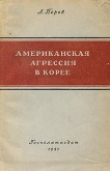Текст книги "Американская повесть. Книга 2"
Автор книги: Джон Эрнст Стейнбек
Соавторы: Трумен Капоте,Уильям Катберт Фолкнер,Эдит Уортон,Эрскин Колдуэлл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
– Терпи! Бога ради, держись, терпи!
– Я стараюсь, – отозвалась она. – Только скорее! Скорее!
Он ушам своим не поверил, рассказывал он: скорее, торопись – да уж куда скорее?! – падающему с обрыва велели ухватиться за что-нибудь и спастись; сами эти слова, вырвавшиеся в мучительном забытьи, звучали бредово, нелепо, смехотворно и безумно, поражали своей неправдоподобностью больше, чем любая сказка, разыгрываемая в огнях рампы.
К тому времени он был уже в бассейне реки…
– В бассейне? – переспросил толстый каторжник. – Но это же где купаются.
– Вот именно, – хрипло ответил высокий, глядя вниз, себе на руки. – Я и выкупался. – Огромным усилием уняв на миг дрожь в руках, он отделил от пачки два листка папиросной бумаги и даже сумел удержать руки в неподвижности еще пару секунд, пока оба листка, кружась и порхая, нерешительно опускались на пол к его ногам.
…в бассейне, в широком тихом желтом море, где, как ни странно, сразу чувствовалась во всем упорядоченность, отчего у него, даже в ту минуту, возникло ощущение, что, если и не полное затопление, то, во всяком случае, большая вода для этого места не в новинку; он даже вспомнил сейчас, как оно называлось – две-три недели спустя кто-то сказал ему это название – Атчафа-лайа…
– Луизиана? – удивился толстый. – Это что же, тебя аж в другой штат забросило? Ну и дела. – Он недоверчиво посмотрел на высокого. – Да нет, ерунда. Ты просто был по ту сторону от Виксберга.
– Ни про какой Виксберг я там ни от кого не слышал, – возразил высокий. – А вот что по ту сторону Батон-Руж, это мне говорили.
И он стал рассказывать про маленький белый аккуратный, точно нарисованный, примостившийся среди громадных, очень зеленых деревьев городок, который возник в его рассказе, пожалуй, так же неожиданно, как это случилось в действительности, когда, явившись внезапно, будто мираж, воздушный и невероятно уютный, городок этот предстал перед ним россыпью лодок, пришвартованных к дверям товарных вагонов, что застыли в воде длинной цепью. Он попробовал описать и другое: как, стоя по пояс в воде, он на мгновенье оглянулся и посмотрел на женщину – она полулежала, глаза ее были по-прежнему закрыты, костяшки вцепившихся в борта пальцев побелели, из прокушенной губы стекала на подбородок тонкая струйка крови, – как он стоял и смотрел на нее с гневным отчаянием.
– А сколько мне надо будет пройти? – спросила она.
– Говорю тебе, не знаю! – закричал он. – Но вон же она, земля, вон! И земля, и дома.
– Так-то хоть в лодке, а то шаг сделаю, и, глядишь, прямо в воду рожу, – сказала она. – Ты уж давай, подплыви туда поближе.
– Ладно! – со злым недоумением, безнадежно выкрикнул он. – Жди. Я пойду, сдамся им, тогда они должны будут… – Он не закончил, не стал дожидаться, пока закончит; и еще он рассказал, как, подымая брызги, спотыкаясь, то шагал, то пытался бежать, всхлипывал, задыхался; но он уже увидел: над желтым разливом высилась погрузочная платформа и по ней сновали фигурки, одетые в «хаки», – всё, как раньше, всё то же самое, один в один; и промежуточные дни, прошедшие с того безобидного утра, словно сложились в гармошку, сказал он, сплющились и исчезли, будто их никогда не было; два разделенные этими днями мгновения вдруг оказались рядом: то, далекое, перешло в это, которое было сейчас (перешло? или, может, слилось с ним?), и, перенесясь через не существовавший больше промежуток, он попросту повторил прежний путь, только в обратном направлении, – спотыкаясь, падая, он шагал с поднятыми руками сквозь брызги и что-то хрипло каркал. «Вон один из них!» – донеслось до него, потом раздалась команда, лязгнули затворы и кто-то встревоженно выкрикнул: «Вон он идет! Вон там!»
– Да! – рванувшись, побежав, закричал он. – Вот он я. Здесь! Здесь! – повторял он, выбегая навстречу первым недружным выстрелам. – Я хочу сдаться! Я сдаюсь! – размахивая руками, вопил он, остановившись среди пуль, и глядя – без ужаса, но изумленно, с беспредельным мучительным гневом, – как скопление присевших фигурок в «хаки» разделилось пополам и в просвете возник пулемет; тупое толстое дуло косо поползло вниз, дернулось и выжидательно замерло, наставленное на него, а он все вопил хриплым, каркающим голосом: – Я хочу сдаться! – крутился на месте, падал, подымая брызги, барахтался и продолжал вопить, даже когда с головой ушел под воду, и когда прямо над ним – чок-чок-чок, слышал он, – зашлепали пули, и когда, елозя по дну, он пытался встать на ноги, а из воды торчали только два полушария, в которых безошибочно угадывался его зад, – даже тогда гневный, яростный вопль рвался из его рта, пузырями проплывал у него перед лицом; ведь он же просто хотел сдаться. А потом он оказался в относительно укрытом месте, вне досягаемости огня, правда не надолго. Иначе говоря (он не рассказал, ни как это случилось, ни где), у него появилась возможность на минутку остановиться и перевести дух, прежде чем он побежал снова, – обратная дорога к лодке была пока достаточно безопасной, хотя за спиной у него по-прежнему слышались крики, а иногда гремели и выстрелы, – и, задыхаясь, всхлипывая – из ладони ему вырвало длинный клок мяса, но когда и как, он не знал, – впустую растрачивая драгоценное дыхание, не адресуя эти слова уже никому – так предсмертный крик кролика не взывает к слуху смертных, а скорее выносит обвинение всему, что живет и дышит, и, себе самому, своим глупым безумствам и мучениям, ибо единственное, что, пожалуй, бессмертно, это неистощимая способность всего живого совершать глупости и страдать, – бормотал: «Мне же ничего не надо, я просто хочу сдаться».
Он вернулся к лодке, залез в нее и вновь взялся за служивший веслом обломок доски. Дойдя в своем рассказе до этого места, он, несмотря на весь неистовый драматизм кульминации, совершенно успокоился – пальцы у него больше не дрожали, он даже сумел согнуть следующий листок папиросной бумаги и наполнил узкую канавку табаком, не просыпав ни крошки, – и говорил легко, как будто прямо из-под шквала пулеметного огня перенесся в заводь, где ничто не сулило новых потрясений; поэтому все, что он рассказывал дальше, доходило до слушателей словно сквозь затуманенное, хотя и прозрачное стекло, как нечто воспринимавшееся не слухом, а зрением – череда силуэтов, не слишком четких, но все же хорошо различимых, плавно, без суеты плывущих друг за другом в логическом порядке, не издавая ни звука. Они были в лодке, в центре широкой и тихой, безбрежной котловины, их крохотный жалкий челнок летел, подчиняясь неотвратимой власти течения, снова направленного неизвестно куда; мелькавшие в обрамлении дубовых рощ, недостижимые, призрачные, как мираж, маленькие городки, казалось, не имели под собой никакой опоры и висели в воздухе на фоне неменяющегося горизонта. Он этим городкам не верил, они стали ему безразличны, он был обречен; они теперь утратили для него реальность: тающий дым, бредовые видения – не более; непрестанно погоняя лодку, потеряв и цель, и даже надежду, он плыл дальше и время от времени поглядывал на женщину: напряженно застывшая, один сплошной комок, она сидела, подтянув колени к животу и обхватив их руками, с закушенной нижней губы стекала кровавая слюна. Он плыл в пустоту, убегая от пустоты, и грести продолжал лишь потому, что греб уже слишком долго и теперь боялся остановиться, боялся, что его мышцы в тот же миг закричат от смертельной боли. И то, что затем случилось, не вызвало у него удивления. Доносившийся сзади шум был ему хорошо знаком (по правде говоря, он слышал его прежде всего раз, но такое запоминается навсегда), к тому же он давно ждал его; продолжая грести, он оглянулся и увидел: закручиваясь в трубку, увенчанная гребнем, волна легко, как солому, несла свой неизменный груз – деревья, обломки, мертвых зверей; он целую минуту глядел на это зрелище, отгороженный от него чудовищной усталостью – той запредельной усталостью, что подмяла под себя его гнев, положила конец страданиям, лишила даже способности ощущать новые обиды, – и злобно, с холодным любопытством размышлял, велика ли степень напряжения, которую еще смогут вынести его потерявшие чувствительность нервы, и какие очередные испытания придумала для них стихия; глядел и размышлял, пока волна, собирая воедино всю свою громовую мощь, не заревела прямо над ним. Только тогда он отвернулся. Ритм его движений остался прежним, он греб и не быстрее, и не медленнее; выложившийся без остатка, он все так же размеренно, словно в трансе, опускал и подымал весло, когда заметил плывущего оленя. Он даже не понял, что это олень, и не изменил курса, чтобы поплыть следом, просто наблюдал за скользящей впереди головой, а волна тем временем, закипев, изогнулась, и лодка знакомо взмыла всем корпусом вверх, попала в мешанину скачущих деревьев, домов, мостов и заборов, но он все так же греб, и продолжал грести, даже когда весло зачерпывало лишь воздух, даже когда и лодка, и олень вместе, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, рванулись вперед; правда, теперь он наблюдал за оленем внимательнее, следил, как тот начал вдруг подниматься из воды, а потом, выбравшись из нее совсем, побежал по ее поверхности и, поднимаясь все выше, оторвался, взлетел, воспарил над ней в затухающих всплесках, в гаснущем хрусте ветвей – мокрый куцый хвостик мелькнул в воздухе, и олень, весь целиком, растаял где-то в вышине как дым. Тут лодку ударило, перевернуло, он тоже на миг взлетел, но тотчас оказался по колено в воде и, стремясь из нее выпрыгнуть, падая и вновь неуклюже вставая, во все глаза, неотрывно глядел вслед пропавшему из вида животному.
– Земля! – крикнул он. – Земля! Потерпи! Еще чуть-чуть!
Обхватив женщину под мышками, выволок ее из лодки и, пыхтя, ринулся за исчезнувшим оленем. Да, это на самом деле была земля – ровный, гладкий, крутой подъем; неправдоподобно твердое и странное возвышение, что-то вроде индейского кургана; штурмуя глинистый склон, он соскальзывал назад, а женщина вырывалась из его вымазанных грязью рук.
– Отпусти! – кричала она. – Отпусти!
Но он, удерживая ее под мышки, пыхтя и всхлипывая, карабкался наверх; и уже почти взобрался, почти доставил свою яростно сопротивлявшуюся ношу на плоскую вершину кургана, когда наступил на какой-то прут, который вдруг конвульсивно дернулся у него под ногой и мгновенно уплотнился. Это была змея, теряя равновесие подумал он и, собрав последние, теперь уже бесспорно последние силы, вытолкнул, выбросил женщину на холм, а сам, ногами вперед, лицом вниз, полетел обратно – все в тот же мир воды, где он обретался уже не упомнить сколько дней и ночей и откуда так ни разу не выбрался целиком, – как если бы его тело, несчастное, измочаленное, пыталось любой ценой – пусть даже утопив себя – выполнить его неослабное яростное желание отделиться от обузы, которую невольно и безоговорочно навязала ему судьба. Позже, когда он вспоминал об этом, ему казалось, что вместе с собой он унес под воду и первый, мяукающий крик ребенка.
IV
Когда она спросила, нет ли у него ножа, каторжник – вода ручьями стекала с его полосатого одеяния, с тюремной робы, из-за которой в него уже дважды за эти четыре дня стреляли при обеих его встречах с людьми, а последний раз стреляли даже из пулемета – испытал то же самое, что и тогда, в мчащейся лодке, когда женщина сказала, что хорошо бы плыть быстрее. Его снова охватило возмущение; обиженный, оскорбленный до глубины души, он бессильно злился, не находя слов, не в состоянии ничего на это ответить; и, вымотанный, задыхающийся, потерявший дар речи, простоял над женщиной еще целую минуту, пока до него дошло, что она кричит: «…банку! Консервную! Из лодки!» Чутье не подсказало ему, зачем ей эта жестянка; он даже не стал гадать, не задержался, чтобы спросить. Повернулся и побежал. Еще одна, на этот раз без удивления подумал он, когда в траве снова что-то конвульсивно сжалось в неуклюжем инстинктивном рывке, обозначавшем никак не тревогу, а лишь настороженность, и даже не отпрянул на бегу в сторону, хотя понял, что занесенная нога опустится всего в ярде от плоского черепа. Подброшенная волной лодка довольно высоко въехала носом на берег и так и застряла, сейчас в нее заползала с кормы змея; нагнувшись за служившей им черпаком жестянкой, он заметил, что к островку плывет что-то еще, но не понял что – какая-то голова над расходящейся клином рябью. Схватил жестянку; даже не наклонив, отвесно опустил ее в воду и сразу же вынул, полную до краев, – все это на ходу, уже поворачивая назад. И снова увидел оленя, правда, может быть, другого. В общем, оленя – краем глаза: светлый дымчатый призрак, на миг возникнув между кипарисами, тотчас исчез, а он, не остановившись, не поглядев ему вслед, бегом примчался назад к женщине, опустился на колени и держал банку у ее губ, пока она не объяснила, чего от него хочет.
В банке раньше хранились то ли бобы, то ли помидоры, короче, что-то герметически закупоренное, а потом, четыре раза тюкнув топориком, банку открыли, и железная крышка с рваными, острыми как бритва краями была отогнута. Женщина растолковала ему, что надо сделать; он вытащил из ботинка шнурок и перерезал его пополам острой жестью. Потом ей потребовалась теплая вода. «Если бы нагреть хоть немного воды», – без особой надежды, тихим, слабым голосом сказала она; где, где он возьмет ей спички?! – его охватило почти такое же возмущение, как недавно, когда она спросила, нет ли у него с собой ножа, и гнев его улегся, лишь когда она сама, покопавшись в кармане задубевшего кителя (два темных у-образных пятнышка на рукаве и круглое темное пятно на плече остались от споротых нашивок и эмблемы рода войск, но каторжнику эти кляксы ни о чем не говорили), достала коробок, сооруженный из двух вставленных одна в другую латунных гильз. Тогда он оттащил ее подальше от воды, а сам пошел искать сухой хворост для костра, то и дело говоря себе: Это просто еще одна змея, хотя – отвлекаясь, добавил он – вполне мог бы сказать: еще одна из десяти тысяч; и теперь он уже понял, что там, среди кипарисов, был другой олень, потому что по дороге увидел сразу трех оленей одновременно: самцов или самок, он не понял, ведь в мае олени все без рогов, к тому же он об оленях ничего не знал и раньше видел их только на рождественских открытках; еще ему попался кролик – утонул, наверно; короче, был мертвый и уже наполовину распотрошенный, – а на кролике стоял ястреб: хохолок торчком, клюв твердый, злой, с аристократической горбинкой, взгляд желтых глаз надменный, хищный; он пинками согнал его, пинал до тех пор, пока тот, шатаясь и хлопая широкими крыльями, не поднялся в воздух.
Когда он вернулся – и с хворостом, и с мертвым кроликом, – младенец, завернутый в китель, лежал в развилке между нижними ветками кипариса, а женщины что-то не было видно, правда, вскоре – каторжник тем временем уже опустился на колени в грязь и заботливо раздувал чахлый огонь – она появилась откуда-то с берега и, медленно, неуверенно переставляя ноги, подошла к ребенку. Потом вода наконец нагрелась, и в руках у женщины оказался неизвестно где раздобытый квадратный лоскут чего-то среднего между мешковиной и шелком (каторжник так и не узнал, где она взяла эту тряпку, да небось и сама женщина, пока не приперло, не знала, откуда она ее возьмет, впрочем, этого не знала бы и ни одна другая женщина, ведь такими вопросами женщины не задаются); присев на корточки у костра, сквозь пар, шедший от мокрой робы, он с любопытством дикаря наблюдал, как она обмывает ребенка, и это было так интересно, так удивительно и невероятно, что, не выдержав, он подошел ближе, встал над ними и, глядя сверху на крошечное, ни на что не похожее, оранжево-красное существо, думал: И только-то. Значит, это и есть то, из-за чего я был так грубо разлучен со всем, что знал и понимал; вот, значит, то, ради чего меня сперва зашвырнуло в мир, которого я страшился от рождения, а потом в конце концов выбросило в краю, который я раньше и в глаза не видел, туда, где мне даже не узнать, где я.
Потом он еще раз спустился к воде и снова наполнил жестянку. Солнце меж тем тускнело (закатом это было не назвать, густые облака закрывали небо), и день, такой долгий, что каторжник уже не помнил его начала, шел к концу; когда же он вернулся назад, туда, где, угрюмо переплетаясь ветвями, кипарисы обступали костер, то понял, что за время его короткого отсутствия вечер успел полностью вступить в свои права, как если бы темнота, что, спасаясь от потопа, вначале тоже приютилась на этом крохотном, в четверть акра, холме, на этом земляном ковчеге, на этом заросшем кипарисами, кишащем живностью, окруженном водой, затерянном в пустоте кургане – где, в какой стороне, как далеко и как далеко от него лежит этот островок, он не знал, с тем же успехом его можно было спросить, какое сегодня число, – сейчас, с заходом солнца, вновь выбралась из своего убежища, чтобы расползтись по воде. Пока он по частям варил кролика, огонь становился все краснее, все ярче алел в темноте, откуда, то вспыхивая, то угасая, то вновь вспыхивая, робко и настороженно поглядывали глаза мелкого зверья, а один раз, высоко над землей, зажглись кроткие большие, чуть не с блюдца, глаза оленя; и вот, после четырех дней голода – бульон, крепкий, горячий: первую жестянку целиком выпила женщина, а он смотрел на нее и, казалось, слышал, как слюна шкворчит у него во рту. Потом он тоже выпил полную жестянку; они доели остальное мясо – обугленные, черные кусочки, жарившиеся на ивовых прутьях; и была уже настоящая ночь.
– Ты с ним лучше иди спать в лодку, – сказал каторжник. – Завтра нам рано отплывать.
Чтобы лодка стояла ровно, он спихнул ее со склона, потом нарастил носовой фалинь, привязав к веревке лозу; вернулся к костру, обмотал себя концом лозы, как поясом, и лег. Лежал он в липкой грязи, но внизу, под ним, под грязью, было твердо; там была земля, и она не двигалась; упав на нее, ударившись об ее бесспорный, не таящий подвоха покой, ты мог даже переломать кости, но зато она была физически ощутима, она тебя не обволакивала, не душила, не засасывала все глубже и глубже; иногда ее бывало тяжело пропарывать плугом, и случалось, ты проклинал ее привередливость, когда на закате долгого дня она отсылала тебя назад, на твою койку, но зато она не похищала людей из привычного, знакомого им мира, не мотала тебя, бессильного пленника, по нескольку дней в пустоте, отняв надежду на возвращение. Я не знаю, где я, и, похоже, не знаю даже дорогу обратно, туда, куда хочу вернуться, думал он. Но по крайней мере лодка давно уже стоит спокойно, и теперь я, наверно, сумею ее развернуть.
Проснулся он на заре, еще только светало: небо – бледно-желтое, день будет хороший. Костер давно отгорел; по ту сторону холодной золы лежали три змеи – три застывшие параллельные линии, вроде тех, какими отчеркивают итог под столбиком цифр, – и контуры остальных змей, казалось, тоже начинали проступать в нарастающем свете; земля, которая только что была просто землей, распалась на отдельные неподвижные извивы и кольца; ветви, которые еще минуту назад были просто ветвями, превратились в окаменевшие волнистые фестоны – все это произошло в один миг, пока каторжник, поднявшись на ноги, думал о еде, о том, что перед отплытием надо бы поесть чего-нибудь горячего. Но потом решил, что не так уж это важно и не стоит зря терять столько времени, тем более что в лодке оставалось еще немало твердых, похожих на камни комков, которые вывалила туда женщина с баркаса; да и, кроме того, думал он, какой бы удачной и скорой ни оказалась его охота, он же все равно не запасет еды впрок, чтобы хватило, пока они доплывут куда надо. И потому, подтягивая к себе вплетенную в веревку лозу, он спустился к лодке, к воде, окутанной плотным, как ватин, туманом (он был густой, этот туман, но стлался, похоже, только понизу), в котором уже исчезла корма, хотя лодка почти касалась носом берега. Женщина проснулась, заворочалась.
– Отплываем? – спросила она.
– Угу. А ты что, надумала с утра пораньше еще одного родить? – Каторжник влез в лодку, оттолкнулся, и берег сразу же начал таять в дымке. – Дай-ка весло, – не поворачивая головы, не глядя на женщину, сказал он.
– Весло?
Он повернулся.
– Да, весло. Ты на нем лежишь.
Но весла под ней не было, и на миг – пока островок продолжал медленно таять, пока туман бережно, словно дорогую безделушку, словно что-то очень хрупкое или очень ценное, укутывал лодку в невесомую, неосязаемую вату – каторжник оцепенел, охваченый даже не тревогой, а тем внезапным неистовым гневом, который вспыхивает в человеке, когда тот еле успевает увернуться от падающего сейфа, и в следующую секунду ему на голову валится стоявшее на сейфе тяжелое пресс-папье; мучительнее всего было сознавать, что он не мог дать этому гневу выхода, потому что именно сейчас нельзя было терять ни минуты. Он действовал без размышлений. Схватил конец лозы, прыгнул в воду, с головой ушел на дно, тотчас, яростно барахтаясь, вынырнул и, продолжая барахтаться (за свою жизнь он так и не научился плавать), рванулся, бросился к исчезнувшему из вида кургану: рассекая телом воду, двигаясь вперед и постепенно поднимаясь все выше, он скоро шагал уже прямо по воде, как вчера олень, потом наконец вскарабкался по скользкому склону, повалился на берег и долго лежал там, задыхаясь, ловя ртом воздух и все так же крепко сжимая в руке конец лозы.
Первым делом он выбрал, как ему казалось, самое подходящее деревце (на секунду у него мелькнула мысль подпилить ствол зазубренной жестью, но он понял, что сходит с ума) и разложил вокруг него костер. Шесть следующих дней он занимался поиском еды, а деревце тем временем, прогорев насквозь, упало и продолжало гореть, пока не догорело до нужной длины: чтобы придать ему форму весла, каторжник непрерывно поддерживал огонь в маленьком костре, лукаво лизавшем полено с боков, следил за огнем и по ночам, пока женщина с ребенком (младенец уже брал грудь, уже чмокал, и каждый раз, когда женщина начинала расстегивать вылинявший китель, каторжник поворачивался к ней спиной, а то и вовсе уходил в лес) спали в лодке. Научившись выслеживать снижающихся ястребов, он часто находил кроликов и два раза нашел опоссумов; однажды набрал в воде дохлой рыбы, они ее съели, и у обоих высыпала на теле сыпь, а потом открылся страшный понос; в другой день съели змею – правда, женщина думала, что это черепаха, – и с ними ничего не было; а потом как-то вечером пошел дождь, и тогда он встал, наломал в кустах веток, с прежним знакомым ощущением собственной неуязвимости стряхнул с них змей (теперь он больше не говорил себе: Это просто еще одна змея, а спокойно отходил на шаг и уступал им дорогу – они тоже без звука уступали ему дорогу, если успевали вовремя свернуться в клубок) и сложил шалаш, но дождь в ту же минуту кончился и больше не возобновлялся, так что женщина вернулась в лодку.
А потом однажды ночью – медленно, нудно тлевшее полено уже почти превратилось в весло —…да, была ночь, он лежал в постели, на своей койке в бараке, и было холодно, он натягивал на себя одеяло, но его мул мешал ему, тыкался в него, тяжело наваливался, норовил улечься рядом с ним на узкой койке, и постель тоже была холодная, мокрая, он пытался из нее вылезти, только мул не давал ему, держал зубами за ремень штанов, дергал и валил его назад в холодную мокрую постель, а потом, наклонившись, плавно мазнул ему по лицу холодным гибким тугим языком, и, проснувшись, он увидел, что костер погас и даже под веслом, уже почти готовым, не рдело ни уголька, но тут что-то длинное, холодное и тугое снова плавно скользнуло по его телу; он лежал, погруженный дюйма на четыре в воду, а лодка, толчками натягивая привязанную к его поясу лозу, то выдергивала его из этой воды, то опять бросала обратно. Что-то непонятное, всплыв снизу, тыкалось ему в щиколотку (полено, весло – вот что это было), и, еще не найдя лодку, еще продолжая в панике, на ощупь искать ее, он уже слышал, как по деревянному днищу мечутся скользкие шорохи, и тут женщина всполошилась, подняла визг.
– Крысы! – закричала она. – Полная лодка крыс!
– Лежи тихо! – крикнул он. – Это просто змеи. Можешь ты хоть немного помолчать, пока я доберусь?
Наконец он отыскал лодку, влез в нее вместе с незаконченным веслом; под ногой снова дернулся толстый тугой жгут; змея не ужалила; ему, впрочем, было бы все равно; он не отрываясь глядел поверх кормы, туда, где глаза что-то различали: сквозь туман там слабо просвечивала вода – открытое пространство. Втыкая весло в ил, как багор, он направил лодку в ту сторону и на ходу отпихивал увитые змеями ветви; дно лодки вялым эхом отзывалось на тяжелые сочные шлепки, женщина визжала не переставая. Наконец лодка выплыла из-под деревьев, оторвалась от островка, и только тогда он явственно ощутил, как эти твари стегают его хвостами по ногам, услышал шуршание, с которым они уползали через борта. Вытянув полено из воды, он провел им по дощатому дну – как совком, как лопатой: вперед, вперед, наверх, и – за борт; в белесом отсвете воды было видно, как еще три из них, прежде чем исчезнуть, судорожно свились в спирали.
– Замолчи! – крикнул он. – Тихо! Жалко, я сам не змея, а то бы тоже отсюда сбежал.
Когда негреющее утреннее солнце – бледный вафельный кружок в ореоле тонких пушистых волокон – вновь глянуло сверху на лодку (плыли они или стояли на месте, он не понимал), каторжник уже опять слышал тот самый звук, который до этого слышал дважды и запомнил навсегда: настойчивый, неотвратимый гул разъяренной воды. Только на этот раз он не мог определить, откуда этот звук надвигается. Можно было подумать, шум несся со всех сторон и то нарастал, то затихал; за туманом словно прятался летучий призрак: вот он только что был далеко, за многие мили от лодки, но уже через секунду казалось, он незамедлительно сокрушит ее своим ревом; были мгновенья, когда каторжник, ясно сознавая (все в нем сжималось, каждая клеточка его усталого тела вопила от ужаса), что лодка сейчас с маху врежется в этот грохот, хватался как безумный за свое весло – цветом и фактурой оно походило на закоптелый кирпич, на нечто, выгрызенное бобрами из старого дымохода, а весило фунтов двадцать пять, – стремительно разворачивал лодку и тут же понимал, что шум снова успел погаснуть вдали. А потом вдруг над головой у него раздался страшный грохот, он услышал голоса, звон колокола, и шум пропал, а туман растаял, как тает на стекле изморозь, стоит приложить к форточке руку, – лодка качалась на искрящейся солнцем коричневой воде бок о бок с пароходом, отделенная от него какими-нибудь тридцатью ярдами. Палубы были забиты людьми – мужчины, женщины, дети, – одни сидели, другие стояли среди пирамид прихваченной впопыхах невзрачной мебели, и все они молча, грустно смотрели вниз, на лодку, пока каторжник и высунувшийся из рубки человек с мегафоном переговаривались между собой, тщетно пытаясь заглушить своими немощными выкриками тарахтенье двигателей.
– Ты чего, рехнулся? Угробить себя решил?
– В какую сторону Виксберг?
– Виксберг?.. Виксберг?! Подгребай ближе и подымайся на борт.
– А лодку тоже возьмете?
– Что? Лодку?! – И мегафон разразился руганью; богохульства вперемежку с вариациями на сексуально-физиологические темы полились потоком – пустой неосязаемый гулкий рев; казалось, его исторгли и тотчас вновь заглотили обратно вода, воздух и туман, а потому слова эти не причинили никому вреда, не оставили после себя ни саднящей обиды, ни унижения. – Да если я начну подбирать каждое ваше дырявое корыто, у меня из-за вас, крыс болотных, скоро негде будет шагу ступить. А ну давай, подымайся на борт! Думаешь, я так и буду гонять из-за тебя двигатели вхолостую?
Но тут раздался другой голос, такой спокойный, мягкий и рассудительный, что на миг показалось, будто здесь он еще более чужероден и неуместен, чем бесплотная рокочущая брань мегафона:
– Куда же ты собираешься плыть?
– Я не собираюсь. Я уже плыву, – ответил каторжник. – В Парчмен.
Тот, что задал ему этот вопрос, повернулся и, похоже, посоветовался с кем-то третьим, тоже стоявшим в рубке. Потом снова поглядел вниз, на лодку.
– В Карнаврон?
– Что? – не расслышал каторжник. – В Парчмен.
– Хорошо. Мы как раз в ту сторону. Высадим тебя где-нибудь поближе к дому. Поднимайся на борт.
– А лодку-то возьмете?
– Да, да. Давай скорее. А то, пока мы тут с тобой разговариваем, у нас только уголь зря горит.
Тогда каторжник подогнал лодку вплотную к пароходу и удерживал ее на месте, глядя, как они помогают женщине с младенцем перебраться через поручни, а потом вскарабкался и сам, но при этом не выпускал конец вплетенной в веревку лозы, пока лодку не подняли на грузовую палубу.
– Боже мой, – сказал тот, добрый, с мягким голосом. – Ты что же, вместо весла греб вот этим?
– Угу. У меня доска была, только я потерял.
– Доска, – повторил добрый (каторжник изобразил, как тот чуть ли не прошептал это слово). – Доска. Ну, ладно. Пошли, дадим вам поесть. С лодкой теперь все в порядке.
– Я, пожалуй, лучше здесь подожду, – сказал каторжник.
Потому что, как объяснил он своим слушателям, до него только тогда стало доходить, что люди вокруг, все эти толпившиеся на палубе беженцы (он сидел вместе с женщиной на перевернутой лодке, а они, обступив их кольцом, пристально разглядывали и его, и женщину со странным, жадным и скорбным, любопытством), не белые…
– В смысле, негры? – уточнил толстый каторжник.
– Нет. В смысле, не американцы.
– Не американцы? Так это что, была уже даже не Америка?
– Не знаю, – сказал высокий. – Они это место называли Атчафалайа.
…и потому что, когда он что-то переспросил одного мужчину, тот опять закулдыкал «гур-гур-гур».
– Закулдыкал? – удивился толстый.
– Это они так между собой разговаривали, – пояснил высокий. – Гур-гур-гур, уэнь-муэнь, ко-ко-ко, то-то-то.
И он сидел наблюдал, как они кулдыкают и поглядывают на него, но потом они попятились, и снова появился тот, добрый (на рукаве у него была повязка с красным крестом), а за ним шел официант с подносов. Добрый нес два стакана с виски.
– Давайте-ка выпейте, – сказал добрый. – Согреетесь.
Женщина выпила сразу, но он, рассказывал каторжник, поглядел на свой стакан и подумал: Я же виски семь лет не пробовал. До этого дня он за всю свою жизнь попробовал виски вообще только раз; случилось это прямо на винокурне, еще там, в сосновой пади; ему было семнадцать лет, он пошел туда с компанией: кроме него, пошли еще четверо, двое из которых были уже взрослые мужики – одному так это двадцать два – двадцать три, а другому под сорок; и он помнил. Вернее, помнил примерно лишь треть всего, что произошло с ним в тот вечер, – бешеная круговерть в багровых адских всполохах, потрясение, оторопь от раскалывающих голову ударов (и еще от стука собственных кулаков, молотивших по твердой, как они сами, но какой-то иной кости), а потом пробуждение – он лежал неизвестно где, в каком-то коровнике, которого никогда прежде не видел и который, как потом оказалось, был в двадцати милях от его дома. Короче, продолжал каторжник, он все это вспомнил, подумал, глядя на следящие за ним лица, и сказал: