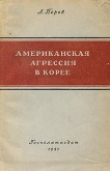Текст книги "Американская повесть. Книга 2"
Автор книги: Джон Эрнст Стейнбек
Соавторы: Трумен Капоте,Уильям Катберт Фолкнер,Эдит Уортон,Эрскин Колдуэлл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
– Вот и выплыли, – сказала она.
Каторжник поднял голову и тоже огляделся.
– Выплыли куда?
– Я думала, может, ты знаешь.
– Я? Я не знаю даже, где меня мотало. Если бы кто сейчас показал, в какой стороне север, я бы и то не знал, туда мне или не туда.
Он снова зачерпнул воды, обмыл лицо, на ладони у него остались розовые потеки, и он посмотрел на них не то чтобы удрученно или встревоженно, а скорее с насмешливым, неприязненным удивлением. Женщина глядела ему в затылок.
– Нам обязательно надо куда-нибудь доплыть.
– А то я не понимаю? Одного велено с сарая снять, другой где-то на дереве застрял. Да еще и ты тут, вот-вот разродишься.
– Меня вообще-то раньше времени подперло. Может, вчера растрясла себя, когда на дерево лезла, да потом еще целую ночь там просидела. Но пока держусь. А только все равно, лучше бы поскорей куда-нибудь добраться.
– Это уж точно. Я, между прочим, тоже хотел куда-нибудь добраться, только у меня не больно получилось. Ты сообрази, куда тебе надо, а там посмотрим – может, тебе повезет больше. Давай-ка лучше передохни.
Женщина протянула ему весло. Нос у лодки ничем не отличался от кормы, и каторжник просто повернулся кругом.
– Плыть-то в какую сторону надумал? – спросила она.
– Это уж моя забота. Ты, главное, потерпи подольше. – Он начал грести, направив лодку через поле. Снова пошел дождь, поначалу несильный. – Во-во, – сказал он. – Ты лучше у лодки спрашивай. Я с самого завтрака из нее не вылажу, а куда мне надо и куда она меня тащит, так до сих пор и не пойму.
Разговор этот состоялся примерно в час дня. А ближе к вечеру (они давно уже плыли опять по какой-то протоке; попали они в нее, сами не заметив как, а потом выбираться оттуда было поздно, да и каторжник не видел в том нужды, тем более что теперь они плыли гораздо быстрее) лодка выскочила на усеянный обломками водный простор, в котором он признал реку и, несмотря на свои более чем скудные сведения о крае, где, не отлучаясь ни на день, провел последние семь лет, по размерам реки догадался, что это Язу. А вот что текла она сейчас задом наперед, он не знал. И потому, едва лодку подхватило потоком, начал грести, двигаясь, как он думал, вниз по течению, туда, где, по его расчетам, были города – Язу-Сити или, на худой конец, Виксберг, а если повезло и протока впадала в Язу севернее, то еще раньше шли маленькие городки, названия которых он не знал, но там ведь все равно должны были быть люди, дома, и он бы куда-нибудь – да куда угодно – сдал свою подопечную, забыл бы о ней навсегда и вернулся бы к своей аскетической жизни в мир кандалов и пистолетов, уберегавших его от вторжения всего чужеродного, всяких там женщин, беременностей и тому подобного. Когда он поглядывал на ее разбухшее неповоротливое тело, ему казалось, что оно не имеет к ней никакого отношения, что это просто сгусток некой инертной, но в то же время живущей своей отдельной жизнью массы, опасной и привередливой, и что оба они – и женщина, и он сам – в равной степени жертвы этого сгустка; а еще он думал – эта мысль не покидала его уже часа четыре, – что, стоит женщине на минуту (впрочем, хватило бы и секунды) опрометчиво снять руку с борта или отвести взгляд, он без труда может скинуть ее в воду, и бесчувственный жернов, не испытывая при этом никаких мук, утопит ее вместе с собой; но у него больше не вспыхивало желания отомстить ей за то, что она этот жернов оберегает, он жалел ее, как жалел бы, наверно, добротный сарай, который необходимо сжечь, чтобы уничтожить расплодившихся в нем паразитов.
Он продолжал грести, помогая течению; греб ровно, напористо, тщательно рассчитывая силы, в уверенности, что плывет вниз по Язу, навстречу городам, людям, и скоро наконец ступит на твердую землю; женщина время от времени приподнималась и вычерпывала из лодки копившуюся на дне дождевую воду. Дождь лил непрерывно, но все так же вяло, бесстрастно; небо и еще довольно яркий свет растворялись в воде равнодушно, без скорби; лодка скользила, окруженная аурой серой дымки, которая плавно, без переходов сливалась с качавшейся, покрытой слюнявыми пузырями пены, захламленной сором и обломками водой. Потом день и разлитый в воздухе свет явно начали убывать, и каторжник позволил себе приналечь на весло – ему показалось, что лодка замедлила ход. Так оно и было, но каторжник ведь не знал. Он думал, ему это просто чудится, и во всем виноваты сумерки или, в худшем случае, дает себя знать усталость от изнурительного, без роздыха и еды дня, отягощенного приступами тревоги и бессильной злостью на судьбу, которая ни за что ни про что втравила его в эту передрягу. В общем, он теперь греб быстрее, но не потому, что обеспокоился, – напротив, его бодрило и окрыляло само соседство знакомого потока, реки, чье древнее имя сохраняли в первозданности многие поколения, обживавшие ее берега, подчиняясь извечному стремлению – оно было присуще человеку даже в те времена, когда он не придумал еще слов для обозначения воды и огня, – селиться у воды, рядом с текучей живой силой, что, притягивая к себе людей, властно определяла их дальнейшую жизнь и даже меняла их физический облик. Так что он не беспокоился. И продолжал грести, не подозревая, что в действительности плывет против течения, туда, откуда навстречу ему уже устремилась вся та вода, что последние сорок часов, прорвав дамбу, текла на север, а сейчас возвращалась назад, в Миссисипи.
Постепенно совсем стемнело. Наступил настоящий вечер, серое расплывчатое небо исчезло, но поверхность воды, словно по закону обратной связи, была теперь видна гораздо лучше, как если бы по ней вместе с дождем растекся вымытый им из воздуха дневной свет; перед лодкой расстилалась желтая, казалось даже, чуть светящаяся, гладь, обрубленная вдали линией, за которой глаз не различал уже ничего. У темноты имелись свои преимущества; ему теперь было не видно дождя. Он мок под ним целые сутки и потому давно его не чувствовал, но сейчас, когда он вдобавок его и не видел, дождь в каком-то смысле утратил для него реальность. А еще он теперь был избавлен от необходимости отводить глаза, чтобы не видеть вздутый живот своей пассажирки. И он все так же греб – мерными, уверенными движениями, спокойно, ни о чем не тревожась и лишь досадуя, что в облаках так долго не вспыхивают отблески огней Язу-Сити или городов поменьше, до которых, как он считал, ему осталось плыть самую малость, хотя на деле он отдалился от них уже на много миль, – когда вдруг до него донесся странный шум. Он не понял, что это, ведь ничего подобного он прежде не слышал, и было бы наивно предполагать, что когда-нибудь он услышит такое снова, потому что услышать этот звук даже раз в жизни дано очень немногим, а услышать его дважды не дано никому. Но он и теперь не встревожился, просто не успел, ибо в тот же миг глазам его – хотя отчетливо просматриваемое пространство перед лодкой кончалось довольно близко – предстало тоже нечто этакое, чего он никогда прежде не видел. Линия, резко отграничивавшая светящуюся воду от темноты, была сейчас футов на десять выше, чем минуту назад, и закручивалась в трубку, будто раскатанное тугое тесто. Ползя вверх, вал клонился вперед; его гребень, взвихренный, словно разметавшаяся на скаку грива, и тоже пронизанный свечением, искрился и подрагивал, как пламя. Женщина съежилась на носу лодки, и каторжник не понимал, осознает она происходящее или нет; сам же он, ошеломленно разинув рот, с перекошенным от ужаса, распухшим, вымазанным кровью лицом, продолжал тем временем грести прямо навстречу валу. Он просто опять не успел подать мышцам команду, и, загипнотизированные ритмом, они трудились по-прежнему. Лодка уже не двигалась вперед и, казалось, застыла, подвешенная в пустоте, но он продолжал грести, весло все так же опускалось, чиркало, поднималось и снова шло вниз; а потом вместо пустоты лодку внезапно окружило месиво мчащихся со всех сторон обломков, мусора и черт-те чего еще; доски, небольшие строения, мертвые, но почему-то нелепо ухмыляющиеся животные, целые деревья – они, точно дельфины, выпрыгивали наверх и снова ныряли в воду, а над всем этим хаосом, будто птица, что, замешкавшись над проносящимися внизу полями, нерешительно раздумывает, куда ей опуститься, да и стоит ли опускаться вообще, невесомо, бесплотно парила лодка; на дне ее, скорчившись, сидел каторжник и, машинально продолжая грести, ждал лишь подходящей минуты, чтобы закричать. Но ему не выпало такой возможности. Лодка вдруг словно встала на дыбы, замерла, потом подскочила, стрелой вскарабкалась, как кошка, по завитку водяной стены, взмыла над лижущим воздух гребнем и, застряв меж ветвей дерева, повисла в вышине, а каторжник, окруженный, будто птенец в гнезде, молодой листвой, все ждал, когда наконец можно будет закричать, все сгибался и разгибался, хотя у него даже не было теперь весла, и смотрел вниз на ввергнутый в неистовство, безумный, повернутый вспять мир.
Около полуночи под вспышки молний и канонаду грома, взрывавшего тишину с таким грохотом, будто палила целая батарея орудий, будто все четыре стихии и сама небесная твердь после сорокачасового запора облегчились наконец оглушительным сверкающим салютом, снисходительно одобряя буйство и ярость потока, лодка в сопровождении мельтешащей свиты из дохлых коров и мулов, хижин, сараев и курятников пронеслась мимо Виксберга. Каторжник об этом не знал. Он не поднимал глаз высоко; ухватившись за борта, он все еще сидел на корточках и глядел на обступавшее его желтое бурление, откуда, крутясь, выскакивали, чтобы вскоре опять исчезнуть, большие деревья, остроконечные крыши домов и длинные грустные морды мулов, которые он отпихивал обломком неизвестно где подобранной доски (а они, казалось, в ответ укоризненно поглядывали на него невидящими глазами и с недоумением, удивленно выпячивали мягкие обвислые губы); лодка то летела по прямой вперед, то скользила боком, то пятилась назад, иногда она плыла по воде, иногда ехала на крышах и деревьях, а порой путешествовала даже на спинах мулов, как будто этим животным и после смерти не суждено было избавиться от проклятья судьбы, уготовившей их бесполому племени участь вьючной скотины. И он не увидел Виксберг; лодка с бешеной скоростью неслась по стремнине узкого пролива между взмывающими в небо пьяными берегами, и он не видел разлитого над ними марева огней; увидел только, как мешанину обломков впереди разрезало пополам, и ее половины, громоздясь друг на друга, поползли вверх; образовавшаяся дыра засосала его мгновенно, он даже не успел сообразить, что проскочил в проем железнодорожного моста; потом на один жуткий миг лодка смущенно застыла перед выросшим из темноты пароходом и, казалось, не могла решить, то ли ей на него вскарабкаться, то ли нырнуть и проплыть под ним снизу; и почти тотчас каторжника обдало жестким ледяным ветром – его запах и сырой привкус несли ощущение бескрайнего водного простора и пустоты; потом лодка сделала последний, направленный бросок вперед, и родной штат, завершающим рвотным спазмом исторгнув каторжника из своих пределов, бросил его в суровые объятья Отца Вод.
Полтора месяца спустя, одетый в новую робу из полосатого матрасного тика, побритый и коротко остриженный, он примерно так рассказывал об этом, сидя в бараке на своей прежней койке:
Когда гроза истощила запасы грома и молний, лодка часа три-четыре летела в зыбкой кромешной тьме, и ему казалось – а будь светло, он бы убедился в этом воочию, – что колыхавшаяся вокруг ширь беспредельна. Буйная и невидимая, эта ширь, качаясь, вздымалась под лодкой, обступала ее со всех сторон, топорщилась грязной фосфоресцирующей пеной и несла в своих складках плоды разрушений, – безымянные огромные невидимые предметы ударялись о нос, о корму, пропахивали борта и вихрем мчались дальше. Он не знал, что плывет по Миссисипи, по реке. И даже если бы знал, ни за что бы не поверил. Вчера по обе стороны потока примерно через равные промежутки мелькали деревья, и он понимал, что плывет по какому-то каналу. Но сейчас, поскольку даже при дневном свете он не увидел бы ни намека на берега, ему и в голову не могло прийти, что он оказался на реке; вообще-то он ни о чем таком не думал, но если бы задался вопросом, куда же его забросило и что лежит у него под ногами, то, пожалуй, ответил бы, что несется с головокружительной и необъяснимой скоростью над самым большим хлопковым полем в мире; если бы он, который вчера твердо знал, что плывет по реке, он, который принял этот факт без сомнений и колебаний, а потом увидел, что река вдруг повернула вспять и кинулась прямо на него, свирепая и кровожадная, будто обезумевший жеребец… если бы он сейчас хоть на миг заподозрил, что окружавшая его буйная и бескрайняя ширь – это тоже река, ему бы просто отказал рассудок; он бы потерял сознание.
Когда наступило утро – серый клочковатый рассвет был пронизан ветром, налетавшим всякий раз, едва унимался ледяной дождь, – оглядевшись по сторонам, он понял, что никакое это не поле. Швырявшая лодку вода текла не над пашней, понял он; мерная поступь пахаря, колыхание напруженных ягодиц мула – все это было незнакомо укрытой водой земле. Тогда-то у него и мелькнула мысль, что нынешний разгул стихии не аномалия, не исключение, случающееся раз в десять лет, а что исключение составляют как раз промежуточные годы затишья, когда вода спокойно и сонно позволяет человеку сковывать ее хрупкими нелепыми сооружениями; а то, что происходит сейчас, это нормально, потому что сейчас река делает именно то, что ей хочется, то, ради чего она терпеливо ждала десять лет, – так мул готов послушно работать десять лет ради того, чтобы однажды все-таки лягнуть хозяина. А еще он понял кое-что о страхе, кое-что такое, чего ему не удалось открыть для себя в прошлый раз, хотя тогда он тоже пережил настоящий страх, – в ту далекую ночь в почтовом вагоне, когда он, совсем еще юный, увидел перед собой дважды полыхнувшее дуло пистолета и лишь через несколько секунд убедил перепуганного охранника, что его собственный пистолет не стреляет; он понял, что, если запастись терпением, страх постепенно перестает быть мукой и превращается просто в надоедливый отвратительный зуд, как после сильного ожога.
Грести теперь было не надо, и он (уже сутки без еды и больше двух суток без сна), мчась по бурлящей пустыне – он давно понял, куда его вынесло, но не отваживался в это поверить, – только рулил обломком доски, стараясь сберечь лодку, удержать ее на плаву среди домов, деревьев и мертвых животных (вокруг него, словно резвящаяся рыбешка, выпрыгивали из воды целые городки, склады, коттеджи, сады, фермы); его больше не заботило, куда он приплывет, он думал лишь о том, как бы по дороге не разбить лодку. Он ведь ни о чем особенном не мечтал. Для себя ему вообще ничего было не нужно. Он хотел только одного; поскорее избавиться от этой женщины, от необходимости видеть ее живот, и потому старался лишь сделать все как положено – не ради себя, ради нее. Ведь он же запросто мог бы в любую минуту посадить ее снова на какое-нибудь дерево…
– Или мог бы сам выпрыгнуть, а ее оставил бы тонуть вместе с лодкой, – перебил толстый каторжник. – Тогда тебе дали бы десять лет за побег, плюс повесили бы за убийство, и еще взыскали бы с твоих стариков стоимость лодки.
– Угу, – кивнул высокий.
…но он же этого не сделал. Он хотел, чтобы все было как положено, хотел найти кого-нибудь, неважно кого, и передать ее из рук в руки, хотел поставить ее на что-нибудь твердое, а потом, если надо, пожалуйста, готов был снова прыгнуть в реку. Вот и все, чего он хотел, – просто доплыть куда-нибудь, безразлично куда. Ничего больше ему не требовалось. Но даже в этой малости ему было отказано. Лодку несло все дальше…
– А что, навстречу никто даже не попадался? – спросил толстый. – Может, хотя бы какой пароход мимо шел или катер?
– Не знаю.
…и он лишь следил, чтобы она не перевернулась, а когда наконец темнота поредела и рассеялась, он увидел…
– Темнота? – переспросил толстый. – Ты же вроде говорил, был день.
– Угу. – Готовясь свернуть самокрутку, он достал свой новый кисет и сейчас аккуратно сыпал табак на сложенный желобком листок бумаги. – С тех пор успело снова стемнеть. Там, пока я был, много раз темнело.
…что лодка, не сбавляя скорости, плывет между затопленными деревьями по извилистому проходу, в котором он снова признал реку, – побывай он здесь на пару дней раньше, он понял бы, что сейчас течение двигалось в обратную сторону. Но чутье подвело его, не подсказало, что вновь, два дня спустя, он попал на реку, которая тоже течет задом наперед. Он, конечно, вряд ли допускал, что это опять та самая река, хотя, мелькни у него такая мысль, он нисколько бы не удивился, потому что коварная сумасбродная стихия уже давно и, похоже, надолго отвела ему роль пешки и, потехи ради, могла забросить, куда ей вздумалось. Главное, он догадался, что перед ним все-таки река, а это само собой подразумевало близость суши, близость если и незнакомого, то по крайней мере доступного пониманию участка земной поверхности. Теперь он был уверен, что нужно только взяться за весло, грести, и со временем он обязательно доплывет до какой-нибудь, пусть даже мокрой, но все же возвышающейся над водой плоскости, и может быть, там даже будут люди; если же грести достаточно быстро, то он доплывет туда еще скорее; а кроме того, нужно, позарез необходимо перестать смотреть на женщину – едва рассвело, ее присутствие вновь стало бесспорным и, видимо, уже непреодолимым фактом, – которая, как ему теперь казалось (ведь к первым двум суткам без сна прибавились еще одни, и не ел он уже тоже больше двух суток, даже если считать ту курицу – захлебнувшаяся, дохлая, она висела, зацепившись крылом за дранку крыши, что вчера промчалась мимо лодки, и хотя женщина есть не стала, сам он съел кусок сырого куриного мяса), утратила все человеческое и превратилась в одно сплошное, выжидательно застывшее страшное брюхо, и каторжнику верилось, что, если надолго отвести взгляд, оно исчезнет, а если ухитриться и вообще больше не смотреть в ту сторону, исчезнет навсегда. Вот чем были заняты его мысли, когда он вдруг понял, что водяной вал опять возвращается.
Он и сам не знал, как он это определил. Он же не услышал никакого постороннего шума, ничего не почувствовал, ничего не увидел. Конечно, он заметил, что лодка попала как бы в полосу штиля, в том смысле, что если еще недавно вся масса воды – неважно, в ту сторону она текла или не в ту – перемещалась горизонтально, то сейчас это движение прекратилось, и вода лишь колыхалась на месте вверх и вниз; но он считал, что об опасности его предупредило даже не это, а нечто более существенное. Может, все объяснялось просто его граничащей с фанатизмом, неистребимой уверенностью, что жидкая среда, которая, видимо, уже навеки подчинила себе его судьбу, изначально хитроумна и коварна; и, может, просто он вдруг четко осознал – независимо ни от чего, без страха и удивления, – что сейчас ей самое время подготовиться к очередной каверзе. Поэтому он крутанул лодку, развернул ее рывком, как лошадь на скаку, и, двинувшись в обратную сторону, уже не увидел перед собой прохода, по которому плыл еще минуту назад. Он не понимал, то ли просто не различает его, то ли проход исчез еще раньше, а он не заметил; возможно, река бесследно затерялась в затопленном мире, а может быть, наоборот, весь мир растворился в одной безбрежной реке. И он не знал, плывет ли он по прямой впереди вала или скользит зигзагами параллельно ему; знал только, что свирепая мощь за спиной неуклонно нарастает, а потому, пока он не доплыл до чего-нибудь плоского, до чего-нибудь возвышающегося над водой, ему остается лишь все так же грести, насилуя изнуренные, одеревеневшие мышцы, и стараться не смотреть на женщину, отлепить от нее взгляд, перевести его в сторону и задержать там как можно дольше. А потом, вконец вымотанный, пытаясь чуть ли не физически оторвать запавшие глаза от той точки, куда они впились, словно резиновые присоски игрушечных детских стрел; напрягая выдохшиеся мышцы, которые работали уже помимо его воли, как бывает, когда усталость, достигнув пика, переходит в особое гипнотическое состояние и легче продолжать начатое, чем остановиться, он снова с маху ударился о какую-то преграду, снова в который раз повалился вперед, но тут же приподнялся на четвереньки и, опухший, безумный, уставившись на человека с пистолетом, хрипло крикнул:
– Виксберг?.. Где Виксберг?
Даже сейчас, когда он об этом рассказывал, даже сейчас, семь недель спустя, когда, целый и невредимый, он снова был в безопасности, закованный в кандалы и надежно, гарантированно защищенный от внешнего мира еще десятью годами, которые за попытку побега прибавили к его первоначальному сроку, в выражении его лица, в голосе и в интонациях проступило что-то от пережитого тогда полуистерического-полуизумленного отчаяния. Он ведь так и не ступил на ту, другую лодку. Рассказывая, как он уцепился за ее обшивку (обшарпанный, замызганный баркас с пьяно покосившейся жестяной трубой даже не изменил курса, когда он в него врезался, хотя эти трое, должно быть, следили за его приближением; второй мужчина, босой, бородатый, с всклокоченными волосами, сидел у руля, а еще там была женщина: одетая в грязные мужские обноски, она стояла, прислонившись к двери кабины, и наблюдала за каторжником – как давно, он не знал – с той же холодной задумчивостью, что и оба ее спутника) у как эта посудина грубо потащила его рядом с собой, а он тем временем пытался изложить и растолковать им свою простую и (по крайней мере, с его точки зрения) разумную просьбу – рассказывая об этом, пытаясь все это пересказать, он чувствовал, что его снова бросает в жар от обиды, и глядел, как табак никчемно сеется сквозь его дрожащие пальцы, а потом, сухо шелестнув, на пол упала и бумага.
– Сжечь робу?! – крикнул каторжник. – Зачем мне ее сжигать?
– Ты б еще названье тюрьмы себе на грудь повесил, – сказал который с пистолетом. – Как ты в этой пижамке сбежать собираешься?
Рассказывая, он попытался объяснить, что втолковывал это тем троим, да и не только им, а всему вокруг – пустынным водам, скорбным деревьям, небу, – не для того, чтобы оправдаться, ведь оправдываться ему было не в чем (и сейчас тем более: он же знал, что его слушатели, другие каторжники, не требуют от него никаких оправданий), а просто он боялся, что сон сморит его, измученного до предела, на полуслове, и он вдруг непостижимым образом задохнется. Он рассказал тому, с пистолетом, как им с напарником дали лодку и велели подобрать мужчину и женщину, как он потерял напарника, как не смог отыскать мужчину на сарае, и он объяснил, что ничего ему на свете не надо, только бы набрести хоть на какое ровное место, где можно будет на время оставить женщину, пока он не найдет какого-нибудь полицейского или шерифа. В ту минуту он думал о доме, вернее, о ферме, где жил чуть ли не с детства, о приобретенных за долгие годы друзьях, понятных ему во всем, как и он им; о знакомых полях, где он трудился, научившись и хорошо выполнять, и любить свою работу, о мулах, чью натуру он постиг и уважал не меньше, чем натуру иных людей; о вечерах в бараке, где летом на окнах была натянута москитная сетка, а зимой тепло грела печка и где кто-то заботился, чтобы всегда хватало еды и топлива; о воскресных бейсбольных матчах и киносеансах – не считая бейсбола, все остальное было ему прежде незнакомо. Но больше всего он в ту минуту размышлял о себе, о своем характере (два года назад его захотели сделать доверенным заключенным. Ему не пришлось бы ни пахать, ни кормить скотину, он бы только расхаживал с заряженным пистолетом и следил, как работают другие, – но он отказался. «Лучше уж буду пахать, как пахал, – сказал он совершенно серьезно. – А с пистолетом от меня толку мало, один раз уже пробовал, хватит».), о своем добром имени, о том, что он привык держать свое слово, и не только перед теми, на кого тоже можно положиться, но и перед самим собой; о том, что для него дело чести всегда выполнять что поручено, и он гордился своей способностью выполнить любое поручение, в чем бы оно ни заключалось. Он размышлял обо всем этом, слушая, как человек с пистолетом что-то там говорит о побеге; висел, вцепившись в обшивку баркаса, грубо тащившего его за собой (как он сказал, именно тогда он впервые заметил на деревьях длинные бороды мха, хотя, почем знать, может быть, мох нарос еще несколько дней назад), и чувствовал, что вот-вот взорвется от ярости.
– Да что ты все никак в башку себе не вдолбишь?! Не собираюсь я никуда сбегать! – закричал он. – Не веришь, сторожи меня сам, у тебя вон и пушка есть – пожалуйста! Мне бы только приткнуть куда-нибудь эту бабу, а…
– Я уже сказал, ее я пущу, – невозмутимо перебил его мужчина с пистолетом. – А которые шерифа ищут, для таких у меня на судне места нету, будь они хоть во фраке, а не то что в тюремной робе.
– Если залезет на палубу, шарахни его пистолетом по мозгам, – посоветовал тот, что сидел у руля. – Он же пьяный.
– Не полезет он никуда. Сумасшедший он.
Тут заговорила женщина. Она все еще стояла, прислонившись к двери, одетая, как и оба мужчины, в линялый, залатанный и грязный комбинезон.
– Дай им какой-нибудь жратвы, и пусть убираются. – Сойдя с места, она прошла к краю палубы и холодно, угрюмо посмотрела сверху на спутницу каторжника. – Тебе рожать-то скоро?
– Да по срокам вроде только через месяц, – ответила та. – Но я…
Женщина в комбинезоне повернулась к державшему пистолет:
– Дай им какой-нибудь жратвы, – повторила она. Но он, не отвечая, продолжал разглядывать женщину в лодке.
– Чего ждешь? – сказал он каторжнику. – Подымай ее на борт и проваливай.
– Ты бы лучше подумал, чего тебе самому будет, если с полицией свяжешься, – сказала женщина в комбинезоне. – Припрешь ее к шерифу, а шериф спросит, кто ты такой – что тогда?
Мужчина даже не посмотрел в ее сторону. И пистолет лишь слегка качнулся, когда свободной рукой он наотмашь, с силой ударил ее по лицу.
– Сукин ты сын, – сказала она. Но он опять даже не взглянул на нее.
– Ну! – поторопил он каторжника.
– Не могу я так! – крикнул тот. – Неужели не понимаешь?
Вот тогда-то, сказал он своим слушателям, он и сдался. Понял, что обречен. Точнее, понял, что обречен был с самого начала, и ему никогда не отделаться от своей пассажирки, теперь он был в этом совершенно уверен, а ведь те, кто отправил его на лодке, были тоже совершенно уверены, что он не сдастся, не отступится; и когда женщина в комбинезоне кинула им среди прочего банку сгущенного молока, он усмотрел в этом предзнаменование, бесплатно и бесповоротно, как телеграмма о смерти, известившая его, что он уже не успеет до рождения ребенка отыскать ровную, не уходящую из-под ног твердь. Он рассказывал, как, удерживая лодку вплотную к баркасу, ощущал под собой первые, пробные толчки, предвещавшие приближение гигантской волны, а женщина в комбинезоне тем временем сновала между кабиной и бортом, швыряя в лодку еду – кусок солонины, драное грязное одеяло, комья подгорелого холодного хлеба, который она вывалила из таза, словно мусор; как, прижимаясь к баркасу, он сопротивлялся нараставшей силе течения, разбуженного вторым валом, о котором он в те минуты забыл, потому что все еще пытался объяснить свою бесхитростную просьбу, свое невероятно простое желание, но мужчина с пистолетом (из всех троих обут был только он) наступил ему на руки, начал топтать его пальцы, и, спасаясь от тяжелых каблуков, он на миг отдергивал то одну, то другую руку, пока не получил ботинком в лицо, и тогда, стараясь увернуться, мотнулся в сторону, разжал обе руки и всем весом свалился в лодку; подхваченная крепнущим течением, она отскочила от баркаса, ее понесло вперед, а он снова принялся грести изо всех сил – так, уразумев наконец, что обречен свалиться в пропасть, человек сам спешит к ее краю, – но то и дело поглядывал назад на баркас, на быстро уменьшавшиеся, отделенные от него ширившейся полосой воды, замкнутые насмешливо-угрюмые лица и, чуть ли не в агонии, сквозь подступившее удушье, с окончательной невыносимой ясностью сознавая, что ему не просто отказали, а отказали в ничтожном пустяке – ведь он просил и хотел такой малости, а они потребовали, чтобы за эту малость он заплатил тем единственным на свете поступком, который (они же сами наверняка понимали) был для него невозможен, ведь иначе он бы давно его совершил и был бы сейчас совсем в другом месте и никого бы ни о чем подобном не просил, – подымал весло над головой, тряс им и выкрикивал проклятья даже после того, как пистолет полыхнул огнем и пуля пронеслась по воде сбоку от лодки.
И вот, стало быть, рассказывал он, так он там и болтался, потрясая веслом и вопя, когда вдруг вспомнил про волну, про тот второй, утыканный домами и мертвыми мулами водяной вал, что, набирая высоту и мощь, катился вслед за ним с затопленных болот. Перестав кричать, он снова начал грести. Опередить волну он не пытался. Он по опыту знал, что, когда она его нагонит – а нагонит непременно, – ему волей-неволей придется двигаться с ней в одном направлении, и тогда его понесет так быстро, что, попадись по дороге самое распрекрасное место, он уже не сможет остановиться и ссадить женщину вовремя. Время, выиграть время, куда-нибудь доплыть, пока вал не обрушился на лодку, – вот единственное, к чему он сейчас стремился и на что надеялся, а значит, должен был как можно дольше продержаться впереди волны. И потому он продолжал грести, заставляя работать мышцы, которые так давно и так беспредельно устали, что уже не ощущали усталости – в точности, как бывает, когда человека слишком долго преследуют неудачи и наконец он перестает их замечать; более того, ему кажется, что все не так уж плохо. Даже когда он ел – горелые комки размером с бейсбольный мяч (женщина с баркаса вывалила их прямо на дно лодки, они полежали в воде, но весом и твердостью все равно напоминали каменный уголь), странные, словно из железа, тяжелые, как свинец, предметы, которые потеряли право называться хлебом, едва их вытряхнули из закопченого, обгоревшего таза, – то ел только одной рукой, да и ту отнимал от весла с великой неохотой.
Он, как сумел, попробовал описать и весь тот день – лодка мчалась среди бородатых деревьев, а волна время от времени высылала своих гонцов на разведку, и они с любопытством, тихонько щекотали дно лодки короткими осторожными щупальцами, а потом с еле слышным, похожим на смешок шипением бежали дальше, и вновь вокруг не было ничего, лишь вода, деревья да тоска, а лодка все плыла и плыла, пока ему не стало казаться, что он уже даже не пытается отдалиться от того, что позади, и приблизиться к тому, что впереди, и что оба они, и он, и волна, одновременно и недвижно зависли во времени, в беспримесной призрачной пустоте, которую он ворошит веслом совсем не потому, что надеется куда-то доплыть, а просто чтобы сохранить неизменным то ничтожно малое, ограниченное длиной лодки расстояние, которое отделяет его от сонно застывшей, неотвратимо притягивающей его взгляд кучи женской плоти; и наступившую затем ночь, когда лодка понеслась с еще большей скоростью, потому что, если не видишь и не знаешь, где ты, любая скорость кажется огромной; и как впереди не было ничего, а сзади подгоняла нарисованная памятью жуткая картина: гигантская кренящаяся стена воды, пенный гребень с частоколом похожих на клыки зазубрин; как потом снова рассвело (очередное звено в бесконечной цепи иллюзорных перемен – день, ночь, снова день, – вызывающих то ощущение усеченности, сбоя и неправдоподобности, какое возникает в театре, когда на сцене увеличивают или, наоборот, уменьшают свет); как очертанья лодки проступили из темноты и как, увидев, что женщина не лежит больше под мокрым скукожившимся кителем, а, вцепившись обеими руками в борта, сидит-с закрытыми глазами совершенно прямо и кусает губы, он неистово замолотил по воде обломком доски и, дико глядя на женщину из-под опухших от бессонницы век, закричал, прокаркал: