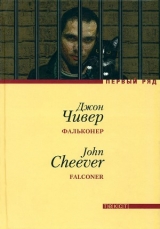
Текст книги "Фальконер"
Автор книги: Джон Чивер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
– Готово, – сказал фотограф.
Подошла очередь Фаррагата. Он задумался о том, как должен выглядеть на фотографии. В конце концов, решив, что надо изобразить верного мужа, заботливого отца и преуспевающего человека, он широко улыбнулся и шагнул в ослепительно-яркий свет прожекторов.
– Индиан-Хилл, – прочел фотограф. – Знаю это место. Видел надпись на указателе. Вы там работаете?
– Да, – ответил Фаррагат.
– У меня есть друзья в Саутуике, – пояснил фотограф. – Готово.
Фаррагат подошел к окну. Отсюда был виден корпус с блоками Б и В – мрачное здание с большим количеством окон, похожее на старую хлопкопрядильную фабрику, какие строили на севере страны. Он ожидал, что в окнах покажутся языки пламени и замелькают чьи-то тени, но вместо этого увидел, как какой-то заключенный мирно развешивает белье. Его поразило спокойствие, царившее в этом корпусе. Неужели они так унижены и обижены тем, что их тоже заставили раздеваться догола для обследования, а потом предложили сфотографироваться у новогодней елки? Наверное, в этом все дело. Здание словно погрузилось в сон. Неужели эти заключенные тоже решили уйти от реальности и погрузились в апатию, как это сделал он сам, когда Петух поджег матрас? Фаррагат снова посмотрел на незнакомца, развешивающего белье.
Через пару минут Фаррагат вышел в коридор, где ждали своей очереди остальные. В окна стучал дождь. Рэнсом собрал со всех анкеты и отнес к фотографу. Теперь анкеты им ни к чему. Фаррагат с интересом посмотрел на Рэнсома – человека скрытного и замкнутого; Фаррагату казалось, что, если понаблюдать за его движениями, можно что-нибудь о нем узнать. Собрав дюжину анкет, Рэнсом взобрался на стул. Он был крупным парнем, а стул – довольно шатким, поэтому Рэнсому пришлось проявить изрядную ловкость, чтобы не упасть. Устроившись на стуле, он разорвал анкеты на мелкие клочки и стал сыпать их на головы и плечи заключенных. Широко улыбнувшись, он вдруг запел «Тихую ночь». Рогоносец присоединился, у него оказался приятный бас; они находились в тюрьме, на дворе стоял август – но хор получился отменный, оба вдохновенно пели про Пречистую Деву. Старая рождественская песня и обрывки бумаги, падающие на головы и плечи, навеяли приятные воспоминания в этот душный дождливый день, и каждый заново испытал ту радость, которая охватывает при виде снега.
Потом все выстроились в ряд и пошли к своим блокам. В коридоре между корпусами стояла еще одна группа заключенных, ожидавших своей очереди сфотографироваться у новогодней елки. Фаррагат взглянул на них со странной радостью, смешанной с удивлением, – именно так человек, который только что посмотрел фильм, смотрит на тех, кто собирается войти в кинозал на следующий сеанс. На этом веселье закончилось. Увидев лица охранников в коридоре, все поняли, что Рождество прошло.
Фаррагат тщательно вымылся холодной водой и стал изо всех сил обнюхивать себя, как собака; он понюхал под мышками, понюхал между ног, но так и не понял, от кого воняет – от него или от Бампо. Дежурил Уолтон. Он штудировал свои учебники. Уолтон учился на вечернем отделении и собирался продавать автомобили. Иногда он позволял заключенным переговариваться между собой. Когда Рэнсом попросил выпустить его, чтобы поиграть в карты со Скалой, Уолтон раздраженно отпер дверь в его камеру.
– Я готовлюсь к экзамену. К экзамену. Вы-то понятия не имеете, что это такое. Если я завалю этот экзамен, мне придется остаться на второй год. Здесь все с ума посходили. Дома я тоже не могу готовиться. Ребенок болеет и поэтому все время орет. Я прихожу сюда пораньше, чтобы позаниматься в комнате охраны, но там сейчас настоящий сумасшедший дом. Я надеялся, что хоть здесь, в блоке, будет тишина и спокойствие, но оказалось, что вы тут как будто Вавилонскую башню строите! Играйте в карты, сколько влезет, только заткнитесь!
Решив воспользоваться этим, Фаррагат заорал на Бампо:
– Эй, грязная скотина, ты чего не моешься? Я вот помылся, весь помылся, но не могу наслаждаться своим приятным запахом, потому что от тебя воняет, как от мусорных баков позади мясной лавки!
– Конечно, воняет! Еще как! – закричал в ответ Бампо. – Так вот, значит, как ты обычно развлекаешься! Нюхаешь мусорные баки позади мясных лавок!
– Да заткнитесь же вы наконец! Заткнитесь! – воскликнул Уолтон. – Мне нужно готовиться к экзамену. Фаррагат, ты же прекрасно понимаешь, о чем я. Если я провалюсь, мне придется еще целый год, ну, по меньшей мере, целый семестр сидеть за партой и учить то, что я и так уже знаю, но забыл. Преподавательница у нас такая стерва. Болтайте, если хотите, только тихо.
– Бампо, Бампо, дорогой мой, любимый, – тихо проговорил Фаррагат, – что кассир сказал своей кассе?
– Я – нахмурившаяся виноградина, – ответил Бампо.
– Дорогой Бампо, – тихо продолжал Фаррагат. – Я осмелюсь попросить тебя кое о чем. История современной цивилизации сейчас зависит от твоего мудрого решения. Я не раз слышал, как ты говорил, что с радостью отдал бы свой бриллиант голодающему ребенку или одинокому старику, несправедливо обиженному этим жестоким миром. Теперь тебе выпал шанс сделать кое-что поважнее. Я собираюсь создать радио, у меня есть антенна, заземление и приемник из медной проволоки. Осталось найти наушники и полупроводниковый диод. У Скалы есть первое, а у тебя второе. С твоей помощью, с помощью твоего бриллианта, можно наконец разрубить гордиев узел непонимания, который угрожает управлению исправительными учреждениями и самому правительству. Заключенные держат двадцать восемь заложников. Если наши братья по несчастью допустят малейшую ошибку, нас начнут вырезать сотнями. Если же ошибку допустит управление исправительными учреждениями, то бунты начнутся в каждой тюрьме в Соединенных Штатах, а может, даже и по всему миру. Нас миллионы, Бампо, миллионы, и если мы победим, то будем править миром, хотя и я, и ты, Бампо, понимаем, что для этого у нас не хватает мозгов. Да, у нас не хватает мозгов, поэтому лучше всего нам установить перемирие, и все это зависит от твоего бриллианта.
– Знаешь что, иди-ка ты в задницу, – тихо отозвался Бампо.
– Бампо, Бампо, дорогой мой Бампо, когда-то Господь подарил тебе этот бриллиант, и вот сейчас Господь хочет, чтобы ты отдал его мне. На кон поставлены миллионы людских жизней, и все зависит от твоего решения. Радио изобрел Гульельмо Маркони в тысяча восемьсот девяносто пятом году. Именно он сделал чудесное открытие: звук, преобразованный в электрический сигнал, можно с помощью воздушных волн передать на расстоянии и преобразовать обратно в звуки, воспринимаемые человеческим ухом. Бампо, они схватили за яйца двадцать восемь заложников, и с помощью твоего бриллианта мы можем узнать, что они в «Стене» собираются сделать с этими двадцатью восемью яйцами.
– С пятьюдесятью шестью, – поправил его Бампо.
– Спасибо, Бампо, милый Бампо. И если мы узнаем это, то сможем разработать собственный план действий, и тогда нам, возможно, даже удастся выбраться из тюрьмы. С твоим бриллиантом я сделаю радио.
– Если ты такой великий волшебник, то почему бы тебе просто не перенестись отсюда на свободу? – спросил Бампо.
– Я говорю о воздушных волнах – они, в отличие от нашего тела, могут проникать сквозь тюремные стены. О воздухе. О чудесном воздухе. О сладостном воздухе. Ты меня слышишь? Я уже сейчас не мог бы разговаривать с тобой так тихо и спокойно, если бы не сознавал, что математика не поможет описать человеческую природу в ее истинной сущности. И не каждой выпуклости человеческого характера соответствует аналогичная впадина. Человек не может быть равнобедренным, как треугольник. И единственное, что заставляет меня все еще умолять тебя отдать мне бриллиант, это моя бесконечная вера в неизъяснимые богатства человеческой натуры. Поэтому я прошу тебя: дай мне бриллиант, и мы спасем мир!
Бампо рассмеялся. Его смех был искренним и каким-то детским, громким и переливистым.
– Ну, мужик, ты первый, кто делает мне такое заманчивое предложение! Я такого еще не слышал. Спасем мир! Я говорил всего лишь, что отдал бы его, чтобы спасти голодающего ребенка или старика. Я ничего не говорил о целом мире. Мой бриллиант стоит примерно от девятнадцати до двадцати шести тысяч. Цена на бриллиант все время меняется, но сам он остается при мне. Когда-то мне бы спокойно отрезали палец, лишь бы забрать бриллиант, но камень слишком крупный, такой непросто продать на подпольном рынке. Да, это крупный камень без единого изъяна. И мне ни разу еще не предлагали за него то, что предложил ты. А предложений было немало, целых двадцать семь, а может и побольше. Разумеется, каждый заключенный предлагал мне свой член и свою задницу, но на кой мне член? А задницы я вообще терпеть не могу. Нет, я не против, чтобы мне кто-нибудь подрочил, но ведь это не стоит двадцати шести тысяч баксов. Несколько лет назад один из охранников – его уже уволили – предложил мне за бриллиант по ящику виски каждую неделю. Было много других предложений такого же рода. Вкусная еда – много еды, завались. Сигареты на всю жизнь – а ведь я заядлый курильщик. Адвокаты. Они выстраиваются в очередь, чтобы поговорить со мной. Обещают пересмотр судебного решения, гарантированное помилование и освобождение. Еще один охранник как-то предложил мне побег. Я мог укрыться под днищем грузовика для доставки продуктов, и он бы перевез меня на свободу. Это предложение было единственным, которое меня по-настоящему заинтересовало. Грузовик приезжал в тюрьму по вторникам и четвергам, охранник хорошо знал водителя: тот был его шурином. Охранник устроил гамак под днищем грузовика, прочный гамак, который бы меня отлично выдержал. Он показал мне все это, я даже пару раз забрался в него, чтобы потренироваться, но он стал настаивать, чтобы я отдал ему камень до побега. Само собой, я не согласился, и вся эта затея провалилась. Но никто еще не говорил мне, что я могу спасти мир. – Бампо посмотрел на бриллиант, повертел рукой и улыбнулся, любуясь его блеском. – Ты ведь и не знал, что можешь спасти мир, да? – спросил он у бриллианта.
– Неужели кто-то и правда хочет выбраться из такого чудесного места, как наша тюрьма? – спросил вдруг Петух. Он прошелся по струнам своей гитары, но играть не стал, и его печальный голос звучал без аккомпанемента: – Неужели кто-то готов поднять бунт, чтобы выбраться из этого милого места? В газетах пишут, что повсюду царит страшная безработица. Вот почему вице-губернатор сидит здесь. Потому что не может найти работу за стенами Фальконера. Даже знаменитые актеры и актрисы, настоящие звезды, у которых когда-то были миллионы, стоят теперь в очереди с поднятыми воротниками пальто, ожидая подачки для бедных, ожидая, когда им наконец выдадут миску бесплатного фасолевого супа – такого пустого, что от него только еще больше хочется есть, а потом вдобавок долго пердишь. Там, за этими высокими стенами, все бедны, все лишились работы, там идет бесконечный дождь. Люди дерутся друг с другом из-за корочки хлеба. Им приходится часами выстаивать в очереди, и все для того, чтобы услышать, что никакой работы они не получат. Мы по три раза в день стоим в очереди, чтобы нам дали вкусную, хотя и не очень питательную, горячую еду, а там, на свободе, люди стоят по восемь часов, по двадцать четыре часа, иногда даже всю свою жизнь. Неужели кому-то хочется выбраться из этого чудесного места и бесконечно стоять в очереди под дождем? А когда люди не стоят в очереди под дождем, они переживают, как бы не началась атомная война. Иногда, впрочем, они умудряются делать и то и другое: стоять в очереди под дождем и переживать, как бы не началась атомная война, потому что, если она вдруг начнется, они все погибнут на месте и тут же окажутся в очереди у врат ада. Знаете, ребята, а ведь с нами такого не случится. Если начнется атомная война, нас спасут первыми. Во всех тюрьмах мира есть бомбоубежища для преступников. Власти не хотят, чтобы мы выскользнули из тюрьмы и смешались со свободными людьми. Нет, они скорее позволят свободным людям сгореть заживо, чем выпустят нас, в этом залог нашего спасения. Они скорее сами убьют этих невинных людей, чем разрешат нам вырваться на волю, потому что все знают: мы жрем маленьких детей, насилуем старушек в задницу и сжигаем дотла больницы, в которых лежат беспомощные калеки. Так неужели кто-то все-таки хочет выбраться из такого чудесного места, как наша тюрьма?
– Эй, Фаррагат, иди к нам, сыграй в карты со Скалой, – позвал Рэнсом. – Уолтон, ты не отопрешь дверь в камеру Фаррагата? Скала хочет перекинуться с ним в картишки.
– Отопру, если вы заткнетесь, – ответил Уолтон. – Мне нужно сдать экзамен. Обещаете сразу заткнуться?
– Обещаем, – согласился Рэнсом.
Дверь в камеру Фаррагата открылась, он взял стул и пошел к Скале. Скала улыбался, как идиот, которым он, возможно, и был. Он вручил Фаррагату колоду карт, и тот стал сдавать их, приговаривая:
– Одна тебе, одна мне.
Потом Фаррагат развернул карты веером, но их было слишком много, и штук десять упало на пол. Нагнувшись, чтобы их поднять, он услышал чей-то голос: человек говорил очень тихо, но не шепотом. Слуховой аппарат Скалы – тот, что стоил две сотни баксов, – настроили на радиочастоты. Фаррагат увидел на полу четыре батарейки в холщовом мешочке и пластмассовый приемник, откуда и раздавался голос. Фаррагат поднял карты и стал по одной бросать их на стол, приговаривая:
– Одна тебе, одна мне.
Из аппарата донеслось: «Все желающие могут записаться на курсы разговорного испанского, а также на уроки резьбы по дереву, с пяти до девяти с понедельника по пятницу в здании института Бенджамина Франклина, которое находится на углу улиц Вязов и Каштанов». Потом Фаррагат услышал звуки фортепьяно. Это была самая кошмарная из всех прелюдий Шопена – та, что обычно звучит в детективах перед убийством; та, при звуках которой люди его возраста и старше должны были бы представить маленькую девочку с косичками, вынужденную долгий, мучительный час сидеть в унылой комнате и играть мелодию, в которой якобы смешались тихий шепот волн и грустный шелест падающих листьев. «Последние новости из „Стены“, или тюрьмы Амана, – сказал диктор. – Между властями и комитетом, созданным заключенными, по-прежнему ведутся переговоры. Войска готовы к штурму тюрьмы, однако слухи о том, что военные устали ждать и хотят начать штурм как можно скорее, не подтвердились. По радио и телевидению выступили пять заложников, они сообщили, что главенствующая среди заключенных группировка „Черные мусульмане“ предоставила им еду и медицинские препараты. Губернатор в третий раз уверенно заявил о том, что он не уполномочен объявить амнистию. Заключенным было выдано последнее прошение об освобождении заложников, и они должны ответить на него завтра на рассвете. Рассвет начинается в шесть часов двадцать восемь минут, но синоптики обещают сильную облачность и дождь. А теперь местные новости. Велосипедист Ральф Вальдо победил в гонке „Золотой век“, которая проводилась в городе Бернт-Вэлли, – это произошло в тот день, когда Ральфу исполнилось восемьдесят два года. Его результат – один час восемнадцать минут. Наши поздравления, Ральф! Миссис Чарльз Раундтри из городка Хантерс-Бридж, который находится в северо-восточной части нашего штата, заявила, что видела неопознанный летающий объект, причем он находился на таком близком расстоянии, что сильные потоки воздуха задрали ей юбку, когда она развешивала белье. Оставайтесь с нами, и вы узнаете все подробности о пожаре, который произошел в пять часов в Таппансвилле». После этого кто-то запел:
Зубная паста «Гэрроуэй» —
Для старух и для детей,
Для супруга и супруги,
Для тебя и для подруги!
Фаррагат еще несколько минут делал вид, что сдает карты, а потом вдруг закричал:
– У меня болит зуб! Я хочу назад в камеру. У меня болит зуб.
– Ну так иди к себе, – откликнулся Уолтон. – Мне нужно готовиться.
Взяв стул, Фаррагат отправился к себе, но у камеры Рэнсома он вдруг остановился и сказал:
– У меня страшно болит зуб. Это зуб мудрости. Вот этот, слева. Он у меня вместо часов – начинает болеть где-то в девять вечера, а перестает только на рассвете. Завтра на рассвете я узнаю, утихнет ли боль и не выпадет ли он. Да, я узнаю об этом прямо на рассвете. Примерно в шесть двадцать восемь.
– Спасибо, мисс Америка, – отозвался Рэнсом.
Фаррагат вернулся в свою камеру, лег на койку и заснул.
Ему приснился странный сон, совсем не похожий на прошедший день. Сон был очень красочный и яркий – такие насыщенные цвета человеческий глаз не способен различить в обычной жизни, они проявляются только на фотографии. Фаррагат плывет на роскошном лайнере, ощущая знакомые ему свободу, скуку и боль от солнечных ожогов. Он плавает в бассейне, пьет в баре вместе с туристами самых разных национальностей, спит в каюте во время сиесты, играет в пэддл-теннис на палубе, снова плавает в бассейне, а к четырем возвращается в бар. Он такой гибкий, энергичный, загорелый – хотя, конечно, этого красивого золотистого загара никто не заметит в темных барах и клубах, куда он придет обедать, вернувшись из круиза. Фаррагат весело проводит время и даже начинает переживать, что это уже чересчур, но однажды во время сиесты замечает, что по левому борту к ним приближается шхуна. Со шхуны подают сигналы флагами, но он ничего не может разобрать. Лайнер начинает сбрасывать скорость. Волны, разбивающиеся об острый нос, становятся все слабее, и вот уже их совсем нет, и неведомое судно тихо скользит бок о бок с огромным лайнером.
Шхуна приплыла за ним. Фаррагат подходит к борту, спускается по веревочной лестнице на палубу шхуны и, пока та отчаливает, машет на прощанье своим друзьям, которые остались на лайнере, – мужчинам, женщинам, музыкантам корабельного оркестра. Он не знает ни владельца судна, ни тех, кто приветствует его на борту. Он ничего не помнит, кроме того, что стоит на палубе и смотрит, как лайнер набирает скорость, – огромный старомодный лайнер, названный в честь какой-то королевы, белоснежный, точно подвенечное платье, с тремя косыми трубами и золотистой лентой на носу, из-за которой он очень похож на игрушечный пароходик. Внезапно лайнер резко сходит с курса, сворачивает налево и несется на полной скорости к острову, напоминающему острова Атлантического океана, только на этом растут пальмы. Огромное судно врезается в берег, накреняется на правый борт и тут же загорается. Отплывая на шхуне, Фаррагат видит через плечо огонь и гигантский, взметнувшийся к небу столб дыма. Когда он проснулся, яркие краски сна тут же поблекли в серых стенах Фальконера.
Фаррагат посмотрел на часы, а потом на небо. Шесть двадцать восемь. На улице лил дождь и, наверное, за окнами «Стены» тоже. Его разбудил Тайни.
– Зачем шоколад, если есть «Лаки-Страйк», – сказал Тайни. – «Честерфилд» всегда под рукой. Я прошел бы всю пустыню ради пачки «Кэмела».
В руке он держал пять сигарет. Фаррагат взял две. Они были плохо скручены и набиты, судя по всему, марихуаной. Фаррагат с благодарностью посмотрел на Тайни, но все теплые чувства, которые он испытывал к охраннику, быстро прошли, когда он заметил, насколько ужасно тот выглядит. Глаза у Тайни были красными. Морщины возле рта походили на глубокие борозды проселочной дороги, выражение лица – холодное и застывшее, словно маска. Он пошел дальше, приговаривая:
– Зачем шоколад, если есть «Лаки-Страйк». Я прошел бы всю пустыню ради пачки «Кэмела».
Эти фразы из рекламы сигарет были старше, чем Тайни и Фаррагат. Все, кроме Скалы, поняли, что дал им охранник и что с этим делать. Рэнсом подсказал Скале:
– Затянись, а потом задержи дым в легких.
Фаррагат прикурил первую самокрутку, затянулся, задержал дым в легких и почувствовал во всем теле настоящую, бесценную свободу, какую даровал ему наркотик.
– Потрясающе, – сказал он.
– Классная штука, – согласился Петух.
Остальные заключенные только постанывали от удовольствия. Тайни врезался в стену и больно ушиб плечо.
– Там, откуда это привозят, такого добра навалом, – проговорил он, рухнул на свой железный стул, уронил голову на руки и захрапел.
Насладившись удивительным ощущением свободы, Фаррагат выдохнул дым – в воздух взвилось серое облако, похожее на те облака, которые, наверное, начали уже проступать на темном небе за окном. Свобода будто подняла его с койки, оторвала от всего, что так привязано к этому бренному миру. Шум дождя казался нежным и напоминал Фаррагату о той нежности, которой была лишена его жесткая мать, разливавшая бензин в вечернем платье. Вдруг он услышал, как в слуховом аппарате у Скалы что-то затрещало, а Рэнсом сонно сказал:
– Потряси его, потряси, ну же, ради всего святого!
Сквозь пары марихуаны Фаррагат услышал женский голос и подумал, что этот голос принадлежит не молодой девушке и не старухе, не красавице, не уродине – нет, этот голос принадлежит женщине, которая продает сигареты, и его можно было бы услышать в любой стране мира.
«Здравствуйте! Я – Пэтти Смит, коллега Элиота Хендрона, который, как вы наверняка знаете, очень обеспокоен недавними событиями в „Стене“. Тюрьму взяли войска. В шесть часов утра комитет, созданный заключенными, сжег петицию, в которой правительство просило дать ему еще немного времени. Заключенные согласились на отсрочку, но не более того. По некоторым данным, уже начались приготовления к казни заложников. В шесть часов восемь минут открыли газовую атаку, а через две минуты военные получили приказ к стрельбе. Перестрелка велась шесть минут. Пока рано говорить о числе жертв, но Элиот, мой напарник, последним побывавший во дворе К, видел по меньшей мере пятьдесят погибших и еще пятьдесят смертельно раненных. Военные раздели заключенных догола. Теперь они лежат голые в грязи и лужах, их рвет от газа ЦС-2. Простите, дамы и господа, простите. – Она плакала. – Мы с Элиотом сейчас отправимся в больницу к раненым».
– Спой нам песню, Петух Номер Два, – попросил Рэнсом. – Спой нам песню.
Петух помотал головой, чтобы прийти в себя после марихуаны, взял гитару, резко ударил по струнам и запел. Голос у него был тонкий и ровный, но в нем слышалась хрипотца, и в этой хрипотце – удивительная храбрость. Он пел:
Если в мире останется песня одна,
И будет грустной она —
Я не стану вам петь, не просите.
Если в мире останется песня одна,
И будет грустной она —
Я не стану вам петь, не просите.
Я не стану вам петь ни про боль, ни про скорбь,
Я не стану вам петь о войне.
Я не стану вам петь ни про плач, ни про ложь,
Ни про подлый выстрел во тьме.
Я не стану вам петь про пожары и страх,
И про горечь утраты не стану.
Если грустная песня осталась одна,
Лучше петь я совсем перестану.
Снова раздетые почти донага, они ждали, когда получат новую форму. По очереди подходили к одному из окошек с табличками: EXTRA LARGE, LARGE, MEDIUM, SMALL, – снимали старую серую робу и бросали ее в корзину. Новая форма была грязно-зеленого цвета, не сочного цвета зеленой листвы, подумал Фаррагат, и не ярко-зеленого цвета Троицы и длинного лета, а сероватого оттенка живых мертвецов. Только Фаррагат пропел несколько тактов «Зеленых рукавов», и только Рогоносец улыбнулся. Смена формы считалась делом серьезным. Скептицизм и сарказм казались неуместными и достойными презрения, ведь именно за этот серо-зеленый цвет люди в Амане часами лежали голые в грязи и собственной рвоте, за него они умирали. Да, это факт. После революции дисциплина ослабла, почту перестали проверять, но их труд по-прежнему стоил полпачки сигарет в день, и эта смена формы стала самым серьезным результатом мятежа в «Стене». Идиотов не было – никто не говорил: «Наши братья погибли за эту форму», – и все понимали, какие деньги нужны, чтобы заново одеть всех заключенных, и зачем это нужно кучке людей, которые могли бы сейчас нырять с аквалангом на Малых Антильских островах, развлекаться с проститутками на яхтах и все такое прочее. Да, смена цвета была делом серьезным.
Новая форма идеально вписывалась в атмосферу амнистии, которая воцарилась в Фальконере после подавления восстания в «Стене». Маршек снова подвесил цветочные горшки на проволоке, которую украл Фаррагат, и никто не спросил про заточенную клавишу от пишущей машинки. Когда раздали новую форму, многие захотели ее перешить. Почти все требовали, чтобы одежду сразу же подогнали под них. Но зеленые нитки привезли только через четыре дня и весь запас распродали за час, но Бампо и Теннис – оба умели шить – раздобыли одну катушку и целую неделю перешивали робы.
– Тук-тук-тук, – сказал Рогоносец.
Фаррагат разрешил ему войти, хотя всегда его недолюбливал. Но он устал от телевизора и хотел услышать живой человеческий голос, с кем-то поговорить. Лучше бы не с Рогоносцем, но выбора не было. Рогоносец попросил, чтобы его штаны сделали как можно уже, но, судя по всему, ничего хорошего из этого не вышло. Сзади они давили, точно седло гоночного велосипеда, а спереди впивались так, что Рогоносец морщился, когда садился. «Зря старался, красоты все равно не получилось», – со злостью подумал Фаррагат; впрочем, он всегда думал о Рогоносце с некоторой злостью. Рогоносец уселся, собираясь снова рассказывать о жене. Фаррагату пришло в голову, что у него невероятно раздутое самолюбие. Готовясь к очередному монологу, он словно становился больше и больше – буквально увеличивался в размерах, как показалось Фаррагату. Он представил, как Рогоносец, раздуваясь, сбросит со стола книгу Декарта, оттолкнет стол к решетке, вывернет из пола унитаз и разломает койку, на которой лежит Фаррагат. Он знал: то, что расскажет Рогоносец, будет омерзительно, но понятия не имел, как относиться к такой мерзости. Существование всей этой грязи было неоспоримо и нерушимо, однако свет, который проливал рассказ на все прочее, не соответствовал самой природе рассказа. Рогоносец заявил, что у него куча новостей, но изложенные им факты только запутали Фаррагата, ввергли его в еще большие сомнения и отчаяние. Но он подумал, что все это – черты его характера, а значит, их надо пестовать. В конце концов, суетливость и бессмысленный оптимизм достойны лишь презрения. Поэтому он не стал возмущаться, когда Рогоносец откашлялся и начал:
– Если б ты спросил меня, что я думаю о браке, я бы сказал: помни, что секс – не главное. Я женился на ней потому, что она здорово трахалась… ну… мы подходили друг другу по размеру, она вовремя кончала, и долгие годы все было о’кей. Но когда она начала спать со всеми подряд, я не знал, что делать. Священники ничего не могли посоветовать, а юристы говорили, что нужно подать на развод. А что тогда делать с детьми? Они не хотели, чтобы я их бросил, даже когда все узнали про мать. Она сама мне об этом говорила. Я возмущался, что она спит со всеми без разбора, а она прочитала мне целую лекцию о том, как тяжело ей приходится. Говорила про одиночество шлюх и их опасную жизнь. Говорила, что тут требуется мужество. Честное слово! Так и сказала. Мол, по фильмам и книжкам можно подумать, что это не жизнь, а рай, но на самом деле с какими только трудностями ей не приходилось сталкиваться. Рассказала, как один раз, когда я уехал по делам, она пошла в бар, а потом в ресторан с друзьями. У нас в Северной Дакоте правило: едят в одном месте, пьют – в другом. Так вот, они выпили и пошли в ресторан, а там у барной стойки она заметила дивного красавца. Посмотрела на него эдаким соблазняющим взглядом, и он ответил ей тем же. Знаешь, какой у нее бывает взгляд?
Так вот, она нарочно громко сообщила друзьям, что не хочет десерт и поедет к себе, в пустой дом, и почитает в тишине. Она специально сказала это так, чтобы он услышал и понял, что ни муж, ни дети не помешают. Она знала бармена и не сомневалась, что он даст красавцу ее адрес. Приехав домой, она надела пеньюар, и тут позвонили в дверь. На пороге стоял тот красавец. Он стал целовать ее прямо в коридоре, положил ее руку на свой член, сбросил брюки – прямо в коридоре! Тут-то она и заметила: хоть он и красавец, но жутко грязный. Не мылся, наверное, целый месяц, сказала она. Лишь только она почуяла, как от него воняет, пыл ее угас, и она стала думать, как бы засунуть его в душ. А он все целовал ее и раздевался, и воняло от него все сильнее и сильнее. Тогда она спросила, не хочет ли он выкупаться. А он вдруг озверел, стал орать, что ему нужна баба, а не мать, что это мамаша ему говорила, когда мыться, когда стричься, когда чистить зубы, и не для того, чтобы узнать, надо ли ему помыться, он ходит по барам и ищет, с кем бы перепихнуться. Он оделся и ушел. Эту историю она рассказала мне, чтобы я понял, какое мужество нужно женщине легкого поведения.
Но я и сам тоже хорош. Однажды я вернулся домой, пошел наверх посрать и заметил возле унитаза пачку журналов об охоте и рыбалке. Я вытерся, надел штаны и стал орать, что она совсем обалдела, если трахается с рыбаками, страдающими запорами. Я все орал и орал. Она где-то подобрала болвана, который в жизни не забросил удочки. Представляю, как он сидит на унитазе с красной от напряжения рожей и читает, как ловят американскую щуку в буйных северных водах. Я сказал, что она такого и заслуживает – стоит только на нее посмотреть, сразу ясно, что она будет трахаться с каким-нибудь прыщавым типом с бензоколонки, который рыбачит по журналам и даже посрать нормально не может. Она все плакала и плакала, а где-то через час я вспомнил, что сам оформил подписку на эти журналы. Я попросил у нее прощения, но она все равно обижалась. Я чувствовал себя таким гадом.
Фаррагат промолчал – он вообще редко отвечал Рогоносцу. Тогда тот ушел в свою камеру и включил радио.
Во вторник утром у Рэнсома начался понос, а к вечеру среды понос был уже у всех, кроме Скалы. Петух заявил, что это все от свинины, которую они едят целую неделю. Он уверял, что из его куска мяса вылетела муха, он ее поймал и хотел всем показать, но никто не стал смотреть. Они записались к врачу, но Уолтон и Голдфарб сказали, что госпиталь переполнен и в ближайшие десять дней ни врач, ни даже медбрат не смогут никого принять. Как у всех остальных, у Фаррагата начался понос и поднялась температура. В четверг им в камеры принесли обезболивающее. Оно помогло на час забыть о Фальконере, но понос не прекратился. В пятницу после обеда объявили: «В связи с эпидемией гриппа на северо-востоке страны администрация реабилитационного центра проводит вакцинацию. Вакцинация будет осуществляться с девяти ноль-ноль до восемнадцати ноль-ноль и является обязательной. Никакие суеверные и религиозные оправдания не принимаются».








