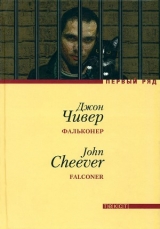
Текст книги "Фальконер"
Автор книги: Джон Чивер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Фаррагат снял один из цветов с рейки и попробовал отцепить проволоку. Маршек продевал ее сквозь дырки в горшке, но он накрутил столько проволоки, что Фаррагату потребовалось бы не меньше часа, чтобы ее снять. Внезапно он услышал шаги. Испугавшись, он застыл перед горшком, который поставил на пол, но это оказался всего лишь Толедо. Фаррагат отдал объявления и вопросительно посмотрел на него.
– Ну да, ну да, – проговорил Толедо – не шепотом, но очень тихо. – Они захватили двадцать восемь заложников. Это по меньшей мере две тысячи восемьсот фунтов мяса, и теперь они могут заставить каждую унцию петь, – на этом Толедо вышел из кабинета.
Фаррагат вернулся к себе за стол, выломал самую редко используемую клавишу из печатной машинки и заточил ее о старую гранитную стену, размышляя о ледниковом периоде и о том, что, возможно, благодаря нему эти стены такие твердые. Основательно заточив клавишу, он вернулся в кабинет Маршека и срезал проволоку с восемнадцати цветов. Спрятав ее в трусы, Фаррагат выключил свет и пошел по туннелю в свой блок. Проволока мешала идти, поэтому шел он очень неуклюже. Если бы кто-то спросил, почему он подволакивает ноги, он бы ответил, что из-за бесконечных дождей у него разыгрался ревматизм.
– Номер 73450832 вернулся, – доложил он Тайни.
– Какие новости?
– Завтра в девять часов утра исполнится желание любого придурка, который захочет, чтобы его сфотографировали у новогодней елки.
– Не дури, – сказал Тайни.
– А я и не дурю, – откликнулся Фаррагат. – Утром сами увидите объявление.
Фаррагат, все еще с проволокой в трусах, сел на койку. Как только Тайни отвернется, он тут же спрячет проволоку под матрас. Отмотав туалетной бумаги, он сложил ее несколько раз и сунул в Декарта. В детстве, собирая приемники, он наматывал проволоку на коробку от овсяных хлопьев. И теперь надеялся, что туалетная бумага тоже вполне сгодится. Пружина из койки будет антенной, пол – излучателем, бриллиант Бампо – диодным кристаллом, а у Скалы всегда можно позаимствовать слуховой аппарат. Собрав радиоприемник, он сможет регулярно слушать новости и знать о том, что происходит в «Стене». Фаррагата охватило волнение, но в то же время он был на удивление спокоен. Внезапно по громкой связи сделали объявление, и Фаррагат от неожиданности чуть было не подскочил на своей койке. ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ МИНУТ В БЛОКЕ Д НАЧНЕТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.
Те, кто следил за календарем, знали, что обследование проводилось в первый четверг каждого месяца. Все остальные – тогда, когда о нем объявляли. Фаррагат предположил, что это обследование, точно так же, как и вся затея с новогодней елкой, сейчас придумано для того, чтобы рассеять их волнения. Заключенные подвергнутся унижению, их разденут догола, и силу этого унижения нельзя переоценить. Во время процедуры врач сделает вид, будто его очень волнует здоровье заключенных, а медбрат проверит их гениталии, чтобы выяснить, не подцепили ли они венерические заболевания. После объявления обитатели блока Д повозмущались, но быстро успокоились. Повернувшись спиной к Тони, Фаррагат снял штаны, аккуратно сложил их и положил под матрас, чтобы не сильно помялись. И конечно же вытащил из трусов проволоку.
В блок вошел врач в костюме и фетровой шляпе. Казалось, он страшно устал и изрядно напуган. Медбрат оказался весьма некрасивым мужчиной по имени Вероника. Наверное, раньше он был довольно привлекательным, потому что при тусклом, очень тусклом свете его еще можно было принять за симпатичного парня, но вот при нормальном освещении он напоминал жабу. Он явно еще не утратил пыла, из-за которого его лицо избороздили морщины и оно стало таким уродливым. Врач и медбрат сели за стол Тайни; Тайни выдал им личные дела заключенных, а потом отпер камеры. Раздевшись догола, Фаррагат почувствовал, что от него исходит вонь, так же как и от Тенниса, Бампо, Рогоносца. Им не разрешали принимать душ с самого воскресенья, и вонь стояла поистине отвратительная, как от тухлого мяса на скотобойне. Первым на обследование отправился Бампо.
– Сожми его, – велел врач, в голосе его слышались напряжение и злость. – Отодвинь крайнюю плоть и сожми член. Сожми, я тебе сказал!
Костюм у врача был дешевый, весь в пятнах. И галстук такой же. И куртка. Даже стекла в его очках были все в жирных пятнах. Шляпу он надел явно в качестве неотъемлемого дополнения к костюму. Он, великий судия, сидел в шляпе, тогда как кающиеся грешники стояли перед ним совсем нагие – своими грехами, своими гениталиями, своим наигранным весельем и своими воспоминаниями они еще больше показывали, насколько они ничтожны.
– Раздвиньте ягодицы, – приказал врач. – Еще. Еще. Следующий – номер 73482.
– Это номер 73483, – поправил его Тайни.
– У вас такой непонятный почерк, – отозвался врач. – Номер 73483.
Заключенным номер 73483 был Теннис. Он обожал загорать, но задница у него оказалась белоснежной. Руки и ноги для спортсмена слишком худые. У Тенниса обнаружили триппер. Заключенные стояли смирно, не издавая ни звука. Во время обследования их покидало даже самое чахлое чувство юмора. Оно еще как-то умудрялось выжить в мрачной «Долине», но только не здесь. Фаррагата покинула и та странная оживленность, которая охватила его совсем недавно во время обеда.
– Где ты это подцепил? – спросил врач. – Назови имя и номер.
Теперь, обнаружив настоящую болезнь, он точно ожил и ощутил уверенность в собственных силах. Элегантно поправив очки одним пальцем, врач потер лоб.
– Не знаю, – ответил Теннис. – Я вообще его не помню.
– Так где ты подхватил триппер? – настаивал врач. – Скажи, а то хуже будет.
– Ну, может, во время бейсбола, – протянул Теннис. – Да, наверняка во время бейсбола. Какой-то мужик отсосал у меня, пока я смотрел матч. Я его не знаю. Если бы знал, давно бы убил, но мне было так интересно, чем закончится игра, что я и не заметил. Обожаю бейсбол.
– А может, тебе просто кто-то вставил в душе? – продолжал врач.
– Ну, если и так, то только случайно, – ответил Теннис. – Совершенно случайно. Нам тут разрешают принимать душ всего раз в неделю, и меня, чемпиона по теннису, который привык принимать душ раза три-четыре за день, это очень расстраивает. Начинает кружиться голова. Я уже и не понимаю, что происходит в этом душе. Если б я знал, сэр, то обязательно бы вам рассказал. Если б я знал, что произошло в этом душе, я бы его избил хорошенько, да я б его просто убил. Такой уж я уродился. Очень несдержанный.
– Он украл мою Библию! – вдруг завопил Петух. – Украл Священное Писание в обложке из тонкой кожи. Глядите, глядите – эта сволочь сперла у меня Библию!
Петух тыкал пальцем в Рогоносца. Тот стоял, нелепо сведя колени, как это обычно делают женщины.
– Не знаю, о чем это он, – заявил Рогоносец. – Ничего я у него не крал.
Он широко развел руки, чтобы показать, что у него нет Библии. Тут Петух толкнул его. Библия со стуком упала на пол, – видимо, Рогоносец зажал ее между ног. Петух быстро поднял книгу.
– Моя Библия, моя любимая Библия, мне ее прислал двоюродный брат Генри, единственный родственник, с которым я общался за последние три года. А ты украл ее! Ты настоящий подлец, я не стану даже плевать в твою сторону! – И он плюнул на Рогоносца. – Никогда еще не слышал и никогда не видел, – даже в самом кошмарном сне, чтобы кто-то пал так низко, – украл у заключенного Библию, подаренную его любимым двоюродным братом.
– Да на кой мне сдалась твоя гребаная Библия! Ты и сам это знаешь, – проревел Рогоносец. Он кричал гораздо громче Петуха, и голос у него был ниже. – Ты ни разу даже не взглянул на свою Библию. На ней был чуть не дюйм пыли. Годами твердишь одно и то же – что Библия в тюрьме тебе точно не нужна. Годами ругаешь своего двоюродного брата Генри на чем свет стоит за то, что тот послал ее тебе. Все зеки в этом блоке уже устали слушать твое нытье про Библию и Генри. Мне нужна была всего лишь кожа, чтобы вырезать ремешки для часов. Не собирался я рвать на части твою Библию. Как раз наоборот – я собирался вернуть ее тебе в целости и сохранности, только без кожаной обложки. Если бы ты и правда хотел прочитать Библию, а не жаловаться на то, что брат не прислал тебе банку супа вместо нее, ты бы понял, что Священное Писание вполне можно читать и без обложки.
– Она воняет, – пробормотал Петух. Он поднес книгу к носу и теперь фыркал, принюхиваясь. – Он сунул ее себе под яйца! И теперь она воняет. Святое Писание воняет его мерзкими яйцами. Все воняет – и Книга Бытия, и Исход, и Левит, и Второзаконие.
– Заткнитесь же! Заткнитесь, – приказал Тайни. – Тому, кто откроет рот, я запрещу целый день выходить из камеры.
– Но… – начал Петух.
– Один, – оборвал его Тайни.
– То же мне, святоша! – сказал Рогоносец.
– Второй, – устало проговорил Тайни.
Петух прижал Библию к груди, как некоторые прижимают к груди шляпу при виде флага. Потом высоко задрал голову, и полуденное августовское солнце осветило его лицо. Теннис скулил:
– Честное слово, не помню. Если б помнил, сказал бы. Если б знал, кто виноват, убил бы его.
Врач еще долго мучил несчастного Тенниса, но потом все же выписал ему рецепт. Затем он проверил остальных и отметил их имена галочками в своем списке. Фаррагату хотелось есть, он посмотрел на часы и обнаружил, что проверка заняла уйму времени. Ужин закончился час назад. Тайни о чем-то спорил с врачом по поводу списка. После того как Рогоносец украл Библию, Тайни запер камеры, и обитатели блока Д теперь стояли совсем голые, ожидая, когда наконец можно будет вернуться к себе и одеться.
Лучи заходящего солнца, проникающие в тюрьму, напомнили Фаррагату о том, как однажды он несся на лыжах по зимнему лесу. Подобно деревьям в лесу, решетки отбрасывали длинные тени; вдобавок здесь, в тюрьме, царила атмосфера тайны и величия – как на древних гобеленах с рыцарями и единорогами, когда – несмотря на покой и безмолвие – чувствуется, что вот-вот произойдет нечто непредвиденное. Мерцающий свет, пыль, посверкивающая в его лучах, тени на полу породили в сознании Фаррагата образ скорбящей женщины под вуалью в пустой церкви. Но в чудесном зимнем лесу воздух был словно пропитан какой-то непередаваемой новизной, тогда как здесь, в тюрьме, Фаррагат не ощущал ничего, кроме отвратительной вони своего давно не мытого тела, да еще тупой злости оттого, что они были обмануты. Они были обмануты. Они обманули сами себя. Происходящее в «Стене» – почти все это знали – вселяло надежду на бунт, на возможные перемены, и вот все потонуло в спорах о триппере, Библии и ремешках для часов.
Фаррагат чувствовал себя бессильным. Никакая девушка, никакая задница, никакой рот не смогли бы сейчас заставить его вялый член встать. Но он совсем не ощущал радости от того, что ему наконец больше не хочется секса. Вечерний свет, проникавший в камеру, был бледным и белесым, такой белесый свет льется из окон на картинах тосканских художников, последний свет уходящего дня, однако именно он помогает зрительному нерву, который отвечает за нашу способность различать цвета, увидеть то, что мы не видели раньше. Обитатели блока Д, нагие, уродливые, вонючие, униженные каким-то клоуном в грязном костюме и не менее грязной шляпе, вдруг показались Фаррагату в этом белесом свете настоящими преступниками. Никакие лишения и жестокость, через которые им пришлось пройти в юности – голод, жажда, избиения, – не могут оправдать совершенных ими убийств и краж, их всепоглощающих извращенных пристрастий. Их души никогда не очистятся. Конечно, наказание, которое им назначили, было слишком грубым и жестоким откликом, однако оно служило отличной меркой их таинственного падения. Глядя на этих людей в тусклом вечернем свете, Фаррагат понял, что Рай навсегда для них потерян.
Наконец они оделись. Было уже темно. Петух закричал:
– Жрать! Я хочу жрать!
Остальные начали вторить ему.
– Ужина не будет, – объявил Тайни. – Кухня закрыта на ремонт.
– По Конституции у нас есть право на трехразовое питание, – завопил Петух. – Мы добьемся приказа о доставлении нас в суд. Добьемся двадцати приказов…
Потом он заорал:
– Телевизор! Хочу смотреть телевизор!
К нему присоединились остальные.
– Телевизор сломался, – сказал Тайни.
Тут же догадавшись, что он врет, заключенные стали кричать еще громче, и Фаррагат, вконец измотанный голодом и всем, что происходило вокруг, вдруг ощутил, что постепенно погружается, причем без всякого сопротивления, в апатию, которая была самым ужасным из всех способов уйти от реальности. Сведя плечи, опустив голову на грудь, он все больше увязал в этом гадком, отвратительном бездействии. Он был способен только дышать. Громкий гул голосов словно сталкивал его в пропасть, звуки напоминали сладостный, хотя и опасный, наркотик; Фаррагату казалось, что его мозг сейчас похож на пчелиные соты, которые разъедает какой-то странный растворитель. Петух поджег свой матрас, принялся дуть на пламя и просить остальных передать ему побольше бумаги, чтобы огонь не угас. Но Фаррагат его почти не слышал. Обитатели блока Д передавали ему туалетную бумагу, стопки объявлений и письма от родных и близких. Петух с таким жаром дул на огонь, что у него выпали обе челюсти – и верхняя, и нижняя. Сунув их в рот, он закричал – до Фаррагата едва доносился его голос:
– Поджигайте матрасы, давайте спалим тюрьму дотла, будем смотреть, как пляшут языки пламени, как они все задыхаются от дыма, как огонь взметается над крышей, как они горят в нем, горят и плачут от боли.
Фаррагату казалось, что Петух говорит откуда-то издалека, зато потом он отчетливо услышал, как Тайни снял трубку и сказал:
– Пожарная тревога, – а затем закричал: – Какого хрена вы мне говорили, чтобы я объявлял пожарную тревогу, если не можете потушить пожар? Ладно, послушайте, они вопят, устраивают тут черт знает что, поджигают матрасы. Спрашивается, почему это мой блок не такой опасный, как блок В или Б? Ну да, у меня нет миллионеров и губернаторов, но это вовсе не значит, что здесь менее опасно, чем в любом другом блоке. У меня толпа придурков, это как граната – может взорваться в любой момент! Я же говорю, они жгут матрасы. Только не говорите, что можете спокойно справиться с пожаром – я-то знаю, что вы сейчас глушите виски в комнате охраны. Ну да, вы боитесь. Как и я. Я обычный человек. Я бы тоже с удовольствием выпил. Ладно, хорошо, только давайте поскорее.
В БЛОКЕ Д ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ. В БЛОКЕ Д ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ. Объявление прозвучало только через десять минут. Вскоре дверь открылась, и в блок вошли охранники – восемнадцать человек в респираторах и желтых водонепроницаемых плащах, с дубинками и газовыми баллончиками. Двое сразу сняли со щита шланг и направили его в центр блока. Они все передвигались как-то неуклюже. Может, им мешали резиновые плащи, а может, они просто здорово напились. Чисхолм был явно пьян и напуган – лицо перекошено, точно отражение в реке: брови одного человека, рот другого, а высокий визгливый голос третьего.
– Всем встать у дверей в свои камеры! Тех, кто ослушается, мы собьем с ног струей воды. Получите такой удар, как от нескольких дубинок с острыми гвоздями на концах, как от здоровенных булыжников или железных прутьев. Затуши огонь, Петух. Поймите наконец, что вы бессильны. Тюрьма окружена войсками со всего штата. У нас есть силы, чтобы потушить любой пожар, какой бы вы ни устроили. Вы бессильны. А теперь, Петух, положи матрас и ложись спать на этом дерьме. Тайни, выключи свет. Сладких снов.
Охранники ушли, дверь закрылась, и блок Д погрузился в темноту. Петух жалобно скулил:
– Эй, ребята. Не спите. Не закрывайте глаза. Как только вы их закроете, они придут снова и убьют вас. Убьют прямо во сне. Ребята, не спите.
В блаженной темноте Фаррагат достал проволоку, рулон туалетной бумаги и начал собирать радио. До чего красивой показалась ему эта проволока – тонкая, чистая, золотистая ниточка, связь с миром живых людей, откуда до него периодически доносились людские крики и звуки борьбы не на жизнь, а на смерть. Вот и сейчас Фаррагат опять услышал эти страшные звуки, но решил, что все дело в его больном воображении, и целиком сосредоточился на изготовлении чудесного прибора из бумаги и проволоки – связующего звена, нити, блестящей пряжки между двумя мирами. Когда все было готово, Фаррагат радостно вздохнул, как удовлетворенный любовник, и пробормотал:
– Благодарю Тебя, о Господи!
Петух все еще скулил:
– Не спите, ребята. Не спите.
Фаррагат уснул.
Проснувшись, Фаррагат увидел, что в окно льется серый свет, а небо заволокло тучами: погода не изменилась. Наверное, скоро начнется нудный и долгий дождь, или разразится сильная гроза, или подует резкий северо-западный ветер – и тогда небо наконец расчистится. А еще он понял, что Чисхолм соврал. Тюрьма не была окружена войсками. Если бы под стенами расположились военные, Фаррагат услышал бы шум, почувствовал бы, как передвигается техника. Но ничего такого не произошло, и его охватило разочарование. Видимо, все войска перебросили к «Стене». Стояла невыносимая духота, и от Фаррагата воняло сильнее, чем вчера. И от Бампо тоже, и от Тенниса. Между прутьев торчал листок с объявлением, которое он перепечатал накануне. ЛУИЗА ПИЕРС СПИНГАРН, В ПАМЯТЬ О СВОЕМ ЛЮБИМОМ СЫНЕ ПИТЕРЕ… В семь утра раздался сигнал к завтраку. Дежурил Голдфарб.
– В очередь! – закричал он. – Я сказал, по очереди, на расстоянии десяти шагов друг от друга. В очередь.
Заключенные выстроились у двери, и, когда их впустили в столовую, Голдфарб проследил, чтобы все шли на расстоянии десяти шагов друг от друга. Скала забыл в камере слуховой аппарат и поэтому ничего не мог понять. Голдфарб кричал на него, орал прямо в ухо, показывал десять пальцев, но Скала только улыбался и продолжал семенить за Рэнсомом, ни отставая ни на шаг. Он боялся, что его бросят одного хоть на минуту. Голдфарб сдался. В туннеле по пути к столовой Фаррагат заметил на стенах вчерашние объявления: «Сотрудникам тюрьмы следует проявлять бдительность в присутствии заключенных. Чем больше бдительности, тем меньше беспорядков». Вдоль туннеля на равном расстоянии друг от друга стояли охранники в водонепроницаемых плащах, с дубинками и газовыми баллончиками. Лица у тех, кого Фаррагат успел разглядеть, были еще более изможденными, чем у заключенных. В столовой из динамиков доносилось: ВСЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПРИКАЗАНО ЕСТЬ СТОЯ, НЕ СХОДЯ С МЕСТА. ВСЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПРИКАЗАНО ЕСТЬ СТОЯ, НЕ СХОДЯ С МЕСТА. РАЗГОВАРИВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО… На завтрак дали чай, остатки вчерашнего мяса и яйцо, сваренное вкрутую.
– Кофе нет, – сообщил заключенный на раздаче. – Ничего у них нет. Вчера вечером разносчик рассказал последние новости. У них по-прежнему двадцать восемь заложников. Требуют амнистии. Давай, проходи. Я тут стою уже двенадцать часов. Ноги, как ни странно, еще держат, но сам я просто умираю от усталости.
Фаррагат быстро съел мясо с яйцом, бросил поднос и ложку в грязную воду и вместе с остальными вернулся в блок Д. Щелк.
– Что кассир сказал своей кассе? – спросил Бампо.
– Не знаю.
– «Я рассчитываю на тебя», – вот что кассир сказал своей кассе.
Фаррагат бросился на койку – как человек, которого до предела измучили долгое тюремное заключение, спазмы желудка и сексуальное неудовлетворение. Он впился ногтями в голову, ожесточенно почесал бедра и грудь, издал глухой стон и прошептал Бампо:
– Бунт в «Стене». Двадцать восемь заложников. А сами требуют свободы и амнистии.
Фаррагат взвыл и задергался на постели, а потом уткнулся лицом в подушку, ощутив под ней еще недоделанное радио, которое, как он надеялся, было в относительной безопасности, потому что служащие тюрьмы напуганы до смерти и наверняка – он готов поклясться в этом – не станут устраивать в камерах обыск.
– Ты отличная касса, – проговорил Бампо. – А почему изюминка такая печальная?
– Потому что она – сушеная груша? – предположил Фаррагат.
– Нет. Потому что она – сильно нахмурившаяся виноградина, – объяснил Бампо.
– Прекратите разговаривать, – оборвал их Голдфарб.
Тут Фаррагат с ужасом понял, что не помнит, куда дел заточенную клавишу от печатной машинки, которой срезал проволоку. Если ее найдут, решат, что это самодельное оружие, и по отпечаткам пальцев выйдут на Фаррагата, дадут ему еще три года. Он постарался припомнить до мельчайших подробностей, что именно делал в кабинете Маршека: пересчитал цветы, послушал рассуждения Толедо о фунтах мяса, вернулся в кабинет и заточил клавишу. Потом срезал проволоку, сунул ее в штаны, но в спешке и суете совсем забыл, куда дел злополучную клавишу. Погасив свет, он неуклюже прошел по коридору и объяснил воображаемому охраннику, что у него разыгрался ревматизм из-за постоянных дождей. Фаррагат не переживал по поводу цветов и украденной проволоки – но вот клавиша вполне могла его выдать. Только вот где она? На полу возле одного из горшков, воткнута в землю или осталась на столе у Маршека? Клавиша, клавиша! Он никак не мог вспомнить. Зато отлично помнил, что Маршек должен вернуться в тюрьму только часам к четырем в понедельник, да, в понедельник, оставалось только выяснить, какой сегодня день. Медицинское обследование проводили вчера или позавчера, или, может, позапозавчера, когда Рогоносец стащил у Петуха Библию? Он не помнил. Тайни принял дежурство у Голдфарба и вслух зачитал объявление, которое начиналось с даты, и Фаррагат понял, что сегодня только суббота. Так что пока можно не волноваться из-за клавиши.
Тайни объявил, что заключенные, которые пойдут фотографироваться, должны побриться, одеться и ожидать своей очереди. Сфотографироваться захотели все обитатели блока Д, даже Скала. Фаррагат понял, что затея с новогодней елкой вполне удалась. Заключенные действительно заметно успокоились. Он подумал, что, наверное, человеку, который идет к электрическому стулу, было бы очень приятно поковырять в носу. Спокойно и даже весело они побрились, вымыли подмышки, оделись и сели ждать.
– Я хочу переброситься в картишки со Скалой, – сказал Рэнсом. – Хочу переброситься в картишки.
– Да он же не умеет играть в карты, – отозвался Тайни.
– Но все равно хочет поиграть, – заявил Рэнсом. – Глянь на него.
Скала улыбался и кивал головой, как он всегда делал, когда на него обращали внимание. Тайни отпер дверь в камеру Рэнсома, тот вытащил стул в коридор и сел напротив Скалы с колодой карт.
– Одну тебе, одну мне, – сказал он.
Петух прошелся по струнам и запел:
Двадцать восемь кружек стояло на столе,
И вдруг одна свалилась – свалилась и разбилась.
Осталось двадцать семь.
Двадцать семь кружек стояло на столе,
И вдруг одна упала – упала и пропала.
Осталось двадцать шесть.
Двадцать шесть кружек стояло на столе…
Тайни разозлился:
– Ты что, хочешь, чтобы сюда снова вломился Чисхолм со своей бандой придурков?
– Нет-нет, – сказал Петух. – Конечно, не хочу. Я хочу совсем другого. Знаешь, если б я состоял в комитете по рассмотрению жалоб, или как там он называется, то прежде всего убедил бы остальных сделать нормальную комнату для свиданий. Ну да, все говорят, у нас она гораздо лучше, чем в «Стене», но если б ко мне однажды пришла красивая цыпочка, я бы не хотел болтать с ней через стойку, как продавец в магазине. Нет, если бы ко мне пришла цыпочка…
– Ты сидишь здесь уже двенадцать лет, – воскликнул Тайни, – и к тебе ни разу никто не приходил. Ни разу за все эти двенадцать лет.
– Может, ко мне кто-то приходил, пока ты был в отпуске, – возразил Петух. – Может, ко мне приходили, пока тебе удаляли грыжу. Тебя тогда не было полтора месяца.
– Это было десять лет назад.
– Не важно. Так вот, если бы ко мне пришла цыпочка, я бы не хотел болтать с ней через стойку. Я бы хотел сесть с ней за нормальный стол с пепельницей и принести ей лимонаду.
– У нас есть автоматы с лимонадом.
– Да, но мне бы хотелось болтать с ней и пить лимонад за столом, Тайни. За столом. За стойкой слишком официально. Если б я смог поболтать со своей подружкой за столом, тогда я остался бы вполне доволен и не стал бы причинять кому-нибудь вред или поднимать бунт.
– За двенадцать лет к тебе никто не пришел. Значит, в мире нет никого, кто бы о тебе помнил. Даже родная мать тебя давно забыла. Так же как и все твои сестры, братья, тети, дяди, друзья, подружки – тебе не с кем болтать за столом. Ты не просто труп, ты гораздо хуже. Ты весь в дерьме. А трупы не срут.
Петух заплакал или сделал вид, что плачет; зарыдал – или сделал вид, что рыдает. Заключенные блока Д услышали всхлипывания взрослого мужчины, который спал на обгоревшем матрасе; татуировки, в которые он вкладывал все деньги, давно выцвели, жесткие волосы изрядно поредели и стали седыми, тело одрябло; с миром людей его связывала лишь гитара да жалкие воспоминания о том, как он когда-то отвечал: «Хорошо, сэр, я постараюсь»; его имени не знал никто, ни один человек из живущих на этой планете, и даже он сам называл себя Петухом Номер Два.
В час дня прозвучал сигнал к обеду. Заключенным снова приказали выстроиться в ряд на расстоянии десяти шагов друг от друга. Они зашагали по коридору мимо охранников, которые казались еще более напуганными, чем утром. На обед дали всего два бутерброда – один с сыром, другой просто с маргарином. На раздаче стоял незнакомый парень, который не собирался общаться с Фаррагатом. В начале четвертого, когда заключенные уже давно сидели в камерах, им приказали идти в учебный корпус, и они пошли – как обычно, на расстоянии десяти шагов друг от друга.
В учебном корпусе царило запустение. Власти значительно урезали бюджет, обеспокоившись тем, как бы излишки образования не оказали негативного влияния на преступников. В большинстве кабинетов отключили свет, и находиться там было жутковато. Слева они увидели кабинет машинописи, где стояло восемь огромных, старых и давно забытых агрегатов, собравших на себя тонну пыли. В кабинете музыки не осталось ни одного инструмента, но на доске до сих пор белели нотный стан, скрипичный ключ и пара восьмых. В темном кабинете истории, куда свет проникал только из коридора, Фаррагат умудрился прочесть на доске: «Новый империализм закончился в 1905 году, и вслед за ним начался…» Похоже, это написали лет десять, а то и двадцать назад. В последнем кабинете слева горел свет, там суетились люди. Через плечо Рэнсома и Бампо Фаррагат увидел два ярких прожектора, закрепленных на грубых штативах. Прожекторы направили на искусственную елку, увешанную игрушками и гирляндами. Под ней лежали коробки разного размера, умело завернутые в яркую бумагу и перевязанные красивыми лентами. Фаррагат с восхищением рассматривал елку, размышляя о том, с какой тщательностью и даже любовью ее украсили и расставили подарки. Он подумал, что сейчас до него снова донесутся людские крики, вой сирен и страшные звуки борьбы не на жизнь, а на смерть, – но ничего такого не услышал, все затмила искусственная елка с чудесными блестящими игрушками и несметными сокровищами цветной оберточной бумаги. Он представил, как в своей белоснежной рубашке стоит рядом с грудой ярких коробок, внутри которых лежат кашемировые свитера, шелковые сорочки, шапки из соболя, остроносые тапочки и перстни с крупными камнями, какие обычно носят мужчины. Он представил, до чего странной покажется жене и сыну цветная фотография, которую они вынут из конверта в холле Индиан-Хилла: ковер, стол, отражающаяся в зеркале ваза с розами и жена с сыном, разглядывающие человека, который заснят возле потрясающе красивой новогодней елки, – а ведь, по их мнению, он опозорил семью, запятнал честь близких – уродливое бельмо на глазу, проклятье!
В коридоре стоял длинный обшарпанный стол, на нем лежали анкеты, которые приказали заполнить, – наверняка их придумал служащий из какого-нибудь агентства. В анкете было написано, что фотограф отпечатает две фотографии: одну бесплатно отправят по тому адресу, который укажет заключенный. Адресат обязательно должен быть членом его семьи, при этом разрешалось послать фотографию гражданской семье или гомосексуальному партнеру. Второй снимок вместе с негативом оставят в Фальконере, и заключенный сможет сделать сколько угодно копий, но уже за свой счет. Фаррагат вывел печатными буквами: «Миссис Иезекиль Фаррагат. Индиан-Хилл. Саутуик, штат Коннектикут. 06998». Потом заполнил анкету для Скалы, которого, как оказалось, звали Серфино де Марко, а жил он в Бруклине. Наконец Фаррагат вошел в ярко освещенный кабинет с подарками и новогодней елкой.
Для холодных, бездушных людей Рождество – глупый, ненужный праздник, для всех остальных – одно из самых великих таинств. Фаррагат всегда видел за дурацкими песнопениями божественный свет и чудо рождения Христа – и даже здесь, в этот дождливый августовский день, он, как ни странно, ощутил настоящий дух Рождества. Намерения людей были чисты. Миссис Спингарн искренне любила своего сына и не хотела смириться с его внезапной и чудовищной кончиной. Охрана искренне боялась бунтов и смерти. Заключенные хотели хотя бы на миг почувствовать себя свободными. Фаррагат постарался отвлечься от странного спектакля и разглядеть кабинет. На стене висела пустая доска, над ней – алфавит, написанный спенсеровским шрифтом давным-давно. Буквы были изящными, с петельками, хвостиками, завитками и росчерками, а буква «t» похожа на акробата. Над алфавитом красовался американский флаг с сорока двумя звездами. Белые полосы потемнели от времени, и их цвет напоминал желтизну мочи. Не очень красиво, но именно таким был флаг, под которым Фаррагат в свое время шел в бой.
Подошел фотограф – худощавый мужчина с маленькой головой. Настоящий денди, подумал Фаррагат. Фотоаппарат на штативе казался не больше футляра для наручных часов, но, похоже, фотограф был влюблен в него без памяти и не мог без него жить – настолько неохотно он отрывался от черной коробочки. Голос у фотографа был приятный, хотя и немного с хрипотцой. Делалось по два снимка. На одном – анкета с номером заключенного и адресом члена его семьи. На другом – сам заключенный. Перед вторым снимком фотограф мягко советовал, как лучше встать:
– Улыбнитесь. Чуть поднимите голову. Не ставьте ноги слишком широко. Готово!
Когда пришла очередь Петуха, он протянул свою анкету: «Мистеру и миссис Санта-Клаус. Ледяная улица. Северный Полюс». Фотограф широко улыбнулся и оглядел остальных, думая, что они от души посмеются над этой шуткой, но внезапно осознал всю глубину одиночества Петуха. Никто не засмеялся над этой болью. Петух понял, что его смерть при жизни очевидна для всех. Он резко повернул голову, задрал подбородок и весело сказал:
– Слева у меня просто потрясающий профиль!








